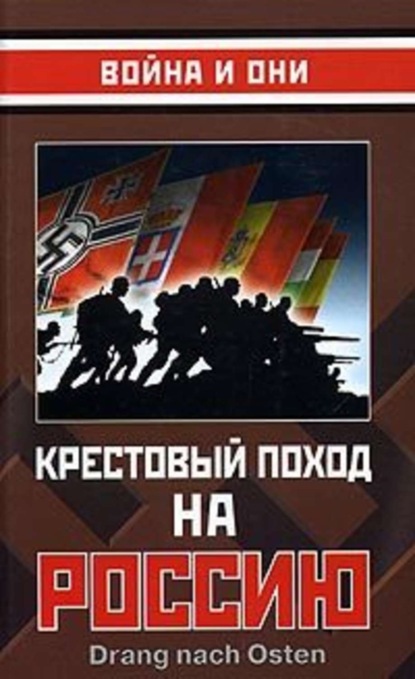 Полная версия
Полная версияКрестовый поход на Россию
На самом же деле Гитлер продолжал играть на противоречиях между венгерским и румынским правительствами, используя их для укрепления собственного господства в обеих странах. То и дело создавались германо-итальянские комиссии для расследования взаимных жалоб венгерского и румынского правительств, причем главное обвинение, которое хортисты выдвигали против Румынии, состояло в том. что последняя ослабила «внутренний фронт против большевизма»123. Одна такая комиссия во главе с германским и итальянским чрезвычайными посланниками Хенке и Руджиери «рассматривала» факты реквизиций, которые румынские фашисты проводили у венгров в южной части Трансильвании, а хортисты у румын в северной, в результате чего происходило массовое бегство населения с обеих этих территорий. Комиссия ограничилась лишь регистрацией таких фактов, хотя провела летом 1942 года в обеих частях Трансильвании почти два месяца124. Кроме того, там же существовали итало-германские военные комиссии по охране порядка, которые прямо вмешивались в действия местных властей.
Что же касается обещаний, то Гитлер давал их и венгерским, и румынским фашистам, причем последние пользовались большей его благосклонностью, чем хортисты. Как свидетельствовал позднее переводчик фюрера, Антонеску был «одним из ближайших к Гитлеру лиц и находился с ним даже в более близких отношениях, чем Муссолини. Он был единственным иностранцем, к которому Гитлер обращался за военными советами, находясь в затруднительном положении… Антонеску, подобно Гитлеру, произносил пространные речи, начиная обычно с создания Румынии, и все, что он говорил, связывалось каким-то образом с ненавистными ему венграми и с проблемой возвращения Трансильвании. Эта ненависть к Венгрии также делала его по духу близким Гитлеру, ибо фюрер презирал мадьяр». Наконец, если в беседе с венгерским премьер-министром Гитлер не возражал против развязывания венгеро-румынского военного конфликта в дальнейшем, то о том же он еще раньше говорил Антонеску125.
В упомянутой выше беседе Каллаи коснулся и внутренней политики Венгрии, заверив Гитлера, что не только продолжает линию своих предшественников, но и еще энергичнее борется с антифашистами. Пока Гитлер любезно беседовал с Каллаи, германский Генштаб потребовал от генерала Вереша, сопровождавшего в этой поездке венгерского премьер-министра, дополнительно направить на Восточный фронт две дивизии. «Сюрприз» гостям преподнес и Риббентроп. Он заявил Каллаи, что «обстоятельства требуют» увеличить на территории Венгрии число вербуемых в войска СС с 20 до 30 тыс. Каллаи дал и на это согласие126. По возвращении в Будапешт он выступил с отчетом о поездке перед руководством правительственной партии, а также в комиссиях по иностранным делам обеих палат парламента.
Кроме того, документальные данные свидетельствуют о том, что венгерская промышленность и сельское хозяйство полностью обслуживали Германию. Еще в июне 1941 года между Венгрией и Германией был заключен договор, предусматривавший постройку Дунайского авиационного завода и производство самолетов на сумму 1 млрд. пенге по так называемому плану Мессершмитта, причем расходы по этому соглашению целиком брала на себя венгерская сторона127.
В результате постоянного нажима из Берлина фактическая стоимость продукции по этой программе достигла в 1943 году 1,5 млрд. пенге и львиная доля ее была отправлена в Германию. Всего же было выпущено 640 истребителей, 273 бомбардировщика и 156 транспортных и других самолетов. В июле 1943 года договор был расширен и стоимость авиационных поставок из Венгрии в Германию увеличилась до 1178 млн. пенге128.
Кроме того, венгерский экспорт различных военных материалов для германской армии уже к апрелю 1942 года составил 425,8 млн. пенге. В 1942 году венгерское правительство заявило, что готово вывозить в Германию на протяжении 45 лет по 1 млн. т бокситов в год. В дальнейшем это обязательство был увеличено в два раза129. Всего за время войны Венгрия поставила германской военной промышленности более 4,5 млн. т этого ценнейшего сырья130.
Под немецкий контроль перешли и богатейшие венгерские марганцевые рудники. В 1943 году добыча этого вида сырья, также почти целиком отправляемого в Германию, была увеличена более чем в два раза по сравнению с 1938 годом и составила 102 711 т131. 23 апреля 1942 года хортисты подписали в Берлине секретный протокол, согласно которому они затем вывезли в Германию 50 тыс. ц магнезита, а также ежегодно поставляли 20 тыс. гектолитров вина германской армии на Восточном фронте. В то же время при определении товарообмена все просьбы венгерской стороны, в частности, о поставках в Венгрию каменного угля, были отклонены, но зато увеличены контингенты второстепенных товаров, не имевших рынка сбыта ни в Германии, ни в Венгрии132.
Непрерывно возрастал вывоз продуктов сельского хозяйства. Еще в декабре 1941 года Бардоши дал Риббентропу обещание еще больше сократить снабжение населения. Только в 1941—1942 годах было отправлено в Германию 10 млн. ц пшеницы, 483 тыс. свиней, 190 тыс. ц жиров, 230 тыс. ц муки и большое количество другого продовольствия133.
В дальнейшем эти поставки все более возрастали, причем они производились в кредит, а по существу бесплатно. Об их размерах можно судить хотя бы по тому, что так называемые венгерские активы в торговых отношениях с Германией увеличились за год, с марта 1942 года до апреля 1943 года, с 300 млн. немецких марок до 1121 млн. марок134. При этом надо учесть, что цены на венгерские товары, вывозившиеся в Германию, были повышены с июня 1941 года лишь на 17%, в то время как на германские товары, отправляемые в Венгрию, – на 90%.
9 сентября 1942 года венгерское правительство утвердило очередной секретный германо-венгерский договор о поставках в Германию 220 тыс. ц бобовых, 2 млн. ц кормов, 30 тыс. ц сала и животных жиров, 115 тыс. ц битой птицы, 206 тыс. голов крупного рогатого скота, свиней и овец, 1 млн. банок консервированного мяса, а также 140 тыс. гектолитров вина. Кроме того, германские фирмы должны были получать 60 тыс. ц древесного угля в год и большое количество другого сырья135. Этим же протоколом подтверждалось, что и в будущем 60%о продуктов сельского хозяйства Бачки будет вывозиться в Германию и 40% – в Италию. Хортисты были весьма довольны тем, что при ограблении Бачки хоть кое-что досталось и на их долю, в том числе 80 тыс. ц конопли136.
Кроме подобных годовых соглашений, заключались разовые договоры. Например, один из них касался поставки германской армии 88 200 т венгерских нефтепродуктов, 129 тыс. т бензина, в том числе 6 тыс. т авиационного, и т. д. Гитлеровское правительство постоянно требовало увеличить вывоз венгерских бокситов и марганцевой руды не только за счет расширения добычи, но и посредством сокращения потребления внутри страны. Что же касается германских поставок, то они неизменно уменьшались. В частности, было отказано в снабжении медью, понолом, инсулином, формальдегидом. Общий экспорт сырья в Венгрию был сокращен на 20 млн. марок, поставки железа – на треть137.
Вся продукция металлургической промышленности направлялась на военные нужды. Машиностроительные заводы были почти полностью переключены на производство оружия, боеприпасов, механизированных средств передвижения для армии. Предприятия Манфреда Вейса, Данувия, МАВАГ, заводы охотничьего снаряжения и оружейный, а также предприятия «Акционерного общества оружия и машин» и государственный завод в Диошдьере производили винтовки, автоматы, минометы, артиллерийские орудия. Минометы изготовлялись также на заводе по производству стальных изделий и на вагоностроительном заводе в Дьере. К весне 1943 года, кроме того, выпускалось ежедневно 1540 тыс. патронов и 42 тыс. артиллерийских снарядов138.
Приведенные примеры не оставляют сомнения в том, что значительная часть экономических ресурсов и производительных сил Венгрии была поставлена хортистами на службу планам германского фашизма. Как докладывал Берлину в 1943 году немецкий посланник в Будапеште Ягов, 60% венгерской военной промышленности работало на гитлеровскую Германию139.
Пропаганда, которую вели в венгерской армии хортисты, строилась в основном на тезисе о том, что союз с Германией явился большой политической удачей, ибо он позволил Венгрии «приобрести» Закарпатскую Украину, южную часть Словакии, север Трансильвании и Югославскую Бачку. Хортисты уверяли солдат, что Венгрия ведет антисоветскую войну лишь как союзница Германии, а также с целью отблагодарить Гитлера за вышеуказанные «приобретения» и удержать их «на вечные времена». Наконец, усиленно подчеркивалось, что венгерские войска посылаются на оккупированную территорию «временно» и исключительно «для охраны порядка в тылу»140.
Ненависть к большевизму хортистская пропаганда пыталась разжечь с помощью воспитания солдат в националистическом, агрессивном, антисоветском духе. Носителем этих настроений была значительная часть офицерства. А о том, что они собой представляли, можно судить по заявлениям некоторых хортистских офицеров, сделанным в письмах и в беседах с солдатами.
Вот одно из них: «Скоро война окончится, и Венгрия будет такой, как во время короля Матяша: страной трех морей – Черного, Средиземного и Адриатического». И другое: «Для Венгрии настало время действовать. Венгерский королевский хонвед снова занял место в строю, чтобы участвовать в крестовом походе против большевиков…» О том же говорил начальник венгерского Генштаба Сомбатхеи, обращаясь к солдатам, отправляемым на фронт: «Пришло время, когда культурная Европа решила уничтожить большевизм…» Наряду со всем этим хортистское командование с целью материально заинтересовать солдат обещало им премии. Так, в 37-м пехотном полку 13-й дивизии было объявлено, что хонвед, подбивший советский танк, получит 30 га земли на Украине. В 54-м пехотном полку 7-й дивизии сулили за захват пленного выдавать тысячу папирос. Но ни в том, ни в другом случае охотников заслужить эти «премии» не оказалось141.
Что касается использования венгерских войск, то часть из них была брошена на передовую линию фронта, а «охранным частям» пришлось вести напряженные бои с партизанами, особенно в Брянских лесах.
У венгерских солдат вызывал недовольство и даже озлобление также тот факт, что командование стремилось скрыть от населения Венгрии правду об их положении на фронте и с этой целью усиливало военную цензуру. 4 апреля 1942 года командующий венгерской группой войск на Восточном фронте издал приказ, предписывавший уничтожать не проверенную цензурой корреспонденцию ввиду того, что на территорию страны прибывало большое количество солдатских писем «нежелательного» содержания. «Образцовым» в этом отношении оказался командир взвода лейтенант Месарош, который порвал письмо солдата Йожефа Беликаша, сообщавшего домой, что страдает от морозов. В приказе № 28 от 16 января 1942 года командир 3-го батальона 51-го пехотного полка пригрозил привлекать к ответственности офицеров в случае передачи солдатам писем, «не прошедших проверку»142.
Ко всему этому нужно добавить, что венгерские войска несли тяжелые потери с самого начала боев с Красной Армией и партизанами. Только за период с 15 октября 1941 года до середины августа 1942 года они составляли 31 818 человек. В этих сражениях 102 и 109-я венгерские дивизии лишились до 80% личного состава, а 108-я была фактически уничтожена. Явившись в новом составе на фронт в сентябре 1942 года, последняя менее чем за четыре месяца потеряла еще около 3 тыс. убитыми и не менее 3 тыс. ранеными, бросила на поле боя пять танков, две бронемашины, шесть орудий, большое количество пулеметов, винтовок и боеприпасов143.
2-я венгерская армия в составе девяти дивизий и танковой бригады, выведенная в апреле – июле 1942 года на советско-германский фронт и находившаяся в подчинении командующего немецкой группы армий барона Вейхса144, еще до выхода на Дон понесла большие потери. В июне под Тимом и около Дударека, в августе – сентябре под Коротояком и Сторожевым, в районах Урыва и Александровки ее 6, 7, 9, 20-я и другие дивизии лишились до 50% своего состава145. Например, 20-я пехотная дивизия только за один день в боях с частями Красной Армии потеряла 1400 человек убитыми146.
Такая же судьба постигла 13-ю дивизию, которой командовал Йожеф Грашши, учинивший кровавую расправу в районе Нови Сад в январе 1942 года. Заверив Хорти, что дивизия отправляется на Восточный фронт «добровольно», он вскоре после прибытия на территорию СССР бросил против партизан 31-й полк, который тогда же был полностью уничтожен. 7-й полк этой же дивизии в боях с Красной Армией в августе и сентябре потерял более половины состава. Еще больше жертв понес 37-й полк, в отдельных ротах которого осталось по нескольку человек. Тогда же потеряла более 700 человек убитыми и ранеными 1-я будапештская мотобригада147.
В найденном на правом берегу Дона в районе Сторожевого дневнике ефрейтора 3-го батальона 1-й венгерской мотобригады Иштвана Балога оказалась следующая запись от 16 августа 1942 года: «Грустное воскресенье. Многие венгерские товарищи поливают своей кровью русскую землю. Убитые покрывают землю. Не успеваем отвозить раненых». Этот дневник, начатый в Будапеште 18 июня, ярко показывает, как менялось настроение и у тех солдат, которые были обмануты пропагандой и надеялись на победу германского оружия.
Первая запись в нем гласила: «Уезжаем с грустью, но с уверенностью в грядущей победе». 1 июля: «Везде видны остовы разбитых немецких машин. Не покидает ли немцев военное счастье? Верим богу, что оно останется с ними и с нами, несмотря на отдельные поражения». 17 августа: «Теперь только бог нам может помочь». 19 августа: «Не дождемся улучшения положения. Хорошо бьют русские снайперы. Стоит только показаться, как они тебя продырявят. Обычно смертельно». 20 августа, после боя, «в котором земля содрогалась от разрывов бомб и снарядов», Иштван Балог записывал: «Не покидай меня, Пресвятая богородица!» 21 августа: «Подсчитываем потери роты: 20 убитых, 94 раненых, трое пропали без вести. Настроение подавленное. Все друзья ранены…» За 20 дней до гибели, 1 сентября 1942 года, Иштван Балог писал: «Вижу нашу судьбу: мало шансов на возвращение домой. Поскорее бы окончилась война, иначе мы все погибнем. Половина уже погибла…»148
Гнетущее впечатление производили на солдат огромные потери от огня советской артиллерии. Например, танковый полк, входивший в состав 2-й венгерской армии и насчитывавший 160 танков, в 10-дневных боях под Урывом и Коротояком потерял 138 из них149.
Моральное состояние венгерских солдат ухудшилось и из-за плохого питания. Их возмущало то обстоятельство, что немецкие части снабжались несравненно лучше. 27 июня 1942 года начальник Генштаба венгерской армии констатировал: «Часто имеют место сильные столкновения, что не способствует добрым отношениям между союзниками». О «нежелательных трениях» между немецкими властями и командованием венгерских частей говорилось незадолго до этого и в секретном приказе хортистского командования. Командиры дивизии и полков пытались пресечь эти противоречия угрозами. В одном из приказов по 46-му пехотному полку в июне 1942 года говорилось: «За выражение недовольства питанием виновные будут наказаны. Но все должны знать, что больше 120 г мяса и 150 г хлеба все равно никто не получит»150.
Сокрушительные удары по хортистским войскам наносили и части Красной Армии, и партизанские отряды. Против последних были дополнительно брошены весной и летом 1942 года войска 2-й венгерской армии. Это лишь увеличило потери оккупантов. Только при разгроме венгерского гарнизона в с. Шиловка партизаны уничтожили 150 солдат и взяли в плен 41. В сражении с партизанами у дер. Коломино венгерские части потеряли только убитыми свыше 200, а в уличных боях за Хиней – более 100 солдат и офицеров151.
Фронт, а также «партизанский театр» боевых действий страшили не только венгерских солдат, но и высших офицеров хортистской армии, что находило отражение в приказах командования. Так, в директиве! изданной Генштабом в апреле 1942 года, говорилось: «Борьба против Советов близко познакомила нас с особым и безжалостным средством борьбы: партизанским движением. Удивительными являются проявленные русскими при этой форме борьбы фанатизм, презрение к смерти и выносливость, с которыми мы столкнулись. Потрясающи те огромные масштабы, в которых русские применяют этот способ. Развивающееся на все большей территории партизанское движение уже принимает формы народного движения»152.
Что касается венгерских солдат, то покидать фронт их заставлял не только страх. Многие из них не хотели воевать за интересы германских союзников. О подобных настроениях солдат прямо говорилось весной 1942 года в приказе командира 3-го батальона 47-го пехотного полка майора Карменди. А командир 44-го полка подполковник Пулис тогда же писал в донесении, что во время боя с партизанами венгерские артиллеристы спрятали снаряды от орудий. Наконец, генерал Йожеф Хеслени в одном из своих приказов вынужден был констатировать, что венгерские солдаты «бросают оружие или продают его русским вместе с боеприпасами, чтобы, не имея оружия, не воевать»153.
В хортистской армии распространялись пораженческие настроения. Попытки же командования поднять моральный дух войск были безуспешны. Это вынуждено было признать и хортистское военное командование. Начальник Генштаба Сомбатхеи заявил в письме на имя Хорти: «Как бы пропаганда ни старалась вдолбить, что лучше защищать родину подальше от ее границ, сознание, что венгру необходимо воевать на расстоянии 2000 км от его родины, никак не укладывалось в его голове»154.
Еще тревожнее было положение в тех воинских частях, где имелись представители национальных меньшинств Венгрии. «У русин часто происходят массовые побеги, имеют место случаи неповиновения и т. д.», – сообщалось летом 1942 года в одном из донесений с Восточного фронта. Далее заявлялось, что причиной разгрома 13-го егерского полка, потерявшего в одном из боев 80% офицеров и 40% солдат, явилось то, что «отряды обеспечения, состоявшие из людей славянских национальностей, не позаботились о подвозке боеприпасов»155.
Не доверяя солдатам-«инородцам», фашистское командование сводило их в отдельные, вооруженные только винтовками, роты во главе с «верными и решительными командирами». Что же касается закарпатских украинцев, то в некоторых воинских частях их вообще разоружили и перевели в рабочие роты. Когда 43-й полк вышел у с. Марки на фронт, у 30 русин отняли оружие, дали лопаты и кирки и заставили под конвоем рыть окопы, а позднее перевели их в подносчики патронов к пулеметам156.
Все это заставило начальника хортистского Генштаба прийти к выводу, что в венгерской армии «дала о себе знать идея пацифизма»157.
Не хотели воевать и солдаты-венгры. Старшина пулеметной роты 1-го батальона 35-го пехотного полка записал 19 июля 1942 года в своем дневнике: «…Каждый ломает голову над тем, когда же нас сменят? Особенное разочарование вызвало у солдат заявление генерала Янн (командующего 2-й венгерской армией. —А. П.), что солдаты могут рассчитывать вернуться домой не раньше сентября будущего года». Участились открытые выступления солдат против войны. В одном из соединений в июле 1942 года арестовали и отправили в Венгрию группу «бунтовщиков». Побывавшие на фронте в тот период депутаты венгерского парламента, констатируя тяжелое состояние армии и плохое обеспечение питанием и боеприпасами, отметили рост антивоенных настроений у солдат и офицеров. Венгерские части, заявили они, «нужно было гнать в наступление с помощью оружия»158. 8 августа 1942 года лейтенант Ватор стрелял по отступавшим солдатам своей роты.
Начало коренного перелома в ходе войны. Разгром венгерской армии на Дону
Разгром 2-й венгерской армии на Дону в начале 1943 года оказал огромное влияние на положение в Венгрии. Он нанес хортистским вооруженным силам такой удар, от которого они уже не смогли оправиться. Поскольку одновременно были разгромлены и пленены отборные гитлеровские войска, то это развеяло в прах расчеты правительства М. Каллаи на победу фашистской Германии в войне против Советского Союза.
Чтобы яснее представить себе последствия разгрома 2-й венгерской армии, необходимо прежде всего обратиться к обстоятельствам ее гибели.
Как уже отмечалось, она понесла большие потери еще осенью 1942 года в боях, которые вели советские войска на правом берегу Дона. По данным венгерского Генштаба, только пять пехотных дивизий и танковая бригада к октябрю потеряли в этих сражениях 30 тыс. убитыми и ранеными159. Однако хортистское правительство продолжало посылать на фронт пополнения, но от этого 2-я армия вовсе не стала более боеспособной. На ее состоянии сказывался тот факт, что гитлеровское командование, не имея возможности полностью обеспечить материально-техническое снабжение всех находившихся в его подчинении войск, отдавало предпочтение немецким воинским частям за счет своих «союзников», в том числе и венгров. Последние имели устаревшее вооружение, страдали от плохого питания и отсутствия зимней одежды160.
Любопытно, что причину такого положения отлично знало высшее хортистское командование. Так, в ответ на сообщение главного интенданта 2-й армии о том, что на большинство из «200 представлений по этому вопросу» гитлеровское и хортистское командование не дали ответа, прибывший на фронт начальник венгерского Генштаба Сомбатхеи сказал: «Отсутствие ответа – тоже ответ»161. Свою осведомленность в этом отношении он подтвердил и в воспоминаниях, написанных им в тюрьме после войны. В них, в частности, говорится, что зимняя одежда для венгерской армии была вывезена на фронт, но доставить ее в части помешали в основном «трудности, связанные с транспортом, находившимся в руках немецкого командования»162.
Тем временем гитлеровское командование, стремясь установить полный контроль над 2-й венгерской армией, а заодно и над находившейся южнее итальянской, расположило в начале января 1943 года на стыке между ними две немецкие пехотные дивизии с группой бронетанков. Вместе с 1-й венгерской бронетанковой дивизией они образовали «резервный» корпус. Возглавивший его гитлеровский генерал Крамер формально находился в подчинении командования 2-й венгерской армии, но фактически сам держал ее под своим контролем. Согласно специальному разъяснению, корпус Крамера мог быть брошен в бой только по приказу Гитлера163.
Так обстояло дело в момент, когда уже началось наступление Красной Армии в районе Волги. Беспокойство правительства Венгрии усилилось в особенности после того, как военный министр Вилмош Надь, сменивший на этом посту Барту, доложил 7 января, что румынские и итальянские войска уже понесли большие потери и что следует ожидать сильного удара также по венгерской армии. Однако ни министр, ни правительство в целом не сделали из этого никаких выводов, возложив все надежды на немецкие резервы164.
Мощный удар войск Воронежского и Донского фронтов Красной Армии в конце 1942-го и в начале 1943 года был нанесен и по 2-й венгерской армии. 12 января 1943 года с Урывского плацдарма был прорван фронт на ее участке. Это наступление, как свидетельствует целый ряд документов, явилось неожиданностью для венгерского командования и вызвало в первые же дни смятение и панику в армии. Связь между дивизиями и полками была прервана. Офицеры в панике бросали свои подразделения, а оставшиеся без начальников солдаты бежали куда глаза глядят или сдавались в плен165. Запланированное ранее венгерским командованием на утро 13 января контрнаступление успеха не имело. Из поддерживавших его 60 немецких танков 56 было уничтожено166.
В течение трехдневного боя с 12 по 14 января были разгромлены 7, 20 и 12-я дивизии, а также 700-я бронетанковая немецкая группа. 15 января войска 3-го венгерского корпуса были полностью отрезаны от других частей 2-й армии. Ее командующий генерал Янн, пытаясь организовать сопротивление, в ночь на 16 января приказал «держаться до последнего человека», но уже на следующий день дал указание «отступать в направлении Буденновки». Однако вместо «организованного отступления» продолжалось паническое бегство. Пытаясь остановить солдат, офицеры начали расстреливать «каждого десятого». Но когда и это не помогло, начальник штаба 2-й венгерской армии Ковач по телефону потребовал от командования 3-го корпуса «устроить резню похлеще!»167.
Но уже 30 января он был вынужден приказать «мелкими группами пробиваться на запад». Это был последний приказ штаба. 2-я армия перестала существовать. Ее остатки откатывались на запад, продолжая нести крупные потери. Уже к 19 января 27 500 офицеров и солдат хортистской армии были пленены. В конце января был разгромлен и 3-й корпус. Тогда же сдались в плен командир корпуса генерал-майор Штом и другие генералы и офицеры, а 7 февраля так же поступили остатки этого соединения.
Вы ознакомились с фрагментом книги.



