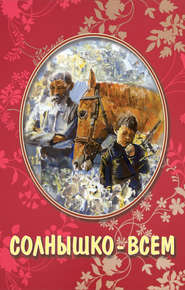скачать книгу бесплатно
Солнышко – всем (сборник)
Владимир Иванович Данчук
Валерий Викторович Сдобняков
протоиерей Владимир Аркадьевич Чугунов
Валентин Арсеньевич Николаев
В книге собраны рассказы о детях разных поколений, начиная с Великой Отечественной войны и до наших дней.
Владимир Данчук, Валерий Сдобняков, протоиерей Владимир Чугунов, Валентин Николаев
Солнышко – всем
© В. А. НИКОЛАЕВ – текст
© В. А. ЧУГУНОВ – текст
© В. В. СДОБНЯКОВ – текст
© В. И. ДАНЧУК – текст
© МОФ «Родное пепелище» – дизайн, верстка
Валентин Николаев. Кусок хлеба
И в наш дом вернулся отец.
В длинной солдатской шинели, с мешком на плече и с лёгким пустым рукавом. Он вошёл вечером, на закате, когда мы с матерью молча чистили возле пыльного солнечного окна перемёрзлую картошку. Небритый, худой, отец неловко, одной рукой обнял сунувшуюся навстречу мать, улыбнулся, а мешок медленно пополз с плеча, и вот скользнул по рукаву, качнулся на согнутом локте – и улыбка отца погасла… Но всё равно теперь мы были самыми счастливыми людьми в деревне. Ещё бы. – Жив!
И другая жизнь пошла в доме: запахло махоркой, резиновым клеем; рыбачьи иголки появились на столе, молоток, рашпиль… На следующее утро отец надел довоенный пиджак, фуфайку и ушёл на улицу. Он долго ходил возле дома, брал в руку то молоток, то клещи, то топор… Всё начинал что-то делать – стукал, тесал, но тут же бросал, брался за другое… за третье.
Я ходил за ним по пятам, молча сердился. Но потом понял: «Руку учит…»
Поспешной, взбалмошной была та памятная весна. Везде только и слышалось о скорой победе: у колодца, у перевёрнутых на берегу лодок…
А вместе с победой отчаянно наступала весна: повсюду таяло, журчало, парило. Днём и ночью летели птицы. Скворцы, привыкая, задумчиво обсиживали берёзы возле дома. Угольно-чёрные с крапленой грудью, будто обрызганной семенами укропа, отдохнув, они начинали высвистывать. Над озером радостно вскрикивали кулики, чайки, плакали чибисы…
Всё жило, торопилось.
Близилась Пасха, потом Первое мая, но главное – начало рыбного лова: внизу под горой истаивали в озере последние зеленоватые льдины, а мутная вода лезла через тын, размывала огородные грядки. В деревне поговаривали снова о рыболовецкой артели (в войну она распалась), считали людей – и сокрушённо качали головами: одни старики да бабы.
И всё же к лову готовились. Каждый – как мог.
Мы – тоже.
Я не знал, как дождаться, когда отец откроет сарайку, где всю войну хранились наши вентери, сети, перетвор…
– Сопрели, поди, – не раз говаривала мать, – крепкие-то все людям поотдавал, как уходил… говорит, может, и не потребуются больше…
Пыльные кольца вентерей мы вытаскивали на улицу, растягивали по заулку. Я выискивал дыры, помечал их щепочкой или прутиком. А потом в три руки мы с отцом их зашивали.
Дня за два до Пасхи мы осмолили лодку. Многие лодки уж были спущены, завидно качались, тёрлись смоляными боками об игольчатые развалюхи-льдины.
Но ещё больше лодок сиротливо так и валялось по-зимнему вверх дном – не конопаченные и не смолёные: хозяева их где-то всё ещё воевали.
В воскресенье, когда не надо было вставать и идти в школу, меня разбудили затемно, почти в полночь.
На столе слабо горела лампа.
– Ну как, рыбак, до чаек встаём? – спросил отец, гладя своей рукой мои волосы. – Поедешь?..
– Да, не трогай, пусть понежится, и так каждый день в школу… – вступилась мать. – Поехали.
Эти её слова словно подхлестнули меня: разве я мог отдать кому-либо свой первый выезд с отцом!
…И мать осталась стоять на холодном тёмном крыльце под звёздами, а мы по песчаному, затвердевшему от утренника пригорку тихо спустились к озеру.
В чёрной воде шевелили ресницами звёзды, по всему берегу слышался сдержанный говор, взвизгивали уключины, мокро чмокали и плескали вёсла… Все торопились отчалить.
Оттолкнулись и мы. Я сел в вёсла, отец – на корму, править. Весной наше озеро становилось проточным. И поэтому нас легко подгоняло течением.
Между нами куча вентерей громоздилась копной, из-за неё виделась мне только голова отца. Он курил, вглядываясь вперёд. Иногда, когда слышался шум переливающейся воды, начинал толкаться веслом о дно, говоря:
– Отжимайсь, отжимайсь… Слышь, бурлит, как с ножа рвёт – грива… Вылезешь на сухо…
Светало. Мы проплыли через затопленный кустарник, согнали стаю чирков и оказались на тихой, без течения, воде, окружённой кустами. Рядом никого не было, уключины повизгивали где-то далеко. Отец всё покашливал, оглядывался кругом, брал шест, мерял дно…
– Вот тут наша рыба, – сказал он. – Запоминай место. Давай-ка попробуем, пока ветра нет.
И мы сбросили в воду первый вентерь. Я с носа, а отец с кормы воткнули притычи крыльев, потом я прыгнул к вёслам, быстро стал отгребать, а отец с кормы натягивал пятник, и кольца, правильно растянутые, с шипением, пузырясь, уходили под воду. И вот над водой остались только три прямых конца притычей. – Вентерь поставлен! Мы сидим и удивляемся, как ловко, согласно всё у нас получилось… Но отец ещё сомневается. Он велит подгрести мне снова, берёт и качает каждую тычку, для верности пристукивает сверху обухом топора.
Впритык к этому вентерю мы поставили враздержку другие. Потом невдалеке облюбовали новое место…
Ещё не всходило солнце, а уж куча в лодке стала ниже бортов. Лодка полегчала, легко было и нам обоим. Отец что-то мурлыкал, напевал про себя… Я радовался, что теперь будет не тяжело грести.
А на реке шла своя жизнь. Там, за дубовыми гривами, уминая под себя воду, шумели плицами пароходы, пугливо вскрикивали гудками – и из-за голых вершин выскакивали белые шапки пара. В прогалах дубняка мелькали цветные флаги на мачтах, играла на всю реку музыка… пароходы шли первым рейсом в верховья. Где-то на реке были сейчас и те лодки, что отчаливали вместе с нами от деревни. И я потихоньку завидовал им.
Отец глядел, глядел на дубняк и вдруг, будто угадав мои мысли, пристукнул веслом, сказал:
– А что, давай и мы вентеришка три воткнём на стрежне, а?..
– Давай!..
И мы радостные направились туда, где были флаги, музыка, люди… Поднимались по протоке. Здесь течение было такое быстрое, что я грёб почти впустую. Лодка подвигалась только тогда, когда отец подталкивался кормовиком.
«Только бы выгрести…» – думал я, нажимая во всю силу на вёсла, а что будем делать дальше, как-то не представлял. И вот, наконец, мы выскочили, я сразу опустил вёсла, будто достиг конечной цели, – и рвущее течение реки так лихо крутануло и поволокло нас, оттягивая на середину реки, что мы оба испугались, схватились скорее за вёсла…
Насилу вернулись мы к берегу, снова в протоку.
И до чего же быстро нас вышвырнуло обратно в озеро!
Здесь вместе с пеной, брёвнами нас тихо кружило на спокойной воде. Мы сидели оба подавленные. Не говорили и старались не глядеть друг другу в глаза… Каждый чувствовал себя виноватым. У меня ломило спину, жгло обе ладони: на них прорвались мозоли. Не хотелось не только никуда ехать, даже – шевелиться.
И всё же остаток вентерей мы кое-как поставили… Тоже в тишинке, в озере. По-моему отец даже не выбирал для них настоящего места. Поставил так – лишь бы выкинуть…
– Теперь греби помаленьку к дому, – сказал отец.
И хотя лодка была пустой, лёгкой, а я грёб изо всей силы, мы едва двигались. Я замечал это по грязному остатку снега на берегу: он всё был напротив нас.
Что ж – поднимались против течения. «Если б не мозоли! И зачем захотели в реку? Всё утро пропутались…» – думал я.
Рыбаки возвращались домой.
Лодки, пеня встречной бурлящей водой, шутя обгоняли нас. Им было хорошо – их правильщики бодро взмахивали кормовиками враз с гребцами и лодки совались вперёд, будто кто подталкивал их из воды.
– С помощником начинаешь?.. – кричали с лодок отцу.
– Сколько штук воткнули?
Отец коротко, как бы через силу, отвечал им, а они удалялись. Подбадривая нас:
– Давай, давай… План от рыбзавода большой, всем хватит…
И новые лодки посвистывали мокрыми уключинами мимо нас. А я все ниже стыдливо клонил голову, всё упрямей грёб, стараясь не думать о боли в спине и в ладонях. «Только не надо останавливаться… – думал я. – Грести и грести… Пусть проедут, а там повернём к берегу – отдохнём…»
– А давай-ка проверим наши первые вентеря! – неожиданно весело крикнул отец и кинул кормовик на дно. – Вдруг попало! Подвигайсь…
Он сел рядом со мной, взял одно весло, и мы понеслись наперерез мутно-пенной воде к кустам, где стояли наши первые вентери. Когда вырвались из кустов, я глянул вперёд: на притычах сидели чайки. – «Есть!» – подумалось с радостной надеждой. Первый вентерь оказался пустым. Второй… третий… И вот в четвёртом, как только отец взялся за пятник, притычи крыльев закачались.
– Ого… – вырвалось у отца. Он повыше поднял пятник, и вода в вентере с брызгами всхлеснулась…
– Хорош… – улыбался отец, поглаживая чёрный небритый подбородок. – Вишь, судак забрёл – не зря мучились…
Он присел, вытягивая в лодку кольца вентеря, раздёрнул петлю завязки, ухватил судака, потащил и… вздрогнул от хлёсткого шлепка по воде, от брызг в лицо…
– Э-эх-х… – вырвалось с досадой, и стало тихо.
Отец медленно вытащил мокрый рукав из прорванного вентеря, сел на корму. Долго глядел, не моргая, перед собой, будто наблюдал, как по краю застрявшей в кустах льдины семенил, нервно подёргивал хвостиком, тиувикал, будто на что жалуясь, одинокий серенький куличок… Судак ушёл… Я вспоминал слова матери и ругал отца: зачем он отдал крепкие вентери людям, а себе оставил гнильё…
Отец сидел не шевелясь, положив на колени красную виноватую руку; солнечные капли блестели на его чёрной бороде, на бровях. И он почему-то не вытирал их.
Я знал это – нет большей обиды для рыбаков, когда рыбина уходит из рук и ещё плеснёт в лицо… Любой рыбак тут же поспешно утирается, как от позорного плевка.
Другое дело – когда рыбина в лодке. Тут рыбак не торопится утираться: он как бы хочет продлить ощущение победы, удачи…
Но отец сидел, не утираясь.
Он тяжело вздохнул и полез за пазуху; достал сложенную во много раз газету. Зажав её в коленях, он ловко оторвал бумажку. Потом, так же помогая коленями, стал скручивать цигарку. Но бумага, намокая, рвалась, красные озябшие пальцы были неуклюжими. Он бросал, отрывал новые бумажки, настойчиво пытался скрутить…
А я и хотел и не мог ему помочь: как-то раз дома, глядя, как мать крутит ему цигарку, я тоже хотел скрутить, но отец строго оборвал меня:
– Не смей… а то сам навадишься…
Виновато, как-то по-детски, улыбнувшись, отец все-таки протянул газету мне:
– Скрути, на…
А прикурил сам, зажав коробок так же в коленях.
И только когда затянулся, обвёл счастливым взглядом всё вокруг, утёрся…
– Ничего… – сказал он, стараясь улыбнуться, и подмигнул мне. Чайки, видя что мы притихли, опускались всё ниже, вновь намереваясь присесть на притычи. Одна из них, спустившись чуть ли не до самой головы отца, страдая, вскрикнула: «Тр-р-ри-и-э!»
Отец вздрогнул… Потом, медленно подняв голову, он долго глядел, как она скользит в лёгком спокойном небе, выдохнул:
– Э-эх, милые двукрылые…
И отвернулся, вытирая кулаком глаза…
К деревне мы подплывали одни. Лодки больше не обгоняли нас: все давно возвратились. Подавленные и усталые, мы скреблись возле самого берега. Отец подталкивался шестом. Хотелось есть… Есть хотелось всегда, мы, мальчишки, к этой мысли давно привыкли – ведь шла война. Я грёб, взглядывал на отца, и невесёлые думы шли на ум: «Возьмут ли теперь его, однорукого, в рыбацкую артель? Матери тоже нельзя… Она в войну набродилась в худых сапогах – теперь ревёт от ревматизма. А мне?.. – мне надо в школу… Из-за войны и так пропустил год – хожу только в третий класс…»
– Идут… – мрачно обронил отец, глядя по берегу за деревню.
Я обернулся. Краем поля медленно подвигались к деревне одинокие сгорбленные фигурки. Передние заходили в деревню, а из-за леска в поле выходили новые люди.
Это шли нищие, шли за милостыней…
Каждое утро, идя в школу, мы встречали их в поле, многих знали в лицо. Шли они из окрестных деревень и из дальних, иногда вёрст за десять, как поясняли нам матери.
Мы их жалели: так они были оборванны, обутые во что попало. Бывало, в зимнюю стужу, оглянувшись, мы видели, как у некоторых сквозь рваные, обёрнутые тряпьём опорки краснеют голые пятки…
Было среди них и несколько пленных немцев – высоких, худых, мосластых…
И хоть были они теперь тихи, покорны – на них мы глядели колюче, как зверьки. Знали мы, что это они убивают там наших отцов и братьев…
Эти пленные жили в бараках в лесном посёлке, работали, как вольные, вместе с нашими людьми и никуда не убегали… Это, последнее, удивляло нас больше всего.
Нищие знали, что у нас в деревне живут рыбаки и шли с надеждой выпросить хоть сухую рыбинку, чтобы сварить из неё у себя дома похлёбку. В других деревнях не выпросить было и этого… А сейчас открывалась весна, Пасха, начинался новый рыболовный сезон – и потому шли все с надеждой, шли больше, чем обычно. Дома матери мы ничего не сказали о судаке… – не принято говорить! Мать хлопочет у печки. На всю избу хорошо пахнет свежим, ещё тёплым хлебом. На залавке напротив печи лежит на полотенце небольшой пышный ситник. Хоть он и невелик, но это настоящий хлеб! Из настоящей ржаной муки, а, может быть, даже немного в нём есть и пшеничной!
Я пробовал такой хлеб всего один раз в жизни, в тот день, когда пришёл отец. Это не тот хлеб, который всегда пекла мать из перемёрзлой картошки с примесью чего-то овсяного. Тот сам разваливался, а когда начинаешь глотать, то овсяная ость больно царапает горло.
«Скорей бы завтракать», – думаю я и подхожу то к залавку, нюхаю хлеб, то опять к окну, гляжу на берёзу, где повесили мы с отцом скворечник. Скворец уже вьёт гнездо, и я радуюсь, потому что в моих скворечниках скворцы почему-то не вили, а поселялись наглые бойкие воробьи. Теперь скворец сидит у своего домика, топорщится навстречу солнцу и раскрывает клюв. Я знаю, что он поёт, хоть через двойные рамы ничего и не слышно.
Отец молча курит за столом, глядит в своё окно.
А за печью всё хлопает дверь, там кто-то топчется, сопит, потом слышится распевное:
– Христос воскре-е-сее… Милостинку ради Христа подайте бедной…