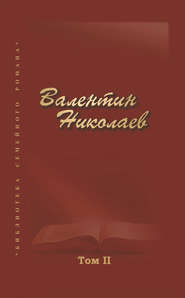скачать книгу бесплатно
Один знал иностранные языки.
Второй и родного толком не знал.
Один избежал государственного переворота.
Второй не избежал.
Один был решителен и целеустремлен.
Второй – полная противоположность.
Один ненавидел крестьян.
Второй сам был крестьянин.
Один отнял религию и философию у народа.
Второй негласно вернул.
Один, живя за границей, обрел целое государство.
Второй, живя дома, потерял его…
Не парадоксы ли?
38. В России все движется. Могучий духовный заряд прошлого не развеялся, он как пар или облако стоит над нашей землей, ждет востребования, нашего встречного действия. Что-то мятежно-грозовое таится в воздухе Ясной Поляны, витает над вершинами вековых лип и дубов… Когда молчат философия и искусство, свирепствует политика. Но от политики в воздухе остается черная гарь, которая выпадает осадком уже на второй день.
39. Сколько сменилось и сменится на земле людей, властей и даже целых государств, но каждой весной, когда на припеке возле ельников тает и оседает снег, начинается какое-то удивительное брожение воздуха. Кажется, нет ничего примечательного в скупой лесной лужице с черными листьями осины на дне, но к ней, этой слёзно-чистой лужице, припадает, как к причастию, всякий прилетевший куличок, и малая птаха, и утка… И такая радость обуревает всех в это совсем еще голодное и холодное время! Века проходят, народы, но этот праздник еще ни разу не отменялся. Не зря когда-то новый год начинался весной. И пока не нарушится этот извечный порядок, мир еще будет стоять и жить.
40. Когда наступает апрель, хорошо приехать в какой-нибудь лесной поселок возле реки. Там вытаивают кора, опилки, пахнет древесиной, торфом – там ощутимо будущее, и ты знаешь, где оно: в лесах!
41. В прежние времена, когда были живы мои бабушки и дедушки, весны казались шире, оглушительнее, раздольнее… Это потому, что было еще много родных людей, и воспринималась весна как большой семейный праздник. Этот праздник заполнял собой улицу, дома, души. Чем больше семья – тем больше радости приходило в дом.
42. Земля помнит, кто жил на ней и что делал. Если дети забудут дела отцов своих и дедов, то земля напомнит. Поэтому человеку нельзя терять родину. Даже мысленная потеря родины вызывает ощущение сиротства и неприкаянности.
43. В грязи и невзгодах проживаем мы жизнь, проходим через этот мир. Создаем и оставляем города и книги – культуру материальную и духовную. Материальная стареет, духовная – не всегда. Если быть более точным, именно духовное и нетленно, и более всего ценно для людей. Но менее всего и хранимо нами ныне. Природа и искусство в первозданном виде и есть самые большие богатства этого мира. Все материальные достижения человечества должны служить сохранению и обереганию этого богатства. В этом и есть смысл цивилизации.
44. Каждой весной просыхают пашни, прогреваются луговые разливы, парят леса на пригревах – жизнь начинается снова и мир, вроде бы, не стареет. Но без зимнего оцепенения такой бурной радости обновления быть не может. Каждой зимой наступает как бы смерть нашей природы, и мы живем в особом застывшем мире, и всячески этот мир пытаемся разрушить: искусственным теплом, светом, музыкой. Дает ли нам это что-то в биологическом смысле? Может, искусственно продлевая лето, мы сокращаем свою жизнь? Ведь простудных и прочих заболеваний в городах намного больше, чем где-нибудь на лесном кордоне.
45. Помню, весной в лухских лесах квохтала глухара в ельнике, и никого не было тем утром в лесах. Так казалось мне. Был наст, заря в полсвета, утренний птичий гром по всему лесу, и мне казалось, что лучшего времени земля еще не знала и никто не видел ничего подобного, я вот – первый. Наверное, счастье всегда связано с хорошей долей самолюбия. А в молодости это так естественно, просто. Путь к зрелости, мудрости и есть постепенное истребление самолюбия.
46. Наша русская весна тем и хороша, что идет в несколько этапов: сначала весна снега, потом весна воды, далее – весна земли, потом – весна рек и озер, затем – весна травы… А самая последняя весна – в глухих еловых лесах, оврагах, болотах. Если опоздал поглядеть на весну вовремя, в глухих ельниках застанешь ее еще и в конце мая.
Может, это отразилось как-то и на русском характере, который никак не укладывается в европейские и мировые стандарты. Российские людские жизни не самые продолжительные в мире, но так богаты переменами, перепадами, что своим разнообразием могут вызвать даже зависть.
47. Уже давным-давно середина СССР, то есть Россия была нища, бесправна, забита. Но никто из «кремлевских мечтателей» не хотел видеть этого. Сейчас мир увидел это во всей обнаженности, и все поражены таким глубоким опустошением некогда великой страны.
Но не только в этом дело. Сегодня самое главное, чтобы низость своего падения почувствовали, осознали все мы, весь народ России от президента до самого несчастного алкаша. Об этом постоянно и неустанно надо твердить по радио, телевидению, писать в газетах… Только глубокое осознание своей беды сплотит нас и заставит уважать самих себя и не надеяться на гениальность больших начальников. Только глубокое осознание беды, постигшей Россию, осознание всем народом, выведет из тупика.
48. Удивительны наши весны и весенние чувства: чем больше снегу вокруг, тем радостнее первая вытайка на взгорке и прилепившийся к ней жаворонок. А лесные бурные реки, скользящие по зеленому льду сквозь лесные буреломы и сугробы… Какая сила и уверенность в победе весны!
Как это духоподъемно действует на всю нашу нищую долготерпеливую жизнь. Если б у нас была хоть одна толковая революция, то время ей – непременно весна!
49. Когда наступает весна, над ржавыми болотниками по всей России тянут вальдшнепы. Но редко кто из деревенских жителей знает и видел их. Самое малое, на что они могут обратить внимание – это журавли или гуси. Тут уж да, остановятся, бросят всякую работу и какое-то время смотрят ввысь обязательно молча. Кажется, только тут они и разгибаются полностью, вспоминают о своей душе, а потом с тоской нехотя «возвращаются» на землю. Осенью почти всегда раздумчиво скажут. «Вот и еще одно лето минуло». А весной с радостью: «Ну, перезимовали, знать! До тепла дожили…» И неважно, есть рядом кто или нет. Человек говорит как бы с самим небом. И в это время у него всегда хорошеет лицо.
50. Весной и в голом сыром овраге играет жизнь. Намокшей пластушиной еще лежит снег в низине, но бурлит поток и уже расцвела на пригреве мать-и-мачеха – и холодно и тепло одновременно. Сядешь на краю такого оврага и просидишь полдня беззаботно, как прилетевшая птица.
51. Мир, в котором мы живем – тяжелый, материально-вещественный мир. В нем все давно стоит на месте и все сообразно. Только человеку кажется, будто надо все переделать: леса, реки, пустыни… Упрямое существо человек: там, где надо переделывать себя, он старается переделать других или землю…
52. Вымирает родня, исчезают деревни, рубят опушки и перелески, перепахивают поля, болотины, пустоши… Но вечно будет лететь селезень над речкой Желнихой – наряден, стремителен, нетерпелив. Вымрут алкаши и богатствостяжатели, сменятся власти и рыбинспекторы, но вечно будет идти по весне на нерест рыба.
И долго еще человек не сможет постичь невозмутимости и красоты Вечности. Как много сил ухолит на временное – будто на вечное, а все оборачивается прахом. И так век за веком, род за родом.
53. В сырых весенних полях в водополье никого нет: ни людей, ни скотины, даже дикий зверь избегает открытого места. В это особое время поля неделю-полторы безраздельно принадлежат птицам, особенно перелетным. Гуси, утки, множество куликов, луни, скворцы, жаворонки – все отдыхают на полях. Ночью под говор текучих вод они осторожно опускаются на середину поля и долго сидят недвижно, слушая ночь. Выставляют сторожей и какое-то время дремлют. Но когда погаснут последние огни в деревнях, стихнут собаки, а время перевалит за полночь, в полях начинается настоящий птичий базар: гвалт, крики, купанье, вспархивания, перелеты с места на место… Потом наступает кормежка, поправляется оперение, обследуются дорожные раны и мозоли, и снова короткий отдых, чтобы на рассвете с зарей вострубить на всю окрестность о своем прибытии на родину, о радости любви и жизни…
Но редкий человек знает это, редко кому довелось слушать такую ночь и видеть ее, хотя бы и мысленно.
Особенно мне жаль людей деревенских, тех, кто всю жизнь ходит по этим полям, а весенними ночами смотрит бесконечный сериал о выдуманной заморской жизни – с казенной игрой актеров, с «деревянным» дублированием и с какими-то детскими бедами и слезами у взрослых. Ведь беды эти действительно детские по сравнению с нашими, с нынешним лихолетьем. На этих слезах и бедах отдыхает наш народ в забытых селеньях.
А над полями, над крышами и антеннами деревень волна за волной, вал за валом спешат в это время все новые и новые птичьи стаи из тех далеких телесказочных стран.
И как-то обидно, что птицы не знают нашей жизни, а мы до сих пор не знаем их потаенных радостей и печалей, А ведь живем на одной земле уже много тысячелетий. Уже мечтаем об открытии новых дальних миров, а ближние оставляем неоткрытыми.
54. Весной даже мертвые душой люди, и те просыпаются. Всеобщее ликование вод, травы, неба как-то доходят до них; добрых дел они, конечно, не совершают, но поменьше злобствуют, воруют и матерятся. Даже и в их мохнатых душах что-то по-своему расцветает.
55. Почему человек не считает богатством весну или осень?
Рано ему еще это. Деньги, вещи, еда, питье – вот наше богатство. Только то, что в себя и на себя. Богатство для тела. И не плохо это, если тело здорово и нуждается в этом. А солнце, воздух, вода, пение птиц разве не для тела? Тоже для него, но не только. Еще и для души. И бесплатно! Вот бесплатное-то мы и не ценим – отвыкли. А ведь и любовь настоящая тоже бесплатна, бескорыстна… А то еще, говорят, есть богатства Духа. Ну, это уж и вовсе лишь единицам понятно и доступно. И какая уж тут плата.
56. Земля, наверное, тоже устала от жизни людей. Не будь мороза, зноя, ливней, кто бы чистил и мыл землю? Человек плохо ее подметает; дезинфицирует больше ядохимикатами – сам же ими и травится. Раньше ключи, ручьи, реки промывали землю круглый год, теперь они все захламлены, завалены, запружены – все больны. Только недоступные глухие болота в лесах живут еще естественной жизнью. Там и спасаются от людей, лечатся последние птицы и звери. Скоро придет туда на лечение и сам человек, если хватит сил дойти.
57. Весной в распутицу идти от деревни до деревни – одно удовольствие: то скворцов встретишь, то жаворонок взовьется ввысь с вытаявшего жнивья, то чибис прожамкает крыльями над холодной луговиной; бывает, и уток сгонишь с придорожной разливины… Идешь и считаешь про себя: грач прилетел, чибис, кряковые появились… А почему нет чирка-трескунка, кроншнепа, нет другого кулика, третьего… И так многих птиц, знакомых с детства, недостает тебе. Что ж это такое? Раньше поля, разливы гудели и стонали от птичьего гомона по весне. Пока идешь до школы, чего только не насмотришься, не наслушаешься, и потом, на уроке, никак не можешь сосредоточиться.
Нет, за эти полвека изменились не только мы, люди, изменился и сам мир. Просторнее стало в птичьем царстве, реже, а в человеческом – теснее. И радости от этого нет никому, и постоянно стоит неотвратимый вопрос – что же дальше?
58. Весной даже голая холодная гора зеленеет. Все, что было промороженным насквозь, почти мертвым, не только оживает, но и дает рост, плоды, потомство. По одному только этому можно предположить, какой воскрешающей животворной силой обладает солнце. Мы еще мало изучили, поняли и почти совсем не используем эту универсальную силу и благодать. А все потому, что она дана нам бесплатно, безвозмездно и навсегда. Бесплатное, оно меньше всего и ценится.
59. История России помнит многих казнокрадов. Но все меркнет перед нынешним грабежом. Сейчас золото воруют тоннами на уровне самых высоких государственных чинов, воруют со знанием экономической науки, юридических законов, футурологии… Это все результаты политики Горбачева. На фоне такого невиданного дневного грабежа гуманитарная помощь Запада – это как возвращенная веревочка, та самая веревочка, которой были перевязаны наши подаренно-украденные тонны золота. Только ленивый нынче не грабит Россию. Растащат все. Оставят лишь то, что нельзя украсть: разбитые дороги, гиблые болота, облака да ветер над заброшенными полями.
60. Я был рабочим. Пролетариат – самый безалаберный и беспринципный класс, не имеющий своих корней – ни морально-нравственных, ни духовных. Это класс бессознательный, чисто материальной сиюминутной выгоды и культуры. Он первым поддержал большевиков в революцию 1917 года, первым пошел в отряды сыщиков, стукачей, карателей… Он первым и предал партию коммунистов: самый массовый, обвальный выход из КПСС во времена горбачевской перестройки был именно со стороны рабочего класса. Этот класс всегда ищет хозяина и покровителя. Сам он не хозяин, ничего не имеет, и ему «нечего терять кроме своих цепей», как сказал когда-то Маркс. Человек, которому нечего терять, всегда вызывал и вызывает подозрение и страх.
61. Когда в селе или городе на глазах у народа разрушается, гибнет церковь, школа или библиотека, где крестилось и училось не одно поколение – это и есть публичное разрушение культурного фундамента нации. После такого и народ этот, и сама местность обречены на постепенное вырождение, одичание. И происходит это медленно, безболезненно с привыканием, но неотвратимо.
62. Так уж получилось: убери из России непогодь да гиблые дороги, и что-то потеряет она в своей поэзии, философии, национальном характере. Пропадет русская душевная тоска. А без этого Россия уже не та.
Странствия по российским дорогам немало дали нашей литературе. Давайте вспомним Радищева, Гоголя, Аксакова, Пушкина, Чехова, Бунина, Паустовского… Ряд неполный, но памятный. Тяжки наши пути и в прямом, и в переносном смысле.
Мне часто приходила в голову мысль, что Россию спасут, возродят те глухие углы, что за болотами, бездорожьем, за многими верстами от губительных властей и реформ.
Нечто подобное совершается и в нашей национальной культуре.
63. «Правильное» поколение у нас появится еще не скоро. Сужу об этом вот по какому случаю. Выступал я как-то перед учителями-словесниками городских школ Нижнего, рассказывал о русской советской литературе, о том, что толкование ее в учебниках большей частью ложное, старое, сдобренное пафосом соцстроительства. Даже в «Поднятой целине» Шолохова правды только наполовину… Не поверили мне опытные учителя, были разочарованы, обижены… И пригласили другого писателя, старого, традиционного, который рассказал им все так, как записано у них в школьных программах и методиках.
Я недоумевал: почему же так? Ведь и люди еще не старые – редко кому за пятьдесят. Понял потом: в пединститутах они учились при Хрущеве, Брежневе, Суслове; их научили так, они привыкли, «обкатали» свой классный материал, и меняться им не хочется – страшно, опасно… Уж лучше по-старому, как-нибудь, до пенсии…
Кого же они выучат?
Значит, надо ждать новых, молодых учителей, которые сегодня только на первых курсах институтов.
Значит, и первое нормальное поколение молодых у нас явится только лет через шесть-восемь. Не раньше.
64. Благоденствия в России не будет еще долго, пока мы не почувствуем, что земля, на которой живем – наша. А она никогда не принадлежала народу: поля – колхозные, леса – лесхозные, реки – министерства речного флота, дороги – тоже разных министерств и ведомств. Даже земля и тот дом в деревне, где ты родился и живешь, и то принадлежат не тебе, а сельсовету. И к любой власти не подступись. Только к небу да Богу и мог обратиться человек на «ты», минуя начальство и всякие справки. Этому он верит и сейчас больше всего, с этого, видимо, и пойдет новая Россия.
65. Однажды в апреле, лет двадцать назад, бродил я с ружьем в заброшенных лесных местах Костромской области. Заблудился, но вышел наконец из чащи на поляну, к покинутой лесной деревушке. Всех-то домов было с пяток, но и от них остались только печи, полуупавшие изгороди, гнилая покосившаяся банька. Все было увезено или взломано, разграблено, а кросна, кадки, санные полозья, колоды – валялись.
И стояла в разгороженном огороде среди оплывших грядок старая яблоня, а на ней – скворечник, еще крепкий, не покосившийся, с полкой-беседочкой у летка. И на этой беседочке ярился, трепетал иссиня-черный с укропно-веснушчатым боком скворец. За всю зиму (оглядел я поляну) не было тут ни одного человека, только зайцы жировали… А скворец по весне прилетел и стал первым гостем. И хозяином заодно.
Я сидел на треснувшей колоде и слушал его. Уже солнце было высоко, и наст слабел в лесу, обещая мне тяжкую дорогу домой, а я все не мог встать. Мне казалось, что скворец поет так заливисто именно для меня, будто для вернувшегося жителя деревни. А уйди я – он смолкнет, загрустит, оглядится и полетит дальше на север, – так думалось мне. И почему-то захотелось, чтобы хоть скворчиная семья пожила тут в это лето, чтобы на пустующих грядках искала червяков, радовалась росту трав, солнцу, грозе… «А зачем мне то это?» – философствовал я на колоде.
Но я хитрил. Хитрил сам перед собой: я знал, что приду сюда еще раз, если не летом, так ближе к осени, и чтобы меня ждал кто-то здесь, ждала живая душа, хотя бы и птичья.
66. Наша земля еще и вот почему не родит, а если и родит, то – до стола не доходит: раньше крестьянин первую борозду и первый зажин начинал с молитвой. А нынче… столько матюгов и проклятий «рассеяно» по полям, дорогам, токам. Сколько сеяно и жато в пьяном виде, со злом. И если земля и злаки – живые существа, то не могут они всего этого не чувствовать.
Без любви ни один сеятель ничего путного не взрастит. Помните: «Едет пахарь с сохой, едет, песню поёт…» Ведь не матерную же он песню пел.
67. Кто ругает наше время, кто приветствует… Можно понять и тех, и других. Но самый отвратительный пласт общества составляют те, что молчат. Они смотрят, слушают, все видят и слышат, но молчат, как глухонемые. Выжидают. Прикидывают, смекают.
Живя дома, здесь, они уже как бы потеряли свою родину. А была ли она у них? Они и до сих пор не верят, что весь Союз был в проволоке ГУЛАГов, зато до сих пор верят в великого «гуманиста-гения», дедушку Ленина-Ильича. Это они целыми косяками в десятки тысяч сидели (и даже лежали) в членах КПСС и молча выжидали-ждали, пока сама партия не ушла у них из-под брюха, как вода из-под дохлой рыбы. Потом так же «усох» и Союз. Но даже и это на них не подействовало. Упрямо, настойчиво, как глухонемые, они только смотрят и ждут, ждут…
68. Бывает, живешь с людьми в одно время, в одной деревне, но будто в разных плоскостях пространства: и ты им во многом непонятен, и они тебе. А вроде ровесники, вместе играли в детстве, в школу начинали вместе ходить… А дальше все оказалось настолько разное, непохожее, что сегодня мы – как существа с разных планет.
69. Сегодня верить в космические и божественные силы нас заставляет еще и нужда: Земля в одиночку уже не справляется с нашим безумием, мы «победили» наконец ее, и от этого самим стало страшно. Мы ищем союзника не столько себе, а и «врагу» своему – земле, природе. Много в этой помощи пока не ясно, потому и жива еще в нас надежда: «А вдруг все выровняется, образуется; может, простят нас и на этот раз…» Так нашкодившие дети плачут, но добровольно идут под наказание матери.
70. Места, любимые человеком, излучают добро и свет. Ответно и сам человек как бы светится. Союз этот следует оберегать. Как одному человеку, так и всему обществу.
71. Весной в любой луже на дороге сверкает радость и торжество жизни. Совсем другое – летом, и совершенно противоположное – осенью. А зимняя дорога, та уж и вовсе ничего «не помнит» о летней, и кроме тоски одиночества ничего на ней не найдешь. Примерно так же видится мне и стезя человеческой жизни.
72. Чем далее, тем все хитрее и невыносимее жизнь. И никакие гуманные помыслы различных «освободителей» человечества (философов, политиков, писателей), никакие открытия ученых, сверхмощное оружие – ничто не облегчило, в конечном счете, человеческую участь. Если бы мне сегодняшнему вернуться в 50-е годы – столько там лежало «невостребованных» радостей: еще можно было пить из некоторых рек, полно было рыбы и дичи, столько еще жило старых живописных деревень по России; редчайшие книги у букинистов стоили копейки, почти на любом рынке можно было купить мед, шубу, валенки (все натуральное), в Союз писателей принимали за десяток стихотворений, отпечатанных на машинке, или за один рассказ, опубликованный в солидном журнале… Но ведь и тогда люди жаловались на трудности. Рак только еще начинался, а СПИД еще никому не угрожал… Ах, мне бы те трудности сегодня! Но почему не жили спокойно и в те времена? Мир тогда напоминал коммунальную квартиру, и каждый отвоевывал свое счастье, угрожая другим.
Нечто подобное происходит и сейчас, только в более сложном виде. Вывод: надо пользоваться только глобальными теориями в устройстве своей жизни, страны, мира. Счастья для одного человека в полном объеме не существует. Паразитический гуманизм – главный бич человечества…
И всё опять возвращается к библейским заповедям. Иного пути для человечества нет.
73. Идет куда-то жизнь: леса и травы пытаются расти, наладить давно нарушенный круговорот. А человек становится все хищнее, злобнее, мстительнее. Он все более изощряется в воровстве, разбое, эгоизме и стяжательстве. Он ворует у государства, у соседа, забирается в тайные кладовые природы, разоряет запретное, веками хранимое всеми предками при любых властях и режимах. Это мучается в агонии последний революционер, взыскуя обещанное дармовое счастье. Он не успокоится и не образумится, как нечистая сила, пока неистовая злоба не изгрызет его вконец изнутри. И тут не стоит удивляться: он так воспитан, а потом обманут и брошен своими «светлыми» учителями. Иными словами, мы все еще пожинаем посев 1917 года.
74. Когда в майских зеленых лугах токует припоздалый тетерев – весна уже заходит в лето. Это токование в теплых лугах особенно отрадно больным и старым людям. В такое время нет уже по лесам охотников, тетерки плотно сидят в своих гнездах на яйцах, и никто не стреляет в лесу. Бывало, подходишь к лесной деревушке на рассвете – все спит, один старик сидит на завалинке, снял шапку, слушает, как токует этот тетерев в низинке за деревней. Давно старик отходил по лесам и рыбным местам, но вот подкатила новая весна, и коротает он теперь зорьку под наличниками родного дома. Сидит, будто в молодости в шалаше.
– Чу! Слышишь? – говорит он вместо приветствия, а сам весь светится, воспрял, шапку в руках мнет от нетерпения.
Смотришь на него с радостью и сожалением: как всесильна жизнь, как беспомощна старость. Только охотники да рыбаки не спят вёснами на заре – счастливое и сумасбродное до самой смерти племя.
75. Вчера и сегодня мы жили и живем в долг. В долг у своих детей, внуков, правнуков: мы нарушили образование, высшую школу. Пока еще кое-как живы, а завтра войдем в мертвую зону: у нас не будет интеллигенции. Прервется цепь, и разрыв этот будет страшен: общество без интеллигенции, что судно без компаса.
76. Как весеннее половодье очищает русло и берега реки, так и «посткоммунистические» события очищают Россию. Хотим мы того или не хотим, но многое унесет река времени. Унесет все отжившее, устаревшее, одряхлевшее, ненужно-кичливое… Конечно, на поверхности новых течений много щепы, дряни, пены… Но вот спадет политическое половодье, войдет река жизни в свои берега, и вырастет на очищенных берегах молодая зеленая трава. И все придет в норму. И не надо роковых ахов и охов: все найдет подобающее ему место: золото не ржавеет, рукописи не горят, а народ бессмертен. Пока светит и греет солнце. Светило бы.
77. Жизнь в лесу хороша, особенно весной. Но в полдень такая накатывает тоска, что не знаешь, как дожить до вечера. Весенний солнечный день, когда надо бы только радоваться, тянется бесконечно, утомительно-однообразно, и время, кажется, замедляет свой ход. Не каждому под силу выдержать это однообразие времени, эту глухоту одиночества, когда лес и вся округа кажутся пустыми, вымершими, вековечными.
Зато всегда не хватает зари вечерней, ночи и зари утренней. От длительной охоты весной можно даже заболеть каким-то психическим расстройством, которое проходит только с появлением первой зелени в лесах. Но эта весна уже не наша, не охотничья. Охотник с первой зеленью покидает леса. Настает время рыбаков и земледельцев.
78. Жил друг, рос лес, и каждый год мы ждали весну. Прилетали журавли, лес оглашался ликующим криком, и всем было радостно.
Но умер друг – и лес больше, вроде, не растет, замер. А журавли прилетают по-прежнему и по-прежнему кричат. Но теперь в их крике я слышу не радость, а боль и отчаяние. И не знаю, когда это все кончится.
79. Есть поле, есть река, есть лес… Человек родится, живет, привыкает ко всему этому и считает все своей родиной. Но вот кому-то приходит в голову идея запрудить реку, вырубить лес, изменить луг и поле. Он думает, что несет пользу людям и прежде всего хозяйственную. Возможно. А как же с родиной? Разве ее облик ничего не стоит? Смысл таких ценностей, как образ родины, придется еще долго доказывать. Потому что наши хозяйственники, администраторы, да и политики многие – пока еще сущие неандертальцы в этих вопросах. И с ними повоюют еще наши внуки.
80. Маленькая весенняя речушка Желниха зачинается в болоте, крадется по неудобям, овражкам, через пустоши и поля, дорогу перерезает-переливает в апреле… и так добирается до коренной реки. Ей, Желнихе, столько же лет, сколько и земле. И по сей день захламляют ее всем, чем только возможно: мешками из-под удобрений с полей, обрывками тросов; бороны, детали от тракторов, плужные лемеха ржавеют; на дне ее – камни с социалистической нивы… Надоела она всем, но избавиться от нее не так просто. Чтобы не размывала дорогу, упрятали ее в трубу и дали ход под дорогой, а не сверху ее. До этого заваливали, изживали – бесполезно. И никому от начала века не пришло в голову обратное: взять бы да и углубить, как озеро. Вдруг бы что и получилось? Нет, в новом месте, в лесу вырубили деревья, выкопали котлован, и тут по весне новоявленный фермер развел гусей. И все замерли, ожидая изобилия. Но пока хорошо только лисам: на дне этой «сухой» речки Желнихи они и потрошат дармовую гусятину.
81. В луговой ложбинке возле леса все лето пасутся овцы. Трава зеленая, свежая до глубокой осени. Но не ведомо ни одной овце, что каждой весной в этой ложбине играет, пенится настоящая река-снежница. Даже льдины плывут по ней. И вместе со льдинами, мусором – семена многих трав. Потому и луговина хорошая.
Бывает страна, век, где так много выросло произведений искусства, литературы, что все человечество десятилетиями «пасется» на этих культурных угодьях и все дивится: откуда столько взялось? Но если мы заглянем в историю этой страны чуть пораньше культурных свершений, то обязательно найдем там в общественной жизни глухую снежную зиму, а потом – бурную радостную весну… Ведь для искусства тоже нужны и подготовленная почва и семена. Обязательно.
Я думаю, что и у нас, в России, после коммунистической зимы наступает весна. Придет время – и буйно зазеленеют всходы. А пока – ледоход. И на поверхности – больше мусор да пена.
82. Просыхают дороги, обветрели, побелели верха в полях – можно бы идти в лесную деревню к своему другу, как ходил всегда. Но нынче его нет, – ни его, ни жены – умерли оба. Дом стоит один, и он страшен, как гроб. Только жаворонки журчат над крышей. Удивительно тихо.
83. Разной тяжести бывают зимы.
Но всякой весной распахнутся опушки, выпростаются из-под снега елочки, и поплывет над дремучим отволглым лесом вальдшнеп. И жизнь начинается сначала! Все забудет и простит душа, омытая могучим земным дыханием апрельского леса. Во все времена не много было чудаков, уходивших в сырой лес на ночь глядя. Но если переведутся эти чудаки – искусство наше потеряет первородность. Ни одна картина, ни одно поэтическое описание не могут передать всю тонкость и загадочность этих считанных минут ночи.
84. Народ – могучее образование. Народ и Бог – это последнее, на что мы надеемся, когда изверилось уже все: власти, правительства, президенты и даже… история. Народ проявляется редко, даже не в каждой войне и революции, а только в самых крайних случаях, на роковых изломах истории. Он будто просыпается от вековой спячки, начинает ворочаться, ворчать, как гром, и подымается, подымается…
Но пока не подступил этот роковой час, на поверхности жизни мельтешит, торопится, исхитряется, обманывает, выгадывает, хвастается, слезит, жалуется, грозит, опохмеляется, лжеюродетвует… не народ, а народишко. Однако бьет себя в грудь и заявляет: «Я – народ!» Видимо, каким-то образом знает или чувствует, что он может быть и народом. Народ бессмертен, он живет не только сей день, а вечно, его корни идут на всю глубину истории, и это ощущение живо и спасительно в каждом новом поколении. Этого пока не отобрали.
85. В стране идут революции, реформы, вечная суета и наказание. А в остатке старого бора, на гривке, среди шишек, игольника, мха разгуливает на заре иссиня-черный петух-тетерев; урчит, шипит на всю ближнюю округу. Под ранним весенним солнцем он весь блестит, переливается тугим оперением. Вокруг этого последнего клочка леса зачумленные химикатами, залитые полой водой, продувистые поля. А тут, в затишке среди сосен, тепло, сухо, солнечно. Тетерев ярится все больше, вызывает соперников… Но их нет, один он, как царь, на весь сыр-бор. Рядом за пеньком прогуливается серенькая тетерочка, приседает, кокает по-женски нежно и слабо. И тоже одна. Ни соперников, ни соперниц, только двое их и осталось. Они чувствуют, знают это оба, но ведут себя, как на настоящем большом току: он токует, она слушает на почтительном расстоянии, изредка дает о себе знать нежным голоском, и он взворковывает еще азартнее. Я лежу под соснами в низинке, гляжу на них и думаю: «Сколько им еще суждено прожить – год, месяц, неделю?.. Но они до конца не нарушат извечный порядок своей жизни: до конца весны будут «держать» ток, потом она сядет на яйца, выведет и воспитает птенцов. А он отсидится в кустарниковых крепях, вылиняет как следует, потом явится к ним, возглавит семейство и будет держать эту стайку до самой осени, до полевых вылетов – роковых, смертельных ядами удобрений… К зиме он останется один или она «овдовеет».
А весной все сначала: один запоет где-нибудь на боровинке, а одна или две услышат, прилетят – и опять ток по всем «правилам», «традициям», как было всегда…
И кажется, только человек не терпит ничего старого, традиционного, все ему надо переделать – реки, поля, леса; он все спешит кого-то обогнать. Но разве можно обогнать жизнь самой земли? Да и зачем? Рано или поздно, а потянет тебя на весеннюю боровинку. Придешь, а там пусто, беззвучно. Только ветер шевелит сухие былинки, будто на кладбище.
Обогнал…
86. Вот так и пойдет жизнь по городам и деревням: исхитряясь, торопясь, проклиная вчерашнее и тоскуя по довчерашнему, выкликая лучшее будущее. И всегда будут молодцы на сей год, сей день, сей час – дальнозоркие в речах и близкие к себе умом: говорит глобально-патриотическую речь в Думе, а мысленно видит, как уже везут ему кирпич для строительства дачи в Подмосковье… В конце концов все зависит от культуры, воспитания и образования. Что в душе, то и на уме, а что на уме, то и в деле. А речи – они для запутывания людей, для маскировки самого себя, для оправдания и отвода наветов. Язык стал орудием убеждения лживой жизни в «праведности» своей.
87. Весна. В пустых голых полях качается сухой чернобыльник. Но и он хорош, если оттаивает земля, гуляет полевой влажный воздух, греет яркое солнце. Именно на этот чернобыльник летит спускающийся с небес, будто латунный колокольчик на веревочке, трепетный жаворонок. Звенит, звенит – ниже, ниже, и вдруг будто оборвалась веревочка – канул колокольчик под сухую чернобылину и затих.
88. Весной даже вытаивающее прясло изгороди возле деревенского дома и то несет радость любому прохожему. Но когда вытаивает обворованный, разграбленный дом с выбитыми стеклами, с распахнутыми на дорогу дверями и окнами, любой прохожий пристыженно опускает голову. Оскорбленное человеческое жилище, думается мне, так же мстит за себя, как оскорблённый храм, церковь. Но не столько мстит, сколько направляет человека к истине. Почти каждый крестьянский дом – он ведь тоже как церковь, только малая. Расплату за поругание церквей и храмов мы уже ощутили, а за поругание домов, усадеб, деревень – это еще впереди, это еще будет. Не нам, так внукам.
89. В разгар весны над пустыми деревнями летят и летят к северу гуси. Их усталые строгие линейки опускаются под вечер на холодные поля вблизи этих деревень. Бывает, отдыхаешь где-нибудь на опушке леса, садится солнце, стихает ветер, слушаешь разговор этих гусей, и вдруг почудится: не гуси, а идет-галдит полевой дорогой ватага мужиков, возвращается в свою деревню с дальних зимних заработков. Сердце встрепенется в радости… и осякнет. Вздохнешь, оглядишься, а солнце уже село, гуси, прижатые к земле грузом усталости, стихли, и все вокруг молитвенно готовится к ночи. Встряхнешь на спине ветхий рюкзачишко и бесшумно, крадучись, идешь вытаявшей лесной опушкой к дому. Опять один на всю округу, опять наедине лишь со своими думами. Идешь и роняешь их на холодную землю ночных полей, как припозднившийся обреченный сеятель.