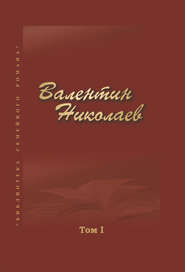скачать книгу бесплатно
Штамп этот Василий ежегодно вырезал из старого резинового каблука. Носил его всегда при себе, а к белой половине круга смачно пришлепывал непременно в присутствии капитана – чтобы уж не было никакого сомнения: «Проверено» – и баста! Плавай!
Не знаю, когда придумал, как дошел до этого штампа Василий, но постепенно приучил он к нему не только начальство Унженской сплавной конторы, но даже Волжскую судоинспекцию.
Поначалу судоинспекторы смеялись, а потом привыкли и даже требовали, чтобы на каждом круге стоял этот штамп. Нет, как ни говори, а велико влияние печати и штампа на служебный ум!
В свой срок наступала весна, и Василий, закончив возиться с кругами, выбирался из прокуренной малярки на вольный воздух. С утра по насту он бодро шагал от малярки к пирсу, давил жестким каблуком протеза скрипучий от мороза снег. Ведерко с краской, как на крючке, висит у него на загнутой увечной руке, из кармана торчат завернутые в тряпицу кисти, а над головой как-то особенно благородно вьется в ясном морозном воздухе голубой махорочный дым. Из другого кармана выглядывает овчинная рукавичка: покалеченная рука зябнет, поэтому он всегда носит с собой одну рукавицу-леворушку. Бывает, греет в ней и правую, рабочую. Лямка в великой радости носится широкими кругами по упругому насту.
– Куда повалил, Никанорыч? – кричат ему от своих катеров капитаны.
– Сияния писать! – весь светясь радостью, взмахивает он приветственно здоровой рукой. И слово это «сияния» он произносит так, как прозревший – «солнце!».
«Сияние» – это название судна. На старых паровых буксирах его пишут по дуге, концы которой как бы спускаются в воду. Пишут с обоих бортов там, где шумят водой плицы. Красочнее полукружие это из выгнутого слова и на самом деле отдаленно напоминает солнце, наполовину опустившееся в воду и испускающее сияние. Кто и когда придумал это слово, неизвестно, но придумал хорошо. В затоне паровых колесных буксиров зимовало всегда два – «Унжак» и «Сплавщик». Поэтому настоящих сияний писать Василию приходилось немного. На катерах, теплоходах и баржах название судна или его номер надо было писать не по окружности, а по прямой горизонтальной линии. Однако и эту работу Василий все равно звал – сияния.
Сначала он обрабатывал суда, которые зимовали во льду подальше от берега. Но чем больше слабел лед, тем он ближе двигался к берегу, а со вскрытием затона совсем перебирался на сушу и подписывал уже катера, вытащенные на берег.
Таким образом, к концу всей работы опять оказывался возле своей избушки.
Чем ближе навигация – тем важнее его работа: без названия ни одно судно из затона не выйдет.
Те из капитанов, что уже готовы к выходу, таскаются за Василием по пятам, просят. И он с великой важностью ковыляет вместе с Лямкой от катера к катеру.
«Крестный», – смеются меж собой капитаны. Дает он имя посудине – будто последней улыбкой одаривает ее перед выходом в плавание. «Окрестит» всех, разбегутся суда по реке – и у него начинается спокойная жизнь: он художественно оформляет клуб, доски Почета и показания соревнований, призывы и лозунги пишет к праздникам…
А вечером в тихий закат всегда выходит покурить к затонской караванке. Тут швартуются пришедшие на ночлег катера, и он тайно любуется ими будто детьми – еще раз оценивает свою работу. Радости этой хватает на все лето.
Не знаю, что меня толкнуло в то утро, но в затон я пришел рано. Еще тихо было в цехах, не ревели пускачами тракторы в гараже, не стучали котельщики на берегу. Вокруг было светло, по-весеннему молодо, чувствовалось, что день впереди будет долгий с журчанием и блеском ручьев. Дай, думаю, зайду к Василию, пока народ собирается. Однако на малярке висел замок. Тогда я пошел на пирс и увидел Василия, одиноко сидящим на свае.
Лямка, присев рядом, смотрела на ту сторону затона, где над белоствольным березняком поднималось солнце.
Вчера из затона ушла первая партия катеров. Снежно белея рубками, они крошили и расталкивали льдины… А сегодня затон уже был чист, только белые шапки пены спокойно скользили серединой. Я подошел к Василию, поздравил с добрым утром, но он не проявил обычного оживления, а по-прежнему глядел вниз, на воду. Медленно, будто во сне, вода то приливала к пирсу, поднимаясь по сваям, то опять с сопением осушала их.
– Смотри, что такое?.. – сказал, не оборачиваясь, Василий.
– Чего?
– А вода… Волны нет, а ходит. Вишь, как колышется. Освободилась… По-моему, она дышит.
В молодой бездумности я готов уж был рассмеяться, но вовремя одернул себя. Взглянул на Василия – он ничего не заметил. По-прежнему глядел вниз, сосредоточенно нежно, с каким-то проникновением. И понял я, что в думах и чувствах своих был он сейчас далеко от меня. Может, он и не о реке думал, а о жизни своей. Тихо стараясь не хрустеть оттаявшей галькой, повернулся я и ушел, оставив его одного. Никогда я ему не завидовал, не сравнивал с собой, но тут ощутил в глубине души что-то неспокойное: не то действительно зависть не то жалость к самому себе.
Признаться, и по сей день завидую, как вспомню, с каким счастьем говорил он эти слова: «Сияния иду писать!»
Боцман
Утро. Сижу на палубе, курю. Все катера в затоне еще спят. Обросило за ночь спасательные круги, поручни, сами палубы. Остыли машинные отделения. Свежо, чисто. А солнце уже выше березняка, взыгрывает на мели плотва.
– Боба, на вахту! – слышится на наливной барже хриплый голос. Потом кашель, плевок за борт, и вновь, уже чистым голосом:
– Боба!.. Команду слушать!
Черная приземистая дворняга с крепкой примесью таксы протяжно взвизгивает, сладкой утренней зевотой перебивает радостный скул и, помахивая хвостом, бежит от конуры к трапу. Возле трапа она заученно садится на брошенную мешковину, а сама неотрывно глядит вверх, к дверям рубки, на хозяина.
– Молодец, Боба, молодец… – удовлетворенно бормочет тот, спускаясь по трапу на палубу. Некоторое время шкипер ходит возле жилой надстройки, что-то поправляет за пожарным ящиком, мурлычет, а сам косит глазом на собаку, как она исполняет приказание… Но наигранное его равнодушие кончается скоро, он подходит к ней и с радостью достает из залоснившегося кармана кителя кусочек сахару.
– Служи-ить, Боба, служи-ить… Бой, служить! Звать шкипера – Михаил Павлович, а по-затонски – Боцман. Но это не прозвище, а истинная и, пожалуй, главная должность, какая была в его жизни. Смолоду он служил на Балтфлоте, долго был боцманом на крейсере, прошел всю войну, служил и после войны (последние годы уже на берегу) – боцманом на базе флота.
Отдав флоту около тридцати лет лучшей поры своей жизни, вышел в отставку. И вот теперь, будучи уже на военной пенсии, работает шкипером на наливной барже – БН, или бээнке, как мы зовем. В отличие от других шкиперов он всегда ходит в полной форме: в кителе, флотских суконных брюках, фуражку носит тоже форменную, но не речную, помятую шкиперку, а свою прежнюю – с белыми кантами и большой светлой кокардой.
Я долго не попадал на его баржу: незачем было. Все у него шло хорошо, ладно, на собраниях и планерках имя его вспоминали редко. Упомянут так, вскользь, посмеются и – «поехали дальше». Конечно, учить его было нечему: он сам мог кого угодно поучить, как вести сложное, флотское хозяйство. Но в то же время проскальзывал в отношении начальства к нему этакий холодок, а уважение – как бы по необходимости. Сам Боцман живет неприметно: на другие баржи ходит редко, у начальства особо ничего не просит, хотя сам никому ни в чем не отказывает.
Жена его плавает вместе с ним, матросом. Женщинам в караване она рассказывает, что он плохо спит по ночам, особенно в короткие июньские ночи. Ему до сих пор снится война. Он сжимается весь, кричит в маленькой каюте: «Воздух! Ложись!..» Будит своим криком ее, просыпается сам, спрашивает:
– Пива нет? Во рту пересохло…
– Да ты что, какое пиво, с самой весны и не выпивал ведь. Или приснилось?
– Да нет, так… Спи. – А сам надевает сапоги и уходит на палубу.
До побудки на катерах еще не скоро. Я сижу и думаю, что, может, он и сейчас проснулся от собственного крика и вот теперь приходит в себя. «Неужели так долго может сниться война? – думаю я. – Ведь уж тридцать лет прошло». Стараясь постигнуть невозможное, я перевожу все это на себя и с удивлением замечаю, что отдельные картины детства, далекие, забытые сцены вижу во сне снова и снова…
Вчера, встретив меня, попросил Боцман ведро и лом. И я выписал ему этот инвентарь. Чудной он, Боцман, больше ничего и не потребовал: другой бы шкипер не упустил момента…
Проснулся внизу капитан, взревел двигатель, и катер наш отвалил, устремился к запани.
…Лето прошло незаметно. Уже вовсю гуляла по реке осень. К концу близилась навигация. Многие суда были в затоне, готовились к отстою. Погода стояла ясно-морозная, а леса вокруг желтые, будто в благородном теплом свечении. Так же светло и успокоенно было у меня на душе: сплавной план выполнен, навигация заканчивается, а впереди долгая зима. Нет, сначала осень! Наша свободная поздняя осень – время замерзших лесных озер, коньков, подледного лова, твердых, будто залитых цементом, дорог – иди, куда хочешь: легко, сухо! А там октябрьские праздники, отпуска!..
В преддверии этого чудного времени проверяли мы с Толей Осьмушкиным последние наливные суда. Дело в том, что в конце каждой навигации начинала работу ревизионная комиссия по учету топлива. Нынче в эту комиссию входил и я, линейный механик. А Толя Осьмушкин был нашим экономистом на флоту. Вот вдвоем и кочевали мы по берегу затона уже третий день. В первые два замеряли топливо на складе горюче-смазочных материалов, обошли уже и большинство наливных барж. Везде у нас все сходилось, остатки получались небольшие. На наливных баржах тоже дела шли неплохо. И шкипера были довольны, и мы.
Оставалась последняя баржа – Боцмана. Я вспомнил, что за все лето был у него только два раза: вот тогда, когда выписывал ему лом и ведро, и еще раз до этого – рано весной. Это было перед самой навигацией, суда еще стояли в затоне. Боцмана послали тогда на Волгу за топливом для катеров, которым уж пора было отправляться на весновку. Рейс был исключительный, экстренный, так сказать. Ждали мы все Боцмана как самого бога. А его почему-то не было, хотели уж телеграмму посылать, но наутро он заявился.
– Что долго? – спросил я его, выйдя на берег.
– А мог бы и еще неделю не прийти.
Я усмехнулся ему в ответ, представляя, какой бы поднялся переполох на реке: не вышедшие из затона катера могли сорвать весь весенний сплав. Сказал ему об этом, стал спрашивать, что случилось. Однако говорить с ним оказалось невозможно: был он какой-то разбитый, злой, грозился, что больше вообще в такой рейс не пойдет, пусть даже с баржи снимают.
На другой день, когда сидел я в малярке у Василия, зашел туда Боцман с грудой спасательных кругов на спине. Я удивился: круги были покрашены наполовину, и никаких надписей на них не значилось.
– Как же это так вышло? – спросил я, по очереди глядя то на Василия, то на Боцмана.
– Сам я красил… Там, на Волге, – нехотя ответил Боцман. Из-за этих кругов и держали… Все не подписано.
– А зачем сюда принес?.. – сказал Василий. – Пойдем на баржу, там буду писать. И высохнет быстрее.
Василий забрал кисти, краску, а мы поделили круги, и все трое отправились на баржу.
Пока Василий выписывал на кругах и пожарных ведрах «БН-25 УСК», что означает «Баржа наливная № 25 Унженской сплавной конторы», Боцман, поотойдя немного, рассказал мне свою ледовую одиссею.
– Пришел я туда чин чином. Документы оформил быстро, захожу на баржу, а тут дядя сидит. Пожарник.
– Чего, – говорю, – скучаешь?
– Почему пожарный щит не подписан? И ящик тоже? Лома на щите нет, ведра не хватает… Буквы на кругах… тоже стерлись.
– Я не художник, рисовать не умею. А круги – не твое дело, – говорю ему, – меня судоинспектор пропустил.
– Как хочешь, акт составлю, не выпушу.
– Составляй… Тебе и влетит за задержку судна. Ведь весь флот без топлива оставишь!
– Мое дело малое… Могу еще инспектора Регистра позвать, – он как раз у нас на базе.
– Ты меня в воду не толкай – я могу и посуху пройти.
Ну, что ты с дураком будешь делать! Судоинспектор меня пропустил, объяснил я ему, а этот дурачок привязался. Будто непонятно, что и щит и ящик – мои, если на моей барже они. Загорелось ему – «подписывай!» Краска у меня была, но только красная, а белил – ни грамма. Ладно, закрасил я ей. Вот он приходит утром, а у меня все как огонь горит!
– А надписи?
– А как я тебе буду писать по мокрой-то краске? – расплывется!.. Ждать надо, когда высохнет.
– Жди. Лома, значит, нет? И ведра одного тоже не хватает…
Зло меня взяло… Ладно, ведро покрасил я свое, питьевое, а лом утопил еще в прошлом году, где его на раз возьмешь? – Боцман усмехнулся. – Палку выстрогал хорошо-о так сделал! Краской замазал и – на щит. К щиту гвоздями еще прибил для «тяжести». Неужели, думаю, снимать будет, мараться в краске-то?.. Не заметил. А ходить – ходит, ждет, когда все подпишу. Ну, думаю, этого-то ты от меня не дождешься: я сам себе не враг, моим почерком только на уборных писать да и то по ночам… А тут и погода – туман, дождь – не потрафляет ему, а все – мне. Надоело, видно, отвязался.
Посмеялись мы тогда все вместе, сидя на палубе, подивились на Боцмана, и я ушел, оставив их с Василием вдвоем.
Теперь, приближаясь к барже Боцмана, я вспомнил ту весеннюю историю и подумал, что такой кого хочешь вокруг пальца обведет. «Надо с ним будет поосторожнее, с этим Боцманом…»
– Боба, ко мне! – крикнул Боцман, увидев нас, подходящих к трапу. – Свои, свои… На – кусочек. Иди на место!
– Ревизия, учет топлива, – объявил я официальным тоном, поднявшись на палубу.
– Давайте, давайте… – сказал Боцман, как будто даже с радостью. – Замеряйте, все ваше. На барже не курить, знаете, наверно. А так – замеряйте. Вот рейка, таблица танков у меня в каюте. Замеряйте, высчитывайте… Только не советую, я вам и без замеров точно скажу.
– Почему?
– Я не вор, – сказал он обиженно. – А захочу украсть, так возьму сколь надо… Еще спасибо скажете.
Мы поглядели с Осьмушкиным друг на друга и молча начали замеры. Записали показания уровней в танках (что-то много топлива было в них), пошли греться.
– Ты что, недавно заправлялся? – спросил я. Почти вся баржа полная, ничего не выбрано, по осадке и то видно.
– Летом… – нехотя ответил Боцман и достал нам документацию: схему и нумерацию танков баржи, таблицу их емкостей на разных уровнях налива, все требования, по которым выдавал топливо. Осьмушкин записывал все это в свою тетрадь. Взяли журнал выдачи топлива, стали подсчитывать, сверять…
– Да у тебя ж излишки большие! Откуда?..
– Хы… Откуда… А куда они денутся?
– Но у других нет… У одного недостача даже.
– Недоста-ача… – усмехнулся он. – Вон река-то – сливай сколь хошь, будет тебе любая норма, любая недостача…
Я опять вспомнил его весеннюю канитель с пожарником и стал думать, не замышляет ли он чего и теперь.
Боцман был спокоен, скорее даже – печален, обиженно отвернувшись, глядел в окно, покуривал, ждал, когда мы тут все подсчитаем. Его как будто и не интересовали эти подсчеты.
Мы пересчитали все еще раз – ошибки не было.
– Как же все это так получается? – спросил я вслух скорее самого себя, а не Осьмушкина или Боцмана.
– А так и получается, – как давно и хорошо усвоенное начал Боцман. – Катер работает три часа, а по судовому журналу пишут – пять, потому что мастер, у которого работает капитан, ставит ему полную смену, чтоб и заработал тот побольше да и простоя не было, за простои-то теперь стригут… А в следующий раз и вообще катеров не дадут… Ну, дадут один вместо трех-то. Начальники ушлые нынче, понимают все это, им план надо, премию… А капитану тоже премию надо и за выработку почасовую, и за экономию топлива… А где он все это возьмет? Движок не работал, так топливо-то в баке не тронутое, а по часам заправляться уж пора… Вот и бежит с половинным баком к барже… У всех излишки получаются – и у капитанов, и у нас. А где они? В реке… Ночью-то не видно – лей да лей. А я не хочу, что есть – то и есть. И реке, и рыбе я не враг. Лучше вон в колхоз отдать, чем реку травить.
Это была новость, в которую не хотелось верить. Мы сидели с Осьмушкиным молча, глядели друг на друга будто глухонемые. Что-то страшное надвигалось на нас с этими словами Боцмана. Оба почувствовали это и как бы готовились, привыкали. Оба, что называется, были молодыми специалистами и понимали, что всех скрытых пружин производства пока еще не постигли. И вот три главные силы флота: плавсоставская, техническая и экономическая, то есть как раз все мы, сидевшие в каюте у Боцмана, столкнулись лицом к лицу. Кто первый отведет глаза? Я сидел и думал, какую чудовищную «операцию» творили мы на реке из года в год. Все – механики, капитаны, шкипера, мастера, техноруки, бухгалтеры – по-разному, но подгоняли передачу и расход топлива под норму, изводили на все это множество бумаг за множеством подписей и печатей. Тонны пересчитывались в рубли, в проценты, плановые цифры сверялись с прошлогодними нормами, бумаги пересылались из конторы в контору, уходили от источников все дальше и постепенно теряли живую суть речных вахт, рабочих смен. Там, в главных конторах, никто уже не видел за этими цифрами хитростей капитанов, мастеров… Все «честно» боролись за «экономию», за план. Потом за все это получали премии. Получали их и в нашем транспортном участке, и в главной сплавной конторе, и в тресте получали… Премию за преступление. Я похолодел, вообразив все это. Нет, в каюте Боцмана вопрос этот нам было не решить! Большой это был вопрос, сложный.
– Пошли? – спросил я Осьмушкина.
Он молча, неловко сгреб со стола бумаги к себе в портфель, забрав даже документацию Боцмана, на что тот сказал: «Мои-то отдай…» Извинившись, Осьмушкин: выложил чужое и не в силах справиться со смущением поспешил к выходу.
В конторе нам делать было уже нечего, рабочий день кончался, и мы пошли прямо к себе, в общежитие.
– Ты знаешь, какой хай будет!.. – говорил Осьмушкин, возбужденно бегая по комнате и роняя стулья. Он поправлял очки и не мог остановиться. – Это же весь плановый отдел, всю бухгалтерию на ноги поднимем! И капитаны все на дыбы встанут! Механики, мастера!.. О-о-о!.. Мы, с тобой будем как враги всем, из-за одного какого-то Боцмана!
– Тебя с работы снимут еще…
– Могут… «Причина» найдется. Слушай, ведь уж приказ заготовлен к октябрьским, проект приказа видел – благодарности, премии… Есть и за экономию топлива. Все к черту полетит!
– Давай составлять акт?
– Не знаю… Давай еще раз пересчитаем по каждой барже и будем думать.
Мы снова взялись за дело. Оба тогда заочно учились, в институте: Осьмушкин – на экономическом факультете, я – на механическом, поэтому дело с топливом у нас было вроде практики. Недоверяя таблицам Боцмана, я вычислил объем танков даже с применением интегралов.
Нет, ни мы не ошиблись, ни Боцман. Мы, конечно, могли бы еще что-то придумать, сгладить, но обоим (я видел это и по Осьмушкину) было тревожно, не по себе как-то, как бывает, когда чувствуешь спиной взгляд сильного человека.
Повздыхав, мы наконец составили акт, который больше походил на приговор, и легли, будто гору свалили с плеч. Но на самом деле гора эта должна была обрушиться на нас только завтра.
– А, может, не стоит? – снова спросил Осьмушкин, когда я ему только что было позавидовал, как быстро уснул он. Но какой там сон! Мы лежали, ворочались, время от времени спрашивали о чем-нибудь друг друга. Наконец Осьмушкин не выдержал, встал, снова уселся за стол.
Я понимал его: главный удар должен был выдержать он как помощник экономиста. Мне было, конечно, проще. Как-то надо было поддержать его, подбодрить, что ли…
– Слушай, брось! – сказал я. – Давай выпьем?
– Чего?..
– У меня есть, в запасе держал… С концом ревизии и планировал, а тут забыл…
Я достал бутылку, присел к столу и пригласил его широким жестом:
– Прошу к столу, мистер Осьмушкин, – сказал я шутливо, настраивая его на более веселый лад.