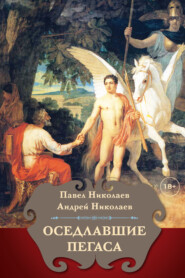скачать книгу бесплатно
Оседлавшие Пегаса
Андрей Павлович Николаев
Павел Федорович Николаев
Первые пятнадцать лет XIX столетия вошли в историю как эпоха Наполеоновских войн, активное участие в которых принимала Россия. Отечественная война 1812 года наложила неизгладимый отпечаток на историю и культуру всего XIX века и необычайно возвеличила наше Отечество.
Первая часть книги, предлагаемая вниманию читателей, посвящена отношению русских писателей, современников Наполеона, к этой величественной фигуре. Во второй части рассказывается о полузабытых писателях XVIII столетия. С третьей по пятую повествуется об отдельных эпизодах из жизни классиков русской литературы. При этом сообщаются малоизвестные факты из их биографий. Словом, читатель получит интересные сведения по русской литературе от Тредиаковского до Маяковского.
Книга рассчитана на тех, кто интересуется историей и культурой Великой России.
Павел Федорович Николаев, Андрей Павлович Николаев
Оседлавшие Пегаса
Светлой памяти Ларисы Викторовны Чугаевой посвящается
© Николаев П.Ф., 2024
ISBN 978-5-00246-029-8
© Николаев А.П., 2024
© Оформление. Издательство «У Никитских ворот», 2024
Часть 1
Раздался звук трубы военной
Русские писатели об Отечественной войне 1812 года
На начинающего Бог. Федор Глинка
Пепел родины. Весна была в самом разгаре. Тучные нивы обещали хороший урожай. Но это не радовало. В голове Фёдора Николаевича теснились тревожные мысли: «К чему такое притеснение войск к границам? К чему сам государь, оставляя удовольствия столицы, перешёл туда разделить труды воинской жизни? К чему, как не к войне!»
Россия и Франция формально ещё оставались не только друзьями, но и союзниками. В официальной переписке русский и французский императоры называли друг друга братьями, но в то же время в обеих странах уже вполне открыто велась пропаганда, отнюдь не союзнического направления. Так 24 (12) мая, за три недели до перехода противником русской границы, в Петербурге с успехом шёл исторический водевиль Шаховского «Казак-стихотворец».
Действие в водевиле происходило после победы Петра I над шведскими интервентами под Полтавой. Один из героев водевиля произносил патриотические стихи, в которых прославлял русского человека, ибо он: «Страшен, пагубен врагам».
Стихи эти имели неслыханный успех, так как были восприняты зрителями, как предупреждение новым врагам России.
Патриотические куплеты из «Казака-стихотворца» и затем, в ходе Отечественной войны, пользовались неизменным успехом у зрителей, были на устах у многих и перешли в народ.
Войну ждали, войну предчувствовали, но никто не хотел ее, а потому надеялись, что авось пронесёт на этот раз. Не пронесло.
И вторжение неприятеля оказалось для многих неожиданностью. О том, как тяжело оно было воспринято Глинкой, мы можем судить только по одному факту. Его дневник 1812 года начинается с записи от 22 (10) мая, а следующая появилась только через полтора месяца.
Фёдор Николаевич никак не откликнулся на такое решающее событие Отечественной войны, как её начало. По-видимому, потрясение, вызванное неприятельским вторжением, было настолько сильным, что прошло больше месяца, прежде чем Глинка смог осмыслить его и воспринять как факт не только ожидавшийся, но уже свершившийся.
18 (6) июля, проделав 45-километровый путь из своей деревни, Фёдор Николаевич прибыл в Смоленск. Армии ещё не подошли к городу, ещё не известна была судьба его, но население уже начало покидать старинный форпост русского государства, Глинка отметил это: «Народ у нас не привык слышать о приближении неприятеля. Умы и души в страшном волнении. Уже потянулись длинные обозы; всякой разведывает, где безопаснее». В уходе населения из города писатель видел грозное предзнаменование и предсказывал, что в России Наполеон, как и в Испании, будет покорять только землю, а не людей. В потоке беженцев, мерно текущих через Смоленск, Фёдор Николаевич угадывал ту грозную силу, которая даст войне определение «Отечественная». В этом потоке он видел не жалкие толпы горожан и крестьян окрестных деревень, а будущих ратников, которые встанут на защиту Родины. Эта будущая сила вызывала творческий порыв, и Фёдор Николаевич написал своё первое стихотворение периода Отечественной войны, в котором уверенно заявлял:
Мечи скуем мы из серпов;
С дрекольем встанем за свободу.
Кто смеет плен нести Российскому народу?
Что враг непобедим, молвы то праздный звон:
Опасен хитростью одной Наполеон!
Ф.Н. Глинка
Стихотворение заканчивается фразой «На зачинающего Бог». Этими же словами завершается первый приказ по русским армиям от 25 (13) июня: «Не нужно напоминать вождям, полководцам и воинам нашим об их долге и храбрости. В них издревле течёт громкая победная кровь славян. Воины! Вы защищаете веру, Отечество, свободу. На начинающего Бог».
Посещение Смоленска вызвало резкий перелом в настроении Глинки. С этого момента его дневник заполняется записями мажорного плана. Он с восторгом отмечал, что наступает время Минина и Пожарского и после двухвекового сна пробуждается дух народный.
Смоленск принимал вид военного города. Через него беспрерывно сновали курьеры, перевозили пленных. К городу тянулись многочисленные подводы с хлебом, в него гнали скот. Шла интенсивная подготовка к приходу армий Багратиона и Барклая-де-Толли.
30 (18) июля Фёдор Николаевич опять был в Сутоках. Там он встретился с братом Григорием, который служил в Любавском пехотном полку. В нём оказалось много выпускников кадетского корпуса. Встреча с ними порадовала Глинку, напомнив годы отрочества и ранней юности: «Многие из товарищей наших уже полковники и в крестах; но обхождение их со мной точно то же, какое было за десять перед этим лет, несмотря на то, что я только бедный поручик! Как сладко напоминать то время, когда между богатыми и бедными, между детьми знатных отцов и простых дворян не было никакой разницы; когда пища, науки и резвости были общими; когда, не имея понятия о жизни и свете, мы так сладостно мечтали о том и другом. Повторяя бессмертные слова Екатерины, что корпус кадетский – рассадник великих людей, мы любили воображать себе, что все до одного будем полезны Отечеству».
В этой же записи Фёдор Николаевич упомянул другого брата – Ивана. Ему губернатор Смоленска поручил устройство переправ через Днепр у Соловьёва. И потекли через них толпы поселян, покинувших свои пенаты, но готовых встать в ряды защитников родных гнёзд: «Только и говорят о поголовном наборе, о всеобщем восстании. Дух пробуждается, души готовы. Народ просит воли, чтобы не потерять вольности. Но война народная слишком нова для нас. Кажется, ещё боятся развязать руки. До сих пор нет ни одной прокламации, дозволяющей собираться и действовать, где, как и кому можно».
Необычайный подъём духа народа воодушевил Глинку на создание «Военной песни»:
Раздался звук трубы военной,
Гремит сквозь бури бранный гром:
Народ, развратом воспоенный,
Грозит нам рабством и ярмом!
Текут толпы, корыстью гладны,
Ревут, как звери плотоядны,
Алкая пить в России кровь.
Идут, сердца их – жесткий камень,
В руках вращают меч и пламень
На гибель весей и градов!
3 августа 1-я (Барклая-де-Толли) и 2-я (Багратиона) русские армии соединились под Смоленском. Солдаты, довольные этим, так объяснялись между собой, вытягивая руку и разгибая ладонь с разделёнными пальцами, говорили: «Прежде мы были так, – и, сжимая пальцы в кулак, – а теперь вот так!» После этого взмахивали кулаком: «Так пора же дать французу вот так!»
Попытка русского командования нанести удар противнику под Рудней не удалась. Обойдя армию Барклая-де-Толли, Наполеон устремился к Смоленску. 16 (4) августа в два часа ночи Глинка уведомил брата Сергея: «В сии минуты, как я пишу тебе дрожащей рукой, решается судьба Смоленска. Я сейчас иду помолиться в последний раз на гробах родителей и еду к старшему брату Василию, от него видно сражение. Прощай!»
Сражение за Смоленск продолжалось три дня. Фёдор Николаевич наблюдал за ним из села Чуриково:
«Я видел ужаснейшую картину – я был свидетелем гибели Смоленска. Погубление Лиссабона не могло быть ужаснее. Утомленный противоборством наших, Наполеон приказал жечь город. Злодеи тотчас исполнили приказ изверга. Тучи бомб, гранат и чиненных ядер полетели на дома, башни, магазины, церкви. Всё, что может гореть, – запылало!..
Опламененные окрестности, густой разноцветный дым, багровые зори, треск лопающихся бомб, гром пушек, кипящая ружейная пальба, стук барабанов, вопль старцев, стоны жен и детей, целый народ, падающий на колени с воздетыми к небу руками: вот что представлялось нашим глазам, что поражало слух и что раздирало сердце!.. Толпы жителей бежали из огня, полки русские шли в огонь; одни спасали жизнь, другие несли её на жертву. Длинный ряд подвод тянулся с ранеными…
В глубокие сумерки вынесли из города икону Смоленской Божьей Матери. Унылый звон колоколов, сливаясь с треском распадающихся зданий и громом сражений, сопровождал печальное шествие это. Блеск пожаров освещал его. Между тем черно-багровое облако дыма засело над городом, и ночь присоединила темноту к мраку и ужас к ужасу. Смятение людей было так велико, что многие выбегали полунагими и матери теряли детей своих. Казаки вывозили на седлах младенцев из мест, где свирепствовал ад.
Теперь Смоленск есть огромная груда пепла; окрестности его – суть окрестности Везувия после извержения».
В письме в Москву Глинка сообщал редактору «Русского вестника», что за Смоленск сражался их брат Григорий. Он был 12 часов в стрельных и «дрался так храбро, как только может драться смолянин за свой отеческий город». В этом Фёдора Николаевича уверяли все офицеры Либавского пехотного полка, к которому временно пристал Глинка. О себе Фёдор Николаевич писал:
«Кровопролитные битвы ещё продолжаются. Мы ложимся и встаём под блеском зарев и громом перестрелок. Мне уже нельзя заехать домой; путь отрезан! Итак, иду туда, куда двигает всех буря войны!.. Сколько раненых! Сколько бегущих! Бесконечные обозы тянутся по полям; толпы народа спешат, сами не зная куда!.. Мы теперь нищие, с благородным духом, бродим уныло по развалинам своего Отечества. Повсюду стон и разрушение!..
Но судьбы Вышнего неиспытанны. Пусть разрушаются грады, пылают села, истребляются дома, исчезает спокойствие мирных дней, но пусть эта жертва крови и слез, эти стоны народа, текущие в облако вместе с курением пожаров, умилостивят, наконец, разгневанные небеса! Пусть пострадают области, но спасется Отечество! Вот общий голос душ, вот искренняя молитва всех русских сердец!»
От Смоленска Фёдор Николаевич и его брат Василий шли с отступавшими русскими войсками. В окрестностях Дорогобужа ехали с конницей генерала Корфа. Старший брат знал там все тропинки и послужил кавалеристам хорошим проводником. Затем Глинки присоединились к корпусу генерала Дохтурова. Вид огромного военного лагеря вдохновил Фёдора Николаевича на создание солдатской песни:
Вспомним, братцы, россов славу
И пойдём врагов разить!
Защитим свою державу:
Лучше смерть – чем в рабстве жить.
Мы вперёд, вперёд, ребята,
С богом, верой и штыком!
Вера нам и верность свята:
Победим или умрем!
Под смоленскими стенами,
Здесь, России у дверей,
Стать и биться нам с врагами!..
Не пропустим злых зверей!
С внутренним удовлетворением Глинка отмечал, что завоеватели шли по месту сёл и деревень, жители которых исчезали из них, как тени. С болью переживал он необходимость оставления этих пепелищ: «Всякий день вижу уменьшение Отечества нашего и расширение власти врагов». Прощаясь с родными местами, Фёдор Николаевич писал брату Сергею:
«Помнишь, как мы вместе читали Шиллерову трагедию “Разбойники”? Помнишь, как пугала нас страшная картина сновидения Франца Мора, картина, которую Шиллер с искусством Микель-Анжела начертал пламенным пером своим. Там, среди ужасного пожара Вселенной, леса, сёла и города тают, как воск, и бури огненные превращают землю в обнажённую пустыню!
Такие картины видели мы всякий раз, ложась спать. Каковы же должны быть сновидения? – спросишь ты. Их нет: усталость лишает способности мечтать. Уже и Дорогобуж, и Вязьма в руках неприятеля: Смоленская губерния исчезает! Прощай!»
Вторжение неприятеля в коренные русские области вызвало широкую волну народного сопротивления. Глинка отмечал, что сжигаемые деревни и сёла разжигают в жителях их огонь мщения. На борьбу с захватчиками поднимаются и стар и млад: «Тысячи поселян, укрываясь в леса и превратив серп и косу в оружия оборонительные, без искусства, одним мужеством отражают злодеев. Даже женщины сражаются!»
Во время ночных переходов Фёдор Николаевич часто заводил беседы с солдатами или слушал их разговоры. Его радовал дух патриотизма, царивший в войсках, желание всех сражаться, недовольство и даже ропот по поводу отступления. Высокий моральный дух армии и её бесконечное отступление заставляли Глинку пристальнее наблюдать за главнокомандующим Барклаем-де-Толли, дать личную оценку его действий.
Как известно, тактика отступления, заманивания противника в глубь страны вызывала резкую критику даже в ближайшем окружении Барклая-де-Толли. Характерным в этом смысле (своей откровенностью) были суждения командующим 2-й Западной армии князя П.И. Багратиона. Этого прославленного генерала, избалованного похвалами самого Суворова, любимца публики, сторонника наступательной тактики и любителя скоротечных сражений, выводила из равновесия стратегия затяжной войны. С возмущением, руководствуясь больше чувством, чем трезвыми расчётами, Багратион писал 15 (3) июля А.П. Ермолову: «Стыдно носить мундир, ей-богу, я болен… Что за дурак… Министр Барклай сам бежит, а мне приказывает всю Россию защищать. Признаюсь, мне все омерзело так, что с ума схожу… Прощай, Христос с Вами, а я зипун надену».
Ровно через месяц Багратион уверял графа Ф. Ростопчина: «…Барклай никак не соглашается на мои предложения и всё то делает, что полезно неприятелю. Я Вас уверяю, что приведёт Барклай к Вам неприятеля через шесть дней. Признаюсь, я думаю, что брошу Барклая и приеду к Вам, я лучше с ополчением Московским пойду».
Так выглядел главнокомандующий в глазах своего первого помощника, не сумевшего или не захотевшего понять его. Фёдор Николаевич, стоявший в тогдашней социальной лестнице неизмеримо ниже Багратиона, сумел более объективно взглянуть на главнокомандующего и правильно оценить его значение и роль в развернувшихся событиях. 28 (16) августа он сделал следующую запись в дневнике:
«Я часто хожу смотреть, когда он проезжает мимо полков, и смотрю всегда с новым вниманием, с новым любопытством на сего необыкновенного человека. Пылают ли окрестности, достаются ли сёлы, города и округи в руки неприятелю; вопиет ли народ, наполняющий леса или великим толпами идущий в далёкие края России: его ничто не возмущает, ничто не сильно поколебать твёрдости духа его».
Барклай-де-Толли
Глинка сравнивал Барклая-де-Толли с Колумбом. Один вёл к неведомой другим цели корабли, а другой ведёт армию вопреки недовольству многих. Но та решительность, последовательность и твердость, с которыми главнокомандующий идёт к непонятной пока другим цели, указывают на то, что ему эта цель ведома: «Он, конечно, уже сделал заранее смелое предначертание свое; и цель, для нас непостижимая, для него очень ясна! Он действует как провидение, не внемлющее пустым воплям смертных и тернистыми путями влекущее их к собственному их благу».
Пройдя тысячекилометровый путь на восток от Немана, русская армия не потеряла ни одного значительного отряда, ни одного знамени, почти ни одной пушки и ни одного обоза. Даже враги вынуждены были признать, что это не было беспорядочное бегство под давлением превосходящих сил неприятеля, что отступление было планомерным, всегда заранее предвиденным и ровно настолько, насколько считалось необходимым на данный момент.
Огромное значение имел и тот факт, что армия сохранила высокий моральный дух. Все от рядового солдата до высшего генералитета рвались в бой. Примечателен в этом отношении случай, происшедший около Гжатска. К французским частям был послан для каких-то переговоров русский парламентер. Выполнив свою задачу, он хотел откланяться, но в это время один из французских генералов, по-видимому, желая, чтобы окружавшие парламентера офицеры и солдаты услышали от него магическое слово «Москва», спросил:
– Что можно найти за Гжатском?
– Полтаву, – последовало в ответ.
В полной мере роль и значение Барклая-де-Толли была оценена значительно позже. Эта роль заключалась в том, что он сохранял армию для генерального сражения. Фёдор Николаевич Глинка оказался одним из немногих современников главнокомандующего, которым были понятны его действия. Он сумел увидеть в сухом, внешне абсолютно бесстрастном военачальнике и жар страстей, и тяжесть дум, и титанические муки моральной ответственности за взваленную на его плечи ношу. В этом смысле он предвосхитил гениальный психологический анализ, данный позднее Барклаю-де-Толли А.С. Пушкиным: «Барклай, не внушающий доверенности войску, ему подвластному, окруженный враждой, язвимый злоречием, но убеждённый в самом себе, молча идущий к сокровенной цели и уступающий власть, не успев оправдать себя перед глазами России, останется навсегда в истории высоко-поэтическим лицом».
17 (5) августа, в тот день, когда русская армия мужественно защищала Смоленск, отражая все попытки неприятеля взять город, в Петербурге в доме председателя Государственного совета графа Н.И. Салтыкова собрались члены Чрезвычайного комитета, принявшие решение о назначении главнокомандующим всеми действующими русскими армиями М.И. Кутузова.
29 (17) августа Михаил Илларионович прибыл в армию. Весть о приближении нового главнокомандующего опережала его. Фёдор Николаевич с радостью воспринял известие о назначении Кутузова и в день прибытия его в армию записал: «Бессмертие уже готовит место на скрижалях своих, чтобы передать имя его в бесконечность времён».
На следующий день Глинка увидел того, кому накануне пророчил бессмертие. Кутузов сидел на простой деревянной скамье перед одной из изб Царева-Займища. Вокруг него толпилось множество штабных офицеров.
С приездом Кутузова все оживились. Впервые у солдатских костров послышались шутки и песни. Когда Михаил Илларионович в первый раз объехал войска, солдаты засуетились, начали приводить в порядок свою обветшавшую за многие переходы форму. Кутузов, заметив это, сказал:
– Не надо! Ничего этакого не надо! Я приехал только посмотреть, здоровы ли вы, дети мои! Солдату в походе не о щегольстве думать, ему надобно отдыхать после трудов и готовиться к победе.
Всё, что говорил главнокомандующий, сразу становилось достоянием всей армии. Солдаты радостно обсуждали всё, сказанное Кутузовым, называли его отцом, батюшкой и клялись положить за него головы. Наблюдая этот взрыв энтузиазма, Фёдор Николаевич сделал вывод:
– Все обстоятельства предвещают сражение, долженствующее решить судьбу Отечества. Говорят, что в последний раз, когда светлейший осматривал полки, орёл явился в воздухе и парил над ним. Князь обнажил сединами украшенную голову; всё войско закричало «ура!» В сей же день главнокомандующий приказал служить во всех полках молебен Смоленской Божьей Матери. Всё это восхищает солдат и всякого. Быть великому сражению!
Застонала земля. 3 сентября утром русские полки расположились у Колоцкого монастыря. В нём ещё оставались два или три монаха. Глинка был у вечерни. Унылый стон колокола, тихое пение, синеватый сумрак, слегка просветляемый тёмной лампадою, теснили сердце и вызывали тяжёлые думы: «Я вышел и смотрел на заходящее солнце, которое усиливалось сохранить блеск свой в мутных облаках, гонимых холодным ветром. Уже ли, думал я, и древняя слава России угаснет в бурях, как оно!»
На следующий день армия была в Бородино. На высоте, которая вскоре получила имя генерала Н.Н. Раевского, уже строилась батарея. Поля были вытоптаны, исчезли окружающие деревни – все строения их разобрали на укрепления. Русская армия окапывалась, засеками городила прилегающие к полю леса. Солдаты осматривались, офицеры знакомились с неровным, сильно пересечённым полем, в центре которого расположилось село Бородино. Никто ещё не придавал ему особого значения. Название села произносилось без какого-либо выделения его из числа других населенных пунктов огромного поля. Во всей армии были считанные единицы людей, которым раньше было знакомо слово «Бородино»; к ним относились Д. Давыдов, его владелец, и А.А. Тучков 4-й.
По семейному преданию, Александр Алексеевич Тучков услышал название села от своей жены Маргариты Михайловны, когда русские армии подходили к Смоленску. Маргарита Михайловна сопровождала мужа, это был не первый поход в её жизни. Куда бы ни забрасывала судьба Александра Алексеевича, жена всегда была рядом с ним.
И вот однажды во время ночёвки в какой-то деревушке под Смоленском все были разбужены криком Маргариты Михайловны. Александр Алексеевич и служанка, мадам Бувье, встревоженные, прибежали на её зов. Маргарита Михайловна была бледна и дрожала как осиновый лист.
– Где Бородино? – спросила она мужа, едва переведя дух. – Тебя убьют в Бородине!
– Бородино? – повторил Александр Алексеевич. – Я в первый раз слышу это название.
Это не успокоило Маргариту Михайловну. Тогда Александр Алексеевич послал в штаб за картой. Когда её принесли, все стали искать роковое название и не нашли его.
– Если Бородино действительно существует, – заметил Александр Алексеевич, обращаясь к жене, – то, судя по звучному его имени, оно находится, вероятно, в Италии. Вряд ли военные действия будут туда перенесены, ты можешь успокоиться.
Да, до 7 сентября 1812 года Бородино было рядовое и почти никому неизвестное село. Но, предчувствуя его трагическую славу, Глинка подробно описал день прихода русской армии на Бородинское поле:
«“Тут остановимся мы и будем сражаться!” – думал каждый, завидя высоты Бородинские, на которых устроили батареи. Войска перешли Колочу, впадавшую здесь же, в селе Богородине, в Москву-реку, и установились на протяжении холмов, омываемых слиянием этих двух речек. Стало войско – и не стало ни жатв, ни деревень: первые притоптаны, другие снесены. “Война идёт и метёт!” Так говорится издавна в народе. Может ли быть бедствие, лютейшее войны?
Наступает вечер. Наши окапываются неутомимо. Засеками городят леса. Пальбы нигде не слыхать. Там, вдали, неприятель разводит огни; ветер раздувает пожары, и зарево выше и выше восходит на небеса!»
5 сентября шли бои под стенами Колоцкого монастыря и за Шевардинский редут:
«Гром пушек приветствовал восходящее солнце. Поля дрожат, кажется, гнутся под множеством конных; леса насыпаны стрелками, пушки вытягиваются из долин и кустарников… Неприятель, как туча, засипел, сгустившись, против левого нашего крыла и с быстротой молнии ударил на него, желая всё сбить и уничтожить. Пушки наши действовали чудесно. Кирасиры врубались с неимоверной отважностью. Раздраженный неприятель несколько раз повторял свои нападения и каждый раз был отражён.
Во всё время как мелкий огонь гремел неумолчно и небо дымилось на левом крыле. Князь Михайла Ларионович сидел на своей деревянной скамеечке, которую за ним всегда возили, у огня, на середине линий. Он казался очень спокоен. Все смотрели на него и, так сказать, черпали от него в сердца свои спокойствие. В руках его была нагайка, которою он то помахивал, то чертил что-то на песке. Казалось, что весь он превратился в слух и зрение, то вслушиваясь в гремящие переходы сражения, то внимательно обозревая положение мест. Часто пересылался с ним Багратион. Ночь прекратила бой и засветила новые пожары».
На завтра противники отдыхали и почти весь этот день Фёдор Николаевич просидел на колокольне церкви Рождества в селе Бородино. В зрительную трубу он осматривал позицию противника. Французы возводили на своём левом фланге большие редуты, на которых Глинка насчитал сто пушек. Из своих наблюдений и реплик других офицеров, бывших на колокольне, Фёдор Николаевич сделал правильный вывод о том, что противник укрепляет своё левое крыло для того, чтобы перевести максимальное количество войск на правое и создать ударный кулак против левого фланга русской армии.
И вот опустилась ночь на враждующие армии. На стороне русских было тихо. Только изредка перекликались часовые. В лагере французов ярко блестели огни, звучала музыка, раздавалось пение, звуки труб и крики. Но вот Фёдор Николаевич уловил дружные восклицания, ещё и ещё. Он понял: это приветствуют Наполеона, объезжающего войска. С болью подумал: так было и перед Аустерлицем. Что же будет завтра?
На рассвете 7 сентября Глинка был разбужен тучей ядер, пролетевших над шалашом, в котором он располагался со своими товарищами. Все разом выскочили наружу. Вокруг всё пылало. Рушились и горели шалаши, с треском рвались бомбы. На востоке только занималась заря. Между противниками лежал густой туман. Солдаты хватали ружья и шли в огонь.
В этот день Глинка находился в деревне Горки, на главной батарее, и на дороге, где перевязывали раненых. В один из моментов он направился было в ближайший лесок, но его остановил лекарь: «Не заглядывайте в этот лесок, там целые костры отпиленных рук и ног».