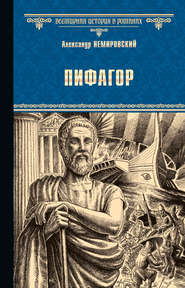скачать книгу бесплатно
Абибал рассмеялся.
– Это мы так говорим. Ведь корабельные носы самоян завершаются свиными рыльцами, такими же, как днища самосских амфор. Фараон Амасис, если верить молве, посоветовал Поликрату заменить их на что-либо другое, ведь для египтян, как и для евреев, свинья – нечистое животное. Но тот будто ответил, что эти «свиньи» принесли ему счастье и власть. И впрямь, как бы он без самоян превратил в рабов обитателей островов, которые вы называете круговыми?[6 - Кикладскис (дословно – «круговые») острова – архипелаг островов Эгейского моря, расположенных вокруг Делоса наподобие круга.] Теперь они исправно платят ему дань. Их трудом пробита гора, и через нее пропущена целая река.
– Что я слышу! Сквозь гору?! Совсем как в Иерусалиме?! И это на моем заброшенном Самосе! Видимо, и впрямь надо надолго расставаться с отечеством, чтобы оно могло тебя удивить!
– Можно было бы еще многое порассказать, – перебил Абибал. – Но вот уже твой берег. Как только сойдешь, я сразу отчалю. Если понадобится помощь, моя посудина будет здесь в следующее новолуние.
Пифагор, подхватив полотняный мешок, шагнул к сходням.
– Ты и так из-за меня отказался от плавания в Картхадашт и терпишь убыток.
– О чем ты говоришь, господин мой?! – взволнованно произнес финикиец. – Ты вернул к жизни моего первенца, и моя жизнь принадлежит тебе. Знай, что нет услуги, которой бы я тебе ни оказал. И она будет мне радостью, а не обузой.
Сходни, подтянутые дюжими руками, скрылись за бортом. Суденышко, мгновенно развернувшись, показало берегу корму. Последний раз блеснула седина Абибала. Пифагор перекинул котомку за спину и побрел по набережной навстречу все громче звучащей музыке.
Праздник Геры
Пифагор шагал по молу, обходя судно, застопоренное на очищенных от коры стволах. Нижняя его часть у киля блестит древесной слезой, на верхней, свежевыкрашенной, выделяются выписанные белым, никому не понятные иероглифы. На выгнутом дугой носу рядом с фигуркой бегущего кабана укреплена оливковая ветвь. Все говорит о том, что эта, судя по описанию Абибала, самояна предназначена в дар союзнику Самоса фараону.
Все отчетливее и призывнее звучали авлосы. И вот уже на мощеной дороге, повторявшей изгибы обозначенного прибоем берега, показалась священная процессия. Впереди шла верховная жрица в облике богини. Ее пеплос[7 - Пеплос – греческая женская одежда без рукавов, сколотая на плечах пряжкой.], переливаясь яркими красками, напоминал распущенный хвост павлина. Над обнаженными, покрытыми жемчугами и драгоценными камнями руками жрицы возвышалась чаша из красного электра[8 - Электр – сплав золота и серебра, известный уже в глубокой древности.] в форме ладьи с высоким носом и тремя лилиями вместо парусов. Венок на голове женщины сверкал литыми золотыми колосьями. Ниспадавшие из-под него светлые волосы свободно и мягко ложились на обнаженную шею. Стайки мальчиков и девочек, двигаясь справа и слева, размахивали ветвями ивы и пели:
Славься, владычица всеблаженная,
Под именами известная разными:
Тем, кто на Ниле родился, – Исидою,
Перворожденным фригийцам – Кибелою,
Критянам – Артемидой Диктиною,
Нам же – божественной матерью Герою.
За жрицей пестрой и шумной толпой двигались ряженые – в масках кукушек, с клювами и хохолками, в коричневатых с желтыми разводами гиматиях. Они одновременно опускали и поднимали полы, выкрикивая: «Ку-ку!» За «кукушками» с пляской шли обнаженные храмовые рабыни. В серебряных зеркалах, прикрепленных к их спинам, перекатывались, подобно медным шарам, смазанные жиром груди с позолоченными сосками, и вместе с ними плясало и переливалось во всей пестроте восточное сладострастие, не совместимое с именем той, которую эллины, а до них пеласги считали супругою Зевса и хранительницей святости брака.
Священную процессию замыкали авлеты. Прижатые к губам авлосы согласно выдували знакомую Пифагору с детских лет гулкую, дробную мелодию, которую называли «снопом», но звучала она менее стремительно и более протяжно, словно бы в нее каплями вливался тягучий, как мед, лидийский лад.
«Вот она, моя Итака, в бурном море перемен, – напряженно думал Пифагор. – О, как же не похож этот праздник на тот, что описан Асием! Владычица перестала быть одинокой. Гармония сделалась сложнее и запутаннее. И как постигнуть ее слагающие! Как вычислить формулу этих перемен и понять их смысл?»
Внезапно все умолкло. Скрылась бухта. Глазу открылся песчаный, ничем не защищенный берег с перемежающимися наподобие сосцов Кибелы холмами. Вместо посоха в руке Пифагора оказался меч необычайной формы, и он явственно ощутил тяжесть доспехов. Взгляд привлек зеленый островок. Из-за островка в нескольких стадиях от берега вышли корабли. Ветер надувал их розовые от заката паруса. «Ахейцы! – мелькнуло в мозгу. – Надо предупредить Приама».
Видение исчезло так же мгновенно, как и появилось. Слух наполнился гулкими ударами молотов, выбивавших клинья на бревнах. Киль под ликующие вопли заскользил по бревнам, и самояна, как утка, закачалась на волнах.
И вдруг неожиданно для себя Пифагор запел, сначала тихо, про себя, а потом все громче и громче. Один из устроившихся в тени платана игроков в кости, кинув на утоптанную землю астрагал[9 - Астрагал – игральная кость, обычно четырехгранная, бросаемая игроками поочередно.], удивленно пробасил:
– Слышь, как подпевает босоногий.
Сказав это, он, кажется, лишь увидел поющего Пифагора, но не вслушался в его песню, ибо даже подвыпивший по случаю праздника гуляка должен был понять, что рожденная голосом незнакомца мелодия не имеет ничего общего со звучащим в отдалении пеаном[10 - Пеан – гимн, чаще в честь Аполлона, но также и других богов.], а если бы пение услышал человек, наделенный воображением и музыкальным слухом, он с первых же тонов понял бы, что мелодия не похожа ни на одну из когда-либо звучавших и, более того, что она выражает истинную, скрытую от непосвященных суть богини, которую ионийцы называют Герой, а обитавшие до них на острове лелеги – Керой, что на их языке означало «корень».
«Откуда этот напев? – думал Пифагор, двигаясь в обход агоры к улице Древоделов. – Не от испарений ли от этой древней земли? Или его нашептало море, по которому плыл Орфей? Видение опять вернуло меня к первому из моих земных существований. Ахейцы совершили очередной набег на Трою. А что стало с моей Парфенопой, где она закончила свои дни? И долго ли можно еще жить, оставаясь в неведении? Как раскрыть эту обжигающую тайну? Уже видны ворота. Нет, не Скейские[11 - Скейские ворота – ворота Трои, обращенные к морю, с видом на лагерь ахейцев.], а Кузнечные».
Сердце Пифагора защемило. Взгляд выхватил старый дом, сиротливо зажатый между двумя новыми с башенками по углам. Тот же матовый цвет стен. Гнездо на шесте у кровли. Аист повернул белую, как гипс, голову и что-то невнятно прокричал. «Тот ли это аист, что меня напутствовал, или его сын? – думал Пифагор. – И сколько лет живут аисты? Воюют ли пигмеи с аистами или журавлями? Вопросы! Вопросы!..»
Отец
Послышался знакомый с детства звук, напоминавший стрекотание кузнечика. Резец возвратил Пифагора в юность, словно бы и не было этих долгих лет скитаний и он снова сидит рядом с отцом, наблюдая, как под его пальцами в твердый камень вписывается изображение.
Пифагор толкнул дверь и охватил лесху беглым взглядом. Ларь с углами, сбитыми чеканной медью, деревянная скамья с растопыренными ножками, стены, украшенные керамикой с геометрической росписью. Стол у окна, и за ним сгорбленная фигура. Поседевшая голова, и над нею в солнечном луче столбик каменной пыли. «Но почему так пусто? Где же мать? Где брат? Неужели нас осталось двое?»
– Что же ты медлишь, Пифагор? – послышался голос отца. – Ну вот я и дождался тебя. Но мать… – голос задрожал.
Пифагор бросился к старику, подхватил его вместе с сиденьем, прижал к груди.
– Довольно, отец, – произнес он нежно. – Помню я тебя насмешливым, гневным, нежным, решительным, раздраженным… однажды, на свадьбе брата, пьяным. Плачущим – вижу впервые.
Мнесарх смахнул со щеки слезу.
– Сегодня утром я проснулся так, будто меня схватили за грудь и тряхнули. А до того я видел тебя в полудреме рядом с седовласым незнакомцем, лицо твое то возникало, то исчезало, ты спрашивал: «Не остров ли это феаков?» Раньше со мной такого не случалось!
– Да. Порой открывается нечто, во что верится с трудом. К таким явлениям ныне устремлены мои мысли.
Пифагор опустил голову.
– Что нет матери, я понял сразу. Но почему ты один? Где наш Эвном? Неужели и он?!
Мнесарх попятился к выходу, и стало слышно, как крюк с жалобным скрипом входит в желоб наружной двери.
– Твой брат – беглец, – проговорил он, возвратившись, – Эвном присоединился к изгнанникам. Хотел взять с собой и меня, но я верил, что ты жив. Почти каждый день, когда не было работы, ходил в гавань.
– Погоди, отец. Объясни, что угрожало Эвному? От кого он бежал? О каких изгнанниках ты говоришь?
– Поликрат! – почти выкрикнул Мнесарх. – Второй Минос[12 - Минос – легендарный царь Крита, при котором остров достиг небывалого могущества на морях.] и страшилище морей! Раньше у каждого, высаживающегося на ближние и дальние побережья, спрашивали: «Не разбойник ли ты?», а теперь: «Ты самосец?» Из-за Поликрата многие покинули остров, а некоторых он выслал. Разорены геоморы[13 - Геоморы (дословно – «землевладельцы») – на Самосе так называли знать, поскольку основой ее могущества были земельные владения.]. Отнятыми у них землями и рабами вознаграждены ничтожные людишки и жадные до чужого добра пришельцы. Раньше в саду Астипалеи звучали кифары, ныне все заглушает боевой клич упражняющихся критских наемников. Поликрат захватил власть с дюжиной воинов, а удерживает ее, содержа тысячу.
Мнесарх, задохнувшись от волнения, замолк и через мгновение продолжил:
– Помнишь Феспида?
– Как не помнить? Это было первое в моей жизни плавание на соседнюю Икарию. Как возвышенно он пропел нам свои стихи! И даже вкус яблок его помню. Яблоня с большим дуплом прямо у дома росла. В дупле я любил прятаться. Детская память цепка.
– Так вот. Навез Поликрат на наши острова наксосских коз. Они Икарию превратили во вторую Рипару. Ты знаешь, я человек некровожадный, но всех бы коз переколол. Да нет, – он засмеялся, – вкопал бы два столба и к ним большую доску приколотил с надписью: «Хайре, прохожий! Убил ли ты козу?»
– А с Феспидом-то что?
– Куда-то уехал. Выжили его козы. А о нашем городе что тебе сказать? Распущены священные филы[14 - Филы – родовые деления в Греции, вплоть до замены их территориальными филами составлявшие основу общества. В ионийских городах чаще всего были четыре филы.]. Город теперь разделен по тысячам, назначены тысячники, им кроме сбора податей поручена слежка. В конце каждого года мы сообщаем о своих доходах и отдаем тирану их десятую часть, словно Аполлону. Когда будешь отмечаться у нашего тысячника, не говори лишнего. О бегстве Эвнома ему неизвестно. Сопровождая торговые суда в Кирену, Эвном, как мне стало известно, привел свою триеру в Пелопоннес.
Пока это удается скрывать. Но надолго ли? Вот так мы живем. Пугаемся собственной тени. Всюду соглядатаи. Поначалу твое решение повидать мир…
– Это не так, отец! На чужбину меня погнало не любопытство, не жажда странствий.
«Бедный мальчик…» – подумал Мнесарх.
– Вовсе не бедный, – возразил Пифагор, прочитав мысли отца. – Да пойми же наконец, мог ли я здесь жить спокойно, когда об Илионе распространяют всякую напраслину?!
– Да, – обреченно проговорил Мнесарх. – Но ты еще ничего не рассказал о себе. Где ты был все эти годы, у кого и чему учился? Впрочем, одного твоего учителя я знаю. Он был здесь и интересовался тобою.
– Так ты знаком с Ферекидом Сиросским! Да, я сначала побывал на Сиросе. А потом… Мне легче назвать страны, где я не был. А не посетил я Египта и лежащей за ним пустынной Ливии, а также сожженной Гелиосом Эфиопии. Не был в Тиррении и в землях живущих к западу от нее варваров. Также не испытал леденящего скифского холода. Главная наставница моя – природа – беседовала со мной на языках камней, животных и растений. Смысл ее поучений казался поначалу темным. И как будто лишь теперь я начинаю понемногу постигать отдельные отрывочные слова ее дружественной и одновременно враждебной нам речи. Потребовались Геракловы труды. Меня гнало от одной науки к другой, от учителя к учителю. Я, как птенец, ненасытно поглощал вкладываемую в меня наставниками мудрость, пока у меня не отросли крылья и не появилась тяга к полету.
– А потребности завести свое собственное гнездо ты не почувствовал? – нетерпеливо перебил Мнесарх.
– Если имеешь в виду семью – нет. Но я чувствую себя созревшим для создания школы, где сыновей заменят ученики. Их будет волновать не имущество учителя, а только то, чему глупцы и невежды не придают значения, – знания, опыт, искусство красноречия. Я вернулся, чтобы создать такую школу здесь, но все то, что ты рассказал, меня настораживает. Не придется ли отправляться с веслом на плече к каким-нибудь варварам, никогда не видевшим моря, и идти, пока не спросят: «Куда же ты, чужеземец, собрался с лопатой?»
Мнесарх поднял глаза.
– Гера милостива! Оберегла от варваров, – может быть, услышав наши мольбы, и от Поликрата избавит.
– Но не будь Поликрата, Самосом, как всеми другими ионийскими городами, владели бы персы! Стоит ли обращаться к Гере с подобной мольбой? Просто, по обычаю предков, воздадим ей хвалу. Я к этому уже готов.
– Не торопись, мой сын. Надо же тебе отдохнуть с дороги, а мне купить ягненка или поросенка.
– О нет, кровавых жертв я не приношу. Я видел во дворике куст пылающих роз. Этого достаточно.
Священная дорога
Сразу же за воротами по обе стороны дороги, прорезавшей заболоченную низину, замелькали гробницы с квадратными и овальными стелами, обращенными в сторону города. На самом древнем из городских некрополей нашли упокоение почтеннейшие из геоморов. Засохшая трава, отбитые углы живо дополнили рассказ отца об изгнанниках, лишенных отцовских могил.
Они остановились у одной из стел. Пифагор, наклонившись, прочел вслух:
– «Иадмон, сын Филарха, радуйся!»
Мнесарх прикоснулся пальцами к выщербленному краю.
– Радуйся… – произнес он с горькой усмешкой. – Знал бы ты, мой благодетель, кто владеет твоими угодьями под Керкетием и где скитаются твои сыновья и внуки. Знал бы ты, что на твоей могиле нет ни лент, ни окропленных благовониями восковых цветов, а обезображенная стела покрыта птичьим пометом… Сам Гермес не отыщет того, кто носит смарагдовый перстень, который я вырезал для тебя. И кто о тебе помнит?
Пифагор неожиданно рассмеялся.
Лицо Мнесарха вытянулось.
– Не говори так, отец! Месяц назад в Китионе подошел ко мне оборванец, обосновавшийся рядом с моим гостеприимцем и знавший, что я самосец, и спросил меня с ухмылкой, как поживает Иадмон.
– Не может быть! – воскликнул Мнесарх. – Как могут знать Иадмона на Кипре, если он забыт у себя на родине?!
– Да ты послушай! – продолжал Пифагор. – Из дальнейших слов этого бродяги я понял, что Иадмон и его раб фригиец Эзоп стали героями сочиненной каким-то бездельником басни, будто первый – дурень и нечестивец, а второй – умник и острослов. Черни захотелось иметь собственного героя. Кто гордится царем Кекропом, а кто – рабом Эзопом! Впрочем, на Востоке об Иадмоне ничего не слышали, но едва произнесешь, что ты самосец, как начнут склонять лисицу с зеленым виноградом, волов и кряхтящую телегу или чурбан, ставший царем у лягушек. Таковы причуды молвы!
Дорога постепенно заполнялась людьми. Загорелый рыбак тащил на плече белого персидского петуха, молодая женщина – голубя в клетке, пастух за спиною – барашка, старец под мышкой – гуся: дары за спокойное море, за рождение первенца, за удачный приплод. Все торопились встретиться с богиней.
Вскоре открылся Имбрас, ранее скрывавшийся за городской стеной. Извиваясь голубой змейкой, поток полз к заливу. С противоположного, плавно поднимающегося к горам берега донесся свирепый лай. Огромные молосские овчарки сгоняли овец в курчавые, меняющие очертания прямоугольники.
Пифагор недоуменно пожал плечами:
– Овцы на угодьях Геры? Помнится, здесь до самого моря тянулись грядки. Самосскую капусту хвалили даже лучшие эллинские огородники – мегарцы.
Мнесарх махнул рукой.
– Стада повсюду. Что Поликрат сделал с нашим островом! Ты не увидишь и наших знаменитых виноградников. Овцы завезены из Азии и Аттики, козы – с Наксоса. И эта зараза за десятилетие исковеркала все. Люди забыли запах свежевспаханного поля. Видишь ли, овцы и козы дают больший доход. Самосские пеплосы и гиматии ныне соперничают с милетскими, дешевые сосуды с самосским клеймом идут нарасхват. Раньше славились самосские розы, теперь – самосские козы.
– Козы?
– Ну да. Так называют обработанные козьи кожи для письма, вытеснившие из оборота египетский папирус даже в соседних с Египтом странах.
Солнце начало припекать, и путники свернули к одиноко белевшему среди кипарисов каменному столбику, увенчанному горделиво вздернутой юношеской головкой.
– Будь благословен, сын Майи, – проговорил Мнесарх, протягивая к герме руки.
Повернувшись к сыну, он сказал:
– Присядем. Сам Гермес указал нам место для отдыха.
Они устроились на смоковнице, судя по всему, поваленной бурей. Мнесарх тяжело дышал.
– На днях тебе станет легче, отец, – произнес Пифагор озабоченно. – В атмосфере нарушено равновесие. Дождь вернет дыхание.
Мнесарх удивленно взглянул на сына. На небе не было ни облачка.
На дороге появилась стайка девушек. Они непринужденно болтали и смеялись. Одна из них, самая молоденькая, неожиданно остановилась. В ее обращенном на Пифагора взгляде вспыхнул восторг. На светлом, с высоким белым лбом лице выделялись продолговатые глаза темно-каштанового цвета.
– Прекраснейший из мужей, подари мне твой цветок, – проговорила девушка.
– Прочь, бесстыдница! – крикнул Мнесарх. – Портовые девки… – небрежно бросил он. – Их квартал в пригороде, на месте старой палестры, называют самосской клоакой. Он известен всем мореходам от Боспора Киммерийского до Сикелии.
– Что ты застряла?! – прокричала одна из ушедших вперед подруг.
Девушка, словно очнувшись, поспешила на ее зов.
– Как она чиста и миловидна для блудницы, – проговорил Пифагор, глядя девушке вслед. – И конечно бы она получила цветок, если бы Гера благоволила к четному числу.
– Миловидна каждая девушка, пока Гера не превратит ее, как Ио[15 - Ио – юная жрица, дочь Аргоса, возлюбленная Зевса.], в корову, – раздраженно проговорил Мнесарх.
Они вновь вышли на дорогу.
– Скажи, отец, – проговорил Пифагор, – почему ты, не имея земель и обходясь без рабов, осуждаешь Поликрата за его меры против геоморов? Вспомни, что и в Афинах Солон, хотя он сам был знатного рода, лишил эвпатридов[16 - Эвпатриды – афинская знать.] их преимуществ. К тому же Поликрат спас остров от персов. Ведь на нашем Самосе нет залежей золота и серебра. Их заменили овцы и козы – для строительства самоян требовались деньги… Выходит, овцы спасли остров от персов.
– Не знаю, что тебе сказать.
– Вот я вижу – течет полноводный Имбрас, – продолжал Пифагор. – Если бы Поликрат не приказал пробить Ампел, река бы давно высохла и воды на столь разросшийся город могло бы не хватить. И конечно же без большого количества рабов такой труд не осуществить. Пришлось вести войну.
– Но Поликрат вел войну с эллинами! – вставил Мнесарх. – Рабами сделались не варвары, а лесбосцы. Среди них – представь себе! – был племянник Сапфо, и он не возвратился на свой остров.
– Видимо, погибло много других лесбосцев и нелесбосцев. Поликрат для обитателей Лесбоса и других неионийских островов хуже чумы; для ионийцев же, порабощенных персами, насколько я понимаю, он величайший из героев. Злодей и герой в одном лице! Такую двойственность можно обнаружить едва ли не во всем. В рассказах эллинов и варваров о богах и героях и об их противниках – титанах и драконах, если, конечно, повествователь не Гомер, есть много такого, что может быть сочтено выдумкой, но в выдумке немало правды, иногда высшей. Зло и добро, невежество и мудрость, вымысел и правда, женское и мужское – ни одно не может обойтись без другого, ему противоположного, создающего равновесие и рождающего гармонию. Но вот я вижу храм Геры. Прервем нашу беседу до поры.
Герайон
Остов огромный разобран на блоки,
Люди на известь их пережгли.
Я по Священной шагаю дороге,