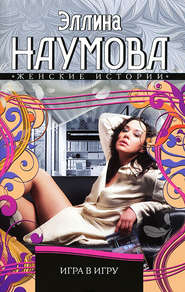скачать книгу бесплатно
Писательница беззастенчиво оглядела ее с ног до головы. Туфли стоптанные. Чулки винтом на тощих ногах-палочках. Юбка и блузка из тех, про которые в каком-то старом хорошем фильме сказали: «Неимущие на благотворительной раздаче их не взяли». Однако чистые и отутюженные. Волосы были прикрыты ажурной шапочкой, которые так любят старые дамы, только связанной из мохера. Вид головного убора вызывал содрогание.
– Прическу сегодня не делала, – уныло объяснила Вера. – Так идем?
«Интересно, там три волосины осталось на макушке или пять?» – почему-то сердито подумала Лиза. И согласилась:
– Идем. Только торт покупаю я.
– Лиза, и коньячку бы за встречу. Прости, я сейчас на мели.
– Понимаешь, я почти не пью. Может, вина?
– Я тоже не любительница спиртного. Но несолидно. Столько лет встретиться не доводилось.
И неопытная Лиза послушно стала опохмеляющей. Когда в недрах ее объемистой сумки исчезла бутылка, одноклассница нашла в себе мужество даже улыбаться время от времени. Но беседовать ей было невмоготу.
– Все-таки надо к доктору, – беспокоилась Лиза.
– Дома отлежусь, – шептала бывшая подружка и клятвенно прижимала ко впалой груди нервно дрожавшие руки. – Грипп у меня.
– Ты уж, сделай милость, больше с температурой на улицу не вылезай, – нудила правильная Шелковникова.
– Ой, никогда больше, я сама так напугалась, – обещала Вера, но при этом вид имела задумчивый, словно прикидывала, не ввести ли подобные выходы в привычку.
Они не виделись с выпускного школьного вечера. Говорили, что Вера с лету поступила во ВГИК на актерский. И еще первокурсницей сыграла какую-то роль в кино. А дальше про Верескову Лиза ничего не слышала и нашего кино много-много лет не видела. После, кажется, единственного успеха Веры злые языки зачесались не на шутку. Даже в газетах писали, будто у нее неблагозвучная фамилия, вот она и взяла безвкусный псевдоним Вера Верескова. Но так ее и звали на самом деле.
Пока поднимались на верхний этаж старой кирпичной пятиэтажки, Лиза вдруг вспомнила, что в школе сочетание Вера Верескова считалось девчонками очень красивым. И они приставали к соученице: «Ты при замужестве фамилию будешь менять?» «Разве есть на свете актриса, желающая прославлять чужую фамилию?» – усмехалась Вера.
– Пришли, Лиз. Живу я скромно, не обессудь.
– Нашла в чем виниться, – фыркнула Шелковникова. – Где тут руки моют?
Хозяйка махнула вправо: теснота давала право объясняться жестами. Гостье жест показался то ли неторопливым, то ли досадливым. «Полагает, что планировка старых однушек знакома всем», – все еще ничего не разумела трезвенница Лиза. Но, перебегая по коридорчику в оказавшийся, кстати, чистеньким совмещенный санузел, увидела в зеркало, как одноклассница жадно опрокинула в себя обе полные рюмки коньяку, свою и гостьину, и сноровисто опять их наполнила. «Интересно, будет остатки заваркой разбавлять?» – автоматически загадала Лиза. И наконец, вспомнив шальное отрочество, все поняла.
Взгляд сразу стал натыкаться на закатившийся под шкаф пустой пивной баллон, на притаившуюся за унитазом бутылку с парой глотков водки на дне и на не попавший в мусорное ведро окурок в обертке винной пробки. Лизу занесло к очередной спившейся актрисе, и ей стало муторно. Она знала, что, захмелев, поведает ей Вера Верескова. Как ходила по вымершим коридорам еще недавно многолюдных киностудий, брезгливо отказывалась сниматься в рекламе, пока не перестали звать, как начала пить – сначала чтобы поверить в лучшее, потом чтобы выпасть из реальности на несколько дней. С последним она перестаралась, потому что спьяну послала очень далеко и слишком обидными словами продюсера одной из первых адаптации американского сериала. А он по старой дружбе хотел попробовать ее на главную роль. Ей еще несколько раз предлагали сниматься в «мыле», приглашали в театр, но она сразу начинала отмечать удачу, впадала в лютый запой и в итоге оставалась без ролей. Почти двадцать лет жизни актрисы минули. А теперь, когда снова можно было показываться, пробоваться, Веру забыли. Да и, если честно, ей не мешало подлечиться от алкоголизма, прежде чем пытаться начинать сначала. «Господи, сколько их таких! Сколько наших таких!» – грустно подумала Лиза. Опомнилась и крикнула на подходе к кухне:
– Вер, не вздумай курить, у меня аллергия на табак!
– Ладно, я на балконе буду, – откликнулась Вера чистым сильным голосом. Коньяк подействовал.
Она проскочила мимо Шелковниковой тугим теннисным мячиком с незажженной сигаретой в руке. Лиза вернулась за стол и, поняв, что с коньяком в бутылке Верескова не химичила, решила, что с честным человеком можно хоть недолго поговорить. «Или оставить ей все деньги, какие есть в кошельке, и сбежать прямо сейчас, пока она курит? – подумала гостья. – Нет, не успею». На сей раз у Лизы хватило терпения выслушать Веру, прежде чем начать убеждать ее сдаться наркологу.
Лиза правильно восстановила ход событий. Оказалось еще, что Вера, пережидая безработицу, вышла замуж. То есть, по правде говоря, влюбилась и залетела еще во время первых и единственных своих съемок, так что училась с грудным ребенком, спасибо, родители выручали. Сначала положение рьяной домохозяйки и нежной матери прелестного сыночка ей даже нравилось. Но однажды она с ужасом сообразила, что, любя и мужа и сына, все-таки копит впечатления и ощущения от них для будущих ролей. Вот тогда она и повадилась перед возвращением мужа с работы прикладываться к бутылке. Настроение улучшалось, завтрашний звонок от какого-нибудь режиссера становился очевидным, она была жизнерадостна и стойка – любо-дорого посмотреть на красавицу и послушать умницу. Разумеется, наступил день, когда она перебрала. И тогда ее дорогой с изумлением узнал, что ненавистным домоводством губит ее талант. Что он нищий мерзавец, паршивый отец и вообще все беды в мире – его не туда вставленных рук дело. Несколько раз удалось внушить ему, что на самом деле она так не думает, что это просто эмоциональный срыв невостребованной творческой личности, что все ее злые слова не к нему относятся, а к некоему абстрактному злодею, портившему прекрасную судьбу прекрасной актрисы. Она клялась бросить пить, сделать ремонт и устроиться на работу хоть уборщицей.
Он быстро перестал ей верить. Орал: «Ты бездарность, тебя никто никогда не будет снимать, так что оторви жопу от стула и иди трудись, кормить и одевать больше не буду!» Потом начал ее бить. Впрочем, когда сам уставал от кошмаров ее похмелий, вызывал нарколога на дом. Мальчик, жалевший маму, искренно убежденный в несправедливом отношении к ней людей и отца и, главное, полагавший, что она действительно в состоянии отказаться от алкоголя в любой момент, как только чуть-чуть повезет, удрал из дома лет в пятнадцать. Он был необыкновенно талантливым программистом и, еще не получив по возрасту паспорт, уже получал немалые деньги в конверте. Муж бросил Веру, продал квартиру, купил сыну однокомнатную. Надо ли говорить, что бывшей жене впору было бомжевать. Но мальчик пустил ее жить к себе, хоть и не прописал, а сам снимал нечто более приличное. Сейчас он заочно учился на первом курсе университета, кажется вознамерившись заканчивать за год по два курса, был совладельцем фирмы, в которую устроился почти ребенком. Он платил за жилье матери, раз в неделю завозил продукты. Отец посоветовал ему пресечь любой контакт рук жалкой алкоголички с деньгами, и он было послушался. Но однажды увидел, как Вера просит милостыню в переходе. Представил себе, каково почти в сорок не иметь даже копейки, пожалел и теперь ежемесячно выдавал небольшую сумму.
Лизу уже трясло от жалости и злости на женскую слабость.
– Вер, а ты не пробовала работать не актрисой? Чтобы хоть отвлечься? – спросила она.
– Пробовала. Устроилась в какую-то контору мыть полы. День послушала, о чем они разговаривают, два… Я убожество, конечно, но такая жизнь, как у них, мне даром не нужна. Потом в каком-то офисном центре гардеробщицей месяц продержалась. Но это невыносимо было: все казалось, что люди пришли на спектакль в театр, вот-вот третий звонок, а я… Пыталась несколько раз с собой покончить. Вообрази, дважды после немыслимо большой дозы снотворного просыпалась через сутки, и хоть бы хны. Знаешь, мне противно самоубийство. Столько выстрадать, столько вытерпеть, чтобы так кончить?
– Правильно! – обрадовалась Лиза. – А давай-ка вылечимся. Весь Голливуд знаком с твоей проблемой. Все наши так или иначе перестали доказывать, что могут пить не косея. И многим удалось доказать, что могут совсем не пить. Да водка – ерунда по сравнению с наркотиками. Тебя обязательно будут снимать, какие наши годы. Решайся, выбирай клинику, я заплачу. Так охота сделать что-нибудь доброе.
– Лиза, спасибо тебе огромное. Я тут недавно вышла из штопора и вдруг четко поняла, что от меня скоро и сын откажется – запрет в психушку на веки вечные. И еще испугалась, что стану калекой – не выдерживает здоровье таких экспериментов. Тогда в каком-нибудь интернате окажусь. Понимаешь, сейчас у него семьи нет. Но ведь будет. Кто такой матери не постесняется? Он уже как-то обмолвился: «Ты о внуках говоришь, а разве тебя нормальный человек к своим детям близко подпустит?» В общем, неделю назад он меня навещал, и мы договорились: я отправляюсь в больницу. Устала пить. Это очень тяжело, это пытка. Сама не верю, что когда-то рюмка доставляла мне удовольствие. Извини за то, что я коньяк выпросила. Мне уже завтра в лечебное учреждение месяца на три. Последний раз пью, чтобы грехи не вспоминать, чтобы поспать удалось немножко.
Взгляд был тусклым, голос покаянным, но Вера не плакала. Слезы лила, сама того не замечая, Лиза.
– Ну, твои грехи искуплены похмельным адом, – решительно «гнала позитив» она. – Значит, через три месяца уже можно будет связи с коллегами восстанавливать? Новые заводить? Здорово! Всего девяносто дней. Потом блеснешь в сериале…
– Ой, не надо про это, Лиза. Несколько лет назад на каком-то кинофестивале не нашли, кому бы вручить приз за лучшую женскую роль. Я стояла возле телевизора в этой, как ее, коленно-локтевой позе, билась лбом об пол и вопила: «Вот же я, что угодно сыграю, вот же я!» Но стоило встретить кого-то из знакомых киношников, как меня развозило с первой и единственной рюмки. Я себя не контролировала и столько гадостей людям наговорила.
Теперь и у Веры по бледным щекам текли слезы. Она взяла свою полную рюмку, первую, после двух тайно выпитых, и минуту с тоской на нее смотрела. Вздохнула и опрокинула в перекошенный рот. По лицу было видно, как отвратительны ей вкус и запах коньяка. Но вышибить оптимизм и правдивость из Лизы Шелковниковой можно было только вместе с самим духом. И активная гостья снова зачастила:
– Когда мне повезло с издательством, я думала, что попала в рай. Между прочим, лет десять ждала удачу. Муж так мало зарабатывал, что пришлось обручальные кольца и все мое наследственное золотишко продать. Немного эйфория улеглась, вижу, не рай, в смысле отсутствия свободы творчества. Но все-таки работаю по специальности. Компьютера тогда по нищете нашей не существовало и в мечтах. И писала я на древней электрической машинке. Ленту к ней было уже не достать. Представляешь, печатаю, и перед глазами всегда белый лист. А текст на других листах, проложенных копиркой. Опечатки исправлять, слова заменять – проблема проблем.
– В любом виде творчества свои китайские пытки, – сочувственно пробормотала Вера.
– А как уродовали текст, сокращая! Причем меня в известность не ставили. Я им говорила: «Ладно, изложите главу десятью короткими предложениями. Но хоть грамотно». Ругалась, иногда кое-что отстоять удавалось. А однажды правкой мне вообще обессмыслили роман. Я не выдержала и пошла к издателю. Высказала ему все, оставила диск – примеры – до и после. Он поклялся, что разберется, что больше такого не повторится. Клятвопреступник! Повторялось снова и снова. И как-то у меня в башке заискрило. Взяла маленькую бутылочку минералки, вошла к издателю, плеснула ему на руки и заорала: «Это – кислота! Чтобы помнили, что с людьми надо обращаться по-человечески». Он как заверещит, я сама испугалась. И опомнилась, разумеется. Кричу: «Извините, это вода!», лью себе из горлышка в глотку минералку. Через минуту последний громовой раскат прозвучал: «Вон!»
– А я пьяная и кислотой могла бы, – задумчиво сказала Вера. Истово перекрестилась и зашептала: – Лечиться, немедленно, пока чего-нибудь непоправимого не сделала.
– Ага, потерпи, заканчиваю, – решила дожать прямо-таки гордая вызванной повествованием реакцией Лиза. – Я справедливо полагала, что надо начинать поиски другого издательства. Как мне было стыдно, как мерзко! Издатель месяц ходил с перебинтованными руками и всем жаловался, будто я плеснула в него кислотой. Я божилась, что водой, но от меня шарахались и предлагали телефоны знакомых психиатров. Москва, как известно, городишко маленький. Через неделю стало ясно, что даже в крохотное издательство меня, столь опасную психопатку, не возьмут. Я к нему. Спросила: «Зачем вы так? Я действовала в состоянии аффекта, потому что достали. Вы ведь даже испугаться не успели. И в здравом уме и твердой памяти без профессии оставили». Он: «Кто оставил? Я не разрываю с вами долговременный контракт. И на каждый роман буду подписывать еще отдельный. Но чтобы истерик ваших больше никто не слышал. Как и требований о повышении гонорара». Закабалил, словом. А сейчас мы подружились. Когда остаемся в его кабинете вдвоем, он говорит: «Здорово я предотвратил твой побег к конкурентам?» Так оно и есть: к хлебу и чаю у нас с дочкой кое-что добавилось, только когда я продала пару своих романов сериальщикам. Верочка, и тебя те, кто с тобой одной крови, простят. Сама знаешь, у нас не род занятий, у нас у всех диагнозы.
– Спасибо за все, Лиза, – тихо повторила Вера.
– Перестань, не за что. Давай обменяемся номерами телефонов. В какую клинику ты ложишься?
– Не знаю. Со мной давно никто ничего не обсуждает. Запиши свой номер. У меня нет телефона. Сын отключил. Я спьяну звоню всем подряд – от жилконторы до приемной МВД – и матерюсь страшно. Но в больницу он, может, даст мне сотовый, я обязательно все тебе сообщу.
Лиза выполнила ее просьбу и сообразила, что пора убираться.
– Вер, не стесняйся. Денег оставить?
– Ни в коем случае. Надерусь, еще не примут завтра, сын не простит. Только одна просьба, Лиза. Поклянись, что не будешь про меня писать. Не доверяй меня бумаге, людям, которые никогда меня не поймут.
– Клянусь ничего не писать про тебя, – сказала Лиза. И подумала: «Я про себя напишу».
Она не поняла, что имела в виду. Но, спустившись на улицу, обнаружила вернейший признак того, что действительно готова засесть за книгу, – потребность себя обругать. «Почему мы, люди, таковы? Почему я рассказала Вере о своей нищете, о белом листе перед глазами, о годах неудач? Ну, про кислоту сболтнула бы, и хватит, мол, и у непьющей крыша поедет, если допекут. Есть в этом что-то и от хвастовства, и от «чур, меня», неловко мне после такого. Но всегда одно и то же: человек плачется, меня несет доказать ему, что мне гораздо хуже было, а я выстояла». Она ощутила спокойствие и пошла домой.
Уже вернувшись, приняв душ и сварив себе чашку кофе, Лиза Шелковникова разгадала загадку собственной мысленной фразы: «Я про себя напишу». То, что не было времени и возможности проанализировать у Веры, засело в ней тем не менее крепко. Когда они с Эдуардом поженились, бабушка Лизы съехалась с ее родителями и оставила внучке такую же однокомнатную хрущевку. Они с Машкой и выбрались-то из нее недавно, после того как повезло с экранизацией романов. И у Вересковой Лиза чувствовала себя так, будто вернулась в свою привычную нору. Та же сорокалетняя мебель, те же продавленные и потертые диван и кресла, дешевая сантехника и безвозвратно разошедшийся по швам линолеум. Лиза сколько жила в таких условиях, столько и улучшала их по мере сил: обои регулярно переклеивала, отодрала задние стенки у пары узких шкафов, превратив их в стеллажи и установив поперек комнаты – прикрыла свою и дочкину кровати. И расписала белую люстру акварельными красками, намалевала какие-то цветочки на стене в туалете.
Вера Верескова занималась тем же. Правда, давно, но следы облагораживания нищей среды обитания все еще наличествовали.
И еще она увидела за стеклом серванта этакую табличку для медитации: в центре – красный круг, далее разноцветные окружности. В годы невезухи Лиза сделала себе нечто подобное. Только циркуля у нее не было, поэтому она линейкой квадраты вымеряла. И тоже в центре – красный, а потом ободки – зеленый, желтый, синий и черный. Красный символизировал Лизу со всеми потрохами, зеленый – Машку и все материнские обязанности, желтый – родителей, друзей и связанные с ними заботы, синий – всякие уборки и готовки, черный – все остальное. В любой ситуации Лиза смотрела на свой квадрат, определяла, насколько далеко она от алой сердцевины, и придумывала, как бы поскорее в ней очутиться. Кроме того, если получалось себя усмирить и минут десять пялиться строго в центр, возникало ощущение, что тебе больше ничего не нужно. Лиза решила, что у эгоизма должен быть предел. «Родила дитя, изволь не прятаться от него», – выругала она себя и размыла границу между красным квадратом – собой и зеленым кантом – Машкой. Почему зеленым? Просто дочкин любимый цвет. Так вот, у Веры тоже была размыта граница между красным кругом и оранжевой окантовкой. Тоже был кто-то, с кем она соглашалась себя делить. Вернее всего, сын. Не коньяк же.
Ничего особенного в таких совпадениях не было. Про медитативные таблички обе наверняка читали, но забыли, когда и где. А создать в доме хоть один угол, в котором глаз может отдохнуть от убожества, стараются не только люди искусства. Но увиденное словно давало Лизе право рассказать историю Веры от своего имени. Вот не издавали бы ее книг до сих пор, что бы она делала? Вела рубрику «Женский клуб» в паршивой газетенке? Мыла полы и окна у чужих людей? Представлять, что спилась бы, было неприятно. Фантазерке в голову не пришло, что в серванте стоял обычный детский рисунок. Впрочем, вряд ли это что-нибудь изменило.
Лиза Шелковникова не верила в силу проклятий. Она-то знала, что такое слово и сколь мало оно значит, ибо обслуживает в основном быт. А как о высоком, так все невыразимо. Но в доброе заклятие романом эта странная женщина верила свято. Довести героя под любым именем, лишь бы подразумевался конкретный человек, до реального в его судьбе тупика, найти слабое место в глухой стенке, пробить выход, и все сбудется. Вере Вересковой надлежало познакомиться в клинике с лечащимся там от алкоголизма режиссером. Или продюсером, тоже хороший современный вариант. Три месяца любви в наркологии! Девяносто дней исповедей и неутолимой страсти! А потом – совместное творчество. Слава, деньги – все им двоим, ничего для них не жалко! Лиза была совершенно бескорыстна. К писательнице, которая в больнице встретит наконец издателя, эти пожелания не относились. Ей светили вдохновение и гонорар. Главное, когда приникаешь к компьютеру, не допускать мысли о возможности другого финала. Это очень трудно – Лиза не была сумасшедшей и в реальности ориентировалась свободно. И не думать, что писали об этом миллионы раз. Обо всем уже писали. И будут писать. Надо только, чтобы всех, кто взял в руки книжку, пробрало, заставило желать настрадавшейся паре радости. Ну, не без исключений, конечно. Найдутся злопыхатели, которые сочтут, что герои сами виноваты в своих бедах и получают от автора не по заслугам. А многие на свете по ним получили? А разве сила трех четвертей правильных середняков не в тупости?
С этого момента Лиза находилась в состоянии полнейшей боевой готовности защищать свой очередной женский роман до последнего, из известных ей, матерного слова. Кто бы ни вздумал отпугивать приманиваемую к Верке Вересковой удачу. Она набрала номер издателя – забавная привилегия обращаться напрямую, добытая хулиганством.
Лиза представляла себе, кто сейчас возьмет трубку. Пятидесятилетний невысокий крепыш настолько убедительной славянской внешности, что его карие глаза все считали наследием татаро-монгольского ига. Особенно после того, как Лев Гумилев все всем про это объяснил. О маме-еврейке никто и не догадывался. Он получил юридическое образование, окончил аспирантуру по международному праву, успел защитить кандидатскую диссертацию и с легкой душой занялся издательским бизнесом. Тогда он был наивным запойным книгочеем: знал в совершенстве русский и английский, чуть хуже немецкий и французский, прочитал в оригинале всех великих, знаменитых и известных. И дельцом оказался хорошим – талантливо терял брезгливость. Человек этот понимал все на свете, кроме одного – как люди в двадцать первом веке смеют писать прозу. Но на авторское счастье, жизни на земле без литературы не представлял.
– Слушаю, – плеснуло Лизе в ухо знакомым жидким холодным баритоном.
– Привет. Хочу озвучить замысел. И побыстрее заключить договор, потому что опять колдую для несчастной женщины, надо, чтобы все было серьезно и взаправду.
Лиза взахлеб изложила способ вышибания клина пьянства клином любви.
– Шелковникова, умная, далеко не бездарная, так низко ты еще не падала! – отчаянно воскликнул он. – Сюжет затасканный.
Зачем тебе лохмотья? Напрягись, придумай что-нибудь.
– А если спасение – это любовь писательницы и издателя? Такого, как ты, например?
– Уверь, уверь всех, кто еще не разучился читать, включая мою юную жену, что мы с тобой встретились в наркологической клинике и были любовниками. Цветаевское «В стихах все про себя» публикой воспринимается буквально. Лиза, я все понимаю. Ты сама не пьешь, тебе, вероятно, интересно. Ты со мной не спишь, тебе, возможно, смешно. Но тебе одной, учти. Даже я помню фразу из романа про удачно влюбившуюся алкоголичку вашей прародительницы Саган: «Пить она, конечно, не бросит, но напиваться больше не будет». Так Франсуаза, если верить желтой прессе, хоть доподлинно в теме. А ты? Про лимонад что-нибудь выдай, сделай одолжение.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: