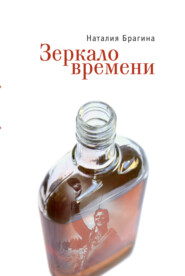скачать книгу бесплатно
Зеркало времени
Наталия Михайловна Брагина
Рассказы Н. Брагиной трогательны, печальны, остроумны, порой парадоксальны. Ее манера письма легко узнаваема, автор отдает дань изысканности и, можно даже сказать, старомодности слога, но это старомодность хорошего тона, она заставляет вспомнить Булгакова, Чехова, Достоевского. Свойственная ее повествованию неторопливость раздвигает рамки рассказа и делает его своего рода маленьким романом (рассказ «Зеркало времени»), а в других случаях сменяется калейдоскопом ситуаций, как в рассказе «Изысканные чувства», возрождающем жанр эпистолярной прозы. Читая рассказы Н. Брагиной, читатель заглянет не только в настоящее, но и ставшее уже историей прошлое страны, народа, человека.
Наталия Брагина
Зеркало времени
© Н.М. Брагина, 2013
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2013
Зеркало времени
Поездка вышла странной, пожалуй, даже нелепой.
Ему дозарезу нужна была эта женщина. Нечего было и думать о романе. Ситуация была слишком сложна – и не только потому, что она была замужем и любила мужа. Она была совсем другая. Казалось, ей доставляло удовольствие его гостеприимство. Она весело смеялась над его грубоватым юмором, питающимся соками далекого детства. С каким-то, непонятным ему, азартом она занималась его садом и хронически недомогающим огородом. Но едва их беседы начинали приближаться к основным вопросам человеческого бытия, она превращалась в сущего дьявола. Смешно сказать, но он, известный ученый, видный деятель международного движения за освобождение пролетариата от всех форм эксплуатации – вынужден был выслушивать какие-то нелепости. В самые просвещенные семидесятые годы – она категорически настаивала на том, что, смех сказать, Бог создал человека или, что совсем было нелепо, считала, что в стране нет свобод. Слава Богу, это были не тридцатые годы, и глупости насчет отсутствия свобод в стране можно было и не считать криминалом. Мало ли чудаков мололи всякую чушь насчет свободы-несвободы. Им было хорошо – они не несли никакой ответственности за судьбу Отечества. Они как птицы: полетали, посидели, опять полетели.
А каково ему? С каким сердцем, не говоря о совести, может он слушать всю эту галиматью? Ему – положившему свою жизнь на распространение во всемирном масштабе идей коммунистического равенства! И теоретически, и опытным путем уже было доказано, что подчинение личности коллективу есть высшая форма свободы. Свобода – через несвободу! В этом смысл более высокого развития человека! А она не понимает этого! Она же не глупа.
Он – директор крупного института, академик. Он легко оперирует логикой и научной терминологией. Его выступления на международных конгрессах вызывают восхищение коллег. И что же он слышит в ответ на его убедительнейшие выкладки? – «Почему существуют закрытые распределители? Зачем спецателье? Как объяснить закрытые места отдыха? И доступ к мировой литературе только по спискам? Для избранных?»
Она, конечно, права, – все это так… если смотреть снизу, с обывательской позиции. Прогресс – дело очень долгое. Тем более, что он целенаправлен – нового человека вот так сразу не родишь. Те, что руководят людьми, давно подчинили себя интересам общества и, надо думать, имеют право на исключительное к ним отношение… Да и пример новой жизни должен кто-то показывать…
Он сердился – обижался на нее, как мальчик. Она же смеялась над ним. Пожалуй, можно сказать, издевалась – сводила к абсурду его доводы. Разумный компромисс обычно достигался благодаря присутствию ее мужа. Тоже известного ученого, но иного направления ума. Страсти затихали только после его спокойного и насмешливого вмешательства. До следующей битвы.
В глубине души ему было наплевать на непримиримость их позиций. Разве так важно, во что верит женщина. Да и вообще ее убеждения, считал он, не более чем элемент кокетства, а страсть, с которой она их защищает, – проявление темперамента.
«Эх, закатиться бы с ней в какое-нибудь пустынное местечко… В какой-нибудь стожок на берегу реки… Хорошо бы, чтобы это случилось в теплый июньский денек… Кругом цветы, птицы, а вверху чистое синее небо… Если разгрести свежее душистое сено… К черту бы все разногласия… Мог бы выйти хороший дуэт?»
В последние годы в конце весны, когда выпадали жаркие дни, он приглашал Ирину и Андрея на дачу. Дача была теплая, ухоженная. Он старался проводить на ней все не занятое заграничными поездками время. Даже после долгого отсутствия достаточно было включить отопление, и через час-другой жилой дух наполнял дом.
В тот раз он привез их сам на своей старой «Волге». Старушку постоянно обихаживал возивший его еще на казенной машине в бытность директором Института шофер, ставший после недавней отставки его личным, оплачиваемым из собственного кармана, водителем.
Включили отопление, открыли окна и двери – и в доме завихрились, сплетаясь воедино, два потока: тепла и весенней свежести. Как было меж ними заведено, он стал деловито накрывать на стол в кухне. Она бродила по саду, подбирая с не совсем еще просохшей земли нападавшие за зиму сухие ветки старых яблонь и сосен. Ей не терпелось поскорее разжечь костер и вдохнуть древний аромат человеческого жилья. Дым, идущий от горящих веток и тлеющих листьев, будил в ней неясные чувства. Она погружалась в полусон-полуявь, когда тело утрачивало материальность. Ей казалось, что она сама превращается в дым и плывет над землей.
Его тревожила ее страсть к кострам – ему виделась в этом какая-то неясная угроза. «Зачем вы собираете мусор – не ваше это дело, – ворчал он, – соседи не любят, когда им в окна лезет дым, – добавлял он веский аргумент. – Идемте за стол – все готово».
– Давайте есть под яблонями. Смотрите, уже вылез ваш барвинок, вы только принюхайтесь – это же черносмородиновые почки! С ума можно сойти! Вы как хотите, но я отсюда ни в какой дом не пойду.
Вытащили стол. Перенесли все из кухни. Это «все» было не таким и скудным. Непременная горячая картошка, селедочка, разная рыбка, ветчина и прочая гастрономия заполнили стол и специально для того вынесенные скамейки. Все трое с интересом и уважением относились к водке, но в тот раз был коньяк.
Привезли родственники его военного друга из Армении. Друг весь год перемогался, переходя от одного недуга к другому, а к весне совсем сдал. Понимал, что не приедет отметить День Победы, как делал это все послевоенные годы.
Поначалу их было шестеро. И вот теперь, кажется, он остался один. Нет, конечно, девятого мая он не будет один. Он соберет здесь под яблонями других своих друзей, с которыми его соединили военные дороги. Самых же близких, увы, не будет.
Он чувствовал, что подошел к краю горизонта. Он знал, что неизбежное рядом. Мысли о смерти оживлялись всякий раз, как приходило новое известие об уходе из жизни кого-нибудь их тех, с кем связала его война. Сама по себе смерть не страшила его – неприятно было постепенное втягивание в союз с нею. Возникало чувство, как будто власть переходила в ее железные руки. Надо сказать большое спасибо отцу с матерью: оставили в наследство отменное здоровье. Жизнь, конечно, прошлась по нему своими историческими сапогами. Но выжил. И даже не утратил интереса не только к ней – к жизни, но и к таким скоропортящимся продуктам ее, как женщины или красота в разных рукотворных формах.
«По-видимому, у этой женщины нет проблем. Откуда берется этот беззаботный смех?» – хмуро взглядывая на нее, думал он.
– Коньяк-то вы будете пить – обычно вы предпочитаете водку… Если хотите, можем начать с нее, – недовольно и как-будто упрекая ее, начал он. – Не можете обслужить двоих мужчин – давно бы уже разложили закуску по тарелкам, – продолжал ворчать, сам выкладывая из кастрюли горячую пахучую картошку. В своем доме он никого не подпускал ни к плите, ни к сервировке, ни к раздаче приготовленных им блюд.
– Друзья, – раздался голос мужа, – мы зря тратим время – к чему пустые слова – рюмки наполнены. За здоровье нашего друга и гостеприимного хозяина! Ура!
И немедленно выпили – это из незабвенного труда Венедикта Ерофеева «Москва-Петушки».
– Э-э-э, Андрей Викентьич, дело так не пойдет: манкируете армянским коньячком… Что? Может нехорош? Знаю, знаю – вы человек тонкий… – оживился он, вновь наполняя рюмки. – Можете не объяснять – прекрасно и сам понимаю, что такой напиток грешно под картошку с огурцом… а вы и не закусывайте. Согласитесь, коньячок-то действительно армянский – одним духом его будешь сыт.
Солнце заливало их майским жаром. Безлистные ветви старой яблони, под которой шла неспешная трапеза двух мужчин и одной женщины, не давали тени. Накопленный огонь армянского солнца из бутылки и жар подмосковного неба освежали поблекшие от времени и московской жизни краски на лицах трех немолодых горожан. И куда-то уходили годы и усталость. Тела их, как прежде, чувствовали свою гибкость и легкость. Мысли обретали стройность и определенность. Все было достижимо. И жизнь вновь казалась прекрасной и обнадеживающе бесконечной.
– На днях получил приглашение от Комитета Ветеранов принять участие в торжествах по случаю освобождения нашего Севера – прошло ровно полвека, – продолжил он рассказ о войне, тема которой неизменно возникала во время их встреч. – Подписано самыми высокими чинами. Предполагается чуть ли не всенародное участие в различных военизированных мероприятиях. Комитет и городские власти при этом оплачивают ветеранам все расходы. Выделяется специально под эту акцию вагон СВ, лучшая гостиница в городе, «Икарусы» для экскурсий, еда в ресторанах, подарки, фейерверки и прочая дребедень… Из тех, с кем я действительно воевал на севере, не осталось в живых никого – встречаться мне в общем-то не с кем. Но там сохранилось место, где стояла моя батарея… Я уже два раза пытался найти его – безуспешно. Трудно представить, что оно осталось: там все сильно изменилось… но, наверное, следует попытаться еще раз —…до шестидесятой годовщины и я не доживу… – говорил он, а голос его от радостного сомнения по поводу реальности пышных торжеств сделал поворот к печальной уверенности в конечности земного пути.
– Странно. Совет Ветеранов прекрасно знает, что я давным-давно овдовел, а приглашение прислали «с супругой»… или думают, что я женился, да не поставил их в известность… Хм! А почему бы и нет! Ирина Яковлевна, поехали со мной! Вы в этих местах бывали? – Ну вот, видите! Ведь второго такого случая не будет.
– А как вы себе мыслите мою роль? Ни по какому пункту я не подхожу на роль супруги ветерана. Это должна быть солидная дородная женщина, обремененная заботами о супруге, его болезнях… должна во всех подробностях знать его жизнь… А я? Во-первых, легкомысленна. Во-вторых, слабо представляю вашу жизнь и ваши болезни… Ну, какая из меня жена боевого командира? Нет, это смешно…
– Можно ведь быть одной из последних жен. И совсем не обязательно быть дородной и знать все мои болезни… Да их у меня не так и много. Подумайте: условия идеальные – мне, как Герою, положен номер «люкс» – считайте, это два номера. На меня можете не смотреть вовсе… Кто еще предложит вам условия почти полной свободы для поездки на Север? Какая фирма? Да притом и денег не возьмет? А насчет почти полной свободы, а не абсолютной, говорю потому, что, естественно, придется ездить всем вместе – в одном автобусе… Соглашайтесь! Что вам мешает?
– И, вправду, заманчиво. На юге бывала, среднюю полосу худо-бедно знаю, а вот на севере нашей необъятной Родины не довелось бывать… Как-то слишком уж благостно все выглядит. Да и неожиданно…
– Что там неожиданного… поездка будет еще только в ноябре. У вас целых полгода на раздумья. Вас что – супруг не пустит? Андрей Викентьич, что-то я не знал, что вы тиран. Почему жену не хотите пустить побывать в краю вечных сумерек? Это непередаваемое ощущение. Ирина Яковлевна не простит вам этого.
– О чем речь – женщина такой же человек, как и мужчина. Так что Ирина вполне свободна в своих решениях и передвижениях. Не было случая, чтобы я хоть как-то воспротивился ее прихотям. Да если бы даже я попытался им помешать, она все равно сделала бы по-своему.
– Да, характера ей не занимать – это я давно заметил, – со странным выражением констатировал он. – Ладно, вы размышляйте, а пока отдадим должное дарам солнечной Армении… да ешьте-ешьте! Что вы все как птичка клюете! Даже в лучших домах Филадельфии и Лондона коньяк не брезгуют закусывать семгой…
– Нет армянского коньяка в этой вашей Филадельфии, да и в Лондоне тоже… Слава Богу, у нас в Малаховке еще можно его попивать, – попыталась она умерить его хлебосольство.
– А что пьют и чем закусывают на Кубе – о вас ведь известно, что вы чуть ли не из ближайших друзей Фиделя? Или им действительно взбрело в голову ввести сухой закон? – неожиданно обнаружил интерес к питейной теме Андрей Викентьич.
– Сухой-не сухой, но разумное нормирование там Кастро ввел – иначе при их темпераменте сахарный тростник не было бы кому рубить. Там очень хорош местный ром да текила, которую пьет вся Латинская Америка. Благо, этой агавы, из которой ее гонят, как в Малаховке сныти… А вообще-то и на Кубе, и в других странах, крепкие напитки пьют вне всякой еды и ничем не закусывают. Вина – да. Пьют с едой, но тут нужно разбираться, что с чем нужно пить: к чему белое, к чему красное… но я в этом деле не мастак. Будете смеяться, но я до двадцати лет вообще не знал вкуса алкоголя, даже пива. Как раз после севера и попробовал. Представляете, мороз под сорок градусов, всем телом вмерзаешь в базальт, лежишь, как «рекрут на смотру». Поземка, как металлическими стружками, сечет лицо и даже тело, сквозь ватник – дежурный солдат ползком доставляет причитающийся стакан спирта. И, думаете, что я делаю? Прошу парня обменять на шоколадку… Господи, какой же я был невинный…
– Слава Богу, хоть с этим недостатком разделались вовремя.
– Ирина Яковлевна, а вы – ужасная язва… Нет, чтобы посочувствовать – дикие условия: сверху огонь, снизу лед… Чувствуете: под вашим благотворным влиянием и я скоро стану поэтом… В утешение вам скажу, что пить, и притом спирт, начал в госпитале – после первого ранения… И потом уже мог пить все, но предпочитаю спирт, а в вашем деликатном обществе – водку… Коньяк – это деликатес. Честно вам признаюсь, если бы не спирт, то и не знаю, как бы выжили те, что выжили – кто пережил войну там, под открытым огнем…
– Друзья, давайте выпьем, знаете за что – за вашу юность, Генрих Людвигович. Как бы мы ни пытались смазать – снизить – героизм тех, кто тогда был моложе наших детей… как бы ни ёрничали по поводу войны… я имею в виду не нас лично, но тех, кто не знал войны, кому она видится плохой литературой, – невозможно ни разумом, ни чувством понять, как те, на глазах которых, как снопы, огонь валил тех, у кого несколько минут назад были лица, глаза – они что-то тебе говорили, как они могли дальше рваться вперед… и потом дальше воевать… и не сойти с ума, – вступил молчавший Андрей Викентьич.
– Ис ума сходили, и истерики были, и в бега ударялись, и с собой кончали, – все было… но, в основном, в самом начале, когда совсем молодые, необстрелянные были. Конечно, если с глузду съехал, то подчистую списывали… и, пожалуйста, родственнички, если находились, получайте – и никаких Героев, никаких спецобеспечений. С передовой во время атаки тоже не уклонишься – замыкающие ребята из особого отдела тебя поправят, и братскую могилу тебе обеспечат… так что вперед – и ни шагу назад…
– Но вы-то как смогли пройти весь этот ад и не то что сохранить ясность ума, но совершить головокружительную карьеру? Что вас вело? – Ирина испытующе смотрела ему в лицо. Ей хотелось уловить тот момент, когда высота подвига сольется с будничностью действия и, как она надеялась, возникнет реальность момента. И она сможет понять, что такое ежеминутный героизм – как можно постоянно быть готовым умереть и одновременно биться за жизнь.
– Мне повезло: я начал с Финской. Меня призвали сразу после школы и определили в войска ПВО, но стрелять почти не из чего было и пришлось поработать пехотой… Думаю, что в Финскую меня спас мой ангел-хранитель…
– Вы разве верующий – вы же известный марксист-ленинец… Ваш ангел и близко не мог приблизиться к смердящей атеизмом душе, – не могла удержаться эта язва.
– Спасибо маме – я крещён, и ангел-хранитель не имел права оставить без защиты крещёную душу… Да я думаю, что и везло мне. Вот Финскую прошел… Поморозился – само собой – потом растаял, как видите… Зато к Отечественной был уже обстрелян со всех сторон, к смерти привык, в двадцать лет был почти ветеран. И под северным небом выжил чудом… или ангел-хранитель смерть отгонял… Ну, что? За ангела-хранителя? Ура!
Он увидел, как она медленно до конца выпила весь коньяк – обычно она пила частями. И сколько бы он ни понуждал ее следовать установленному от века порядку – пить до дна – она, упирая на свои эстетические пристрастия – мол, когда до дна, вкуса не чувствуешь – пила постепенно небольшими глотками. Что, надо сказать, бесило его – он чувствовал в этом непонятную обиду себе.
Весна вокруг была совсем молодая. И Ирине казалось, что и они еще совсем молоды, возможно, даже ровесники… Вот, только ей никак не удавалось уловить его героическую суть. Она смотрела, как он режет крупными кусками розовое сало – «без сала – стол не стол» – как он, одев передник, проворно движется между домом и накрытым под яблоней столом. Все яблони в его саду были старые, с перекрученными стволами, с ветвями, висящими чуть не до земли. Он категорически не хотел ничего обрезать, ничего менять. Все должно было быть таким, как при его незабвенной Юлии Францевне. Была в этом запущенном и одновременно живом саду удивительная прелесть. Когда-то здесь был сосновый лес, теперь под разными углами на участке доживали свой век одинокие сосны. Мощные молодые и нахальные клены стремились вытеснить их и всю остальную растительность. Единственно, что он пытался приводить ежегодно в божеский вид, была малина. Но она тоже как-то удивительно быстро дичала и по экспансивности соперничала с древовидной крапивой.
В нем, видимо, говорила кровь очень далеких предков. Как первый землепашец, он каждую весну лопатой перекапывал свою неплодовитую землю и высаживал рассаду: непременно огурцов и помидоров. Он сеял редис, салат, сажал кабачки, патиссоны и прочий овощ. Несмотря на невероятную заботу о своих зеленых питомцах, к концу лета на пожелтевших плетях, почему-то вьющихся на подпорках, огурцов и помидоров, висели одинокие скрюченные дети неблагодарной земли и заботливого землепашца. Вместо зелени в едином строю жесткой щеткой желтел спиралевидный укроп, сухостойный чеснок и петрушка типа заячьей капусты, подпираемые мощными зелеными стволами лебеды, конского щавеля и вездесущей крапивы. Он щадил всех – он не мог бороться с жизнью.
Она смотрела на причудливо изогнутые стволы яблонь, с которых в иные годы, мешая спать, сыпался яблочный дождь, синева стволов которых растворялась в золотистом воздухе утомленного долгим солнцестоянием дня. Это был краткий миг в круговороте природы, когда все на земле так чисто, так ярко и так погружено в золотой воздух голубой весны, когда зелень еще только угадывается. И все так отчетливо и так неопределенно. И жизнь кажется необъятной и бесконечной.
Сколько раз она писала в этом саду, стоя у мольберта – предельно освобожденная от обременительных одежд. А он никак не мог сосредоточиться над очередной монографией, сидя в своей мансарде, не в силах отвести взгляда от этой бесстыдницы. Он не подозревал, что художникам нужна свобода тела. Вообще ему за его богатую разными событиями жизнь не доводилось наблюдать так близко художника за работой. Тем более художницу. И тем более такую свободолюбивую. В Европе, да и в обеих Америках, на улицах крупных городов всегда стояли и сидели у мольбертов художники. Он воспринимал их скорее как часть городского пейзажа, чем как конкретных живых творцов прекрасного.
С этой все было не так. Она работала одна, у него в саду. То, что она делала, всегда было непохоже на то, что он привык считать красотой. К тому же она совсем не пользовалась кистями и писала, как она называла свою работу, специальным ножиком, от одного названия которого у него холодело под ложечкой. Не сразу выучив неведомое слово – это он-то, знаток почти всех европейских языков – он с каким-то даже сладострастием вворачивал его всякий раз, когда речь заходила о ней.
– Ну, что Ирина Яковлевна? За мастихин? Почему сегодня не захватили свой этюдник? Вижу-вижу: уже чешутся руки очередную селедку изобразить на пленэре? Не думайте: пленэр я и до вас знал – все-таки об импрессионистах наслышан и в Кэ-д-Орсэ не один раз побывал… Чуете, какая культурная основа… Перед вами не просто вояка или, скажем, академик, а культурный представитель трудовой интеллигенции…
– Кстати, почему бы нам с вами не поработать? – оживилась художница.
– Да ну, тоже выбрали натуру… Вы кого помоложе рисуйте или, там, свои натюрморты… это интересно и для музеев и для истории, – брюзгливо заворчал он, пытаясь скрыть охватившее его смущение, о котором он давным-давно позабыл.
– Послушайте, именно для истории и следует писать вас – в мундире и при всех регалиях… Вы же обладатель уникальных наград… Давайте в следующий приезд здесь под яблонями и напишем ваш парадный портрет. Да, да, я знаю, чего вы боитесь – моего блудливого мастихина. Всегда-то он вносит в мои работы отсебятину, а уж портреты вообще редко когда ублажают натуру. Но вы же эстет, вы выше обывательского взгляда на искусство. Да к тому же вы – Герой! Вам ли бояться моего мастихина! А? Рискнете?
– Ну-ну, не так темпераментно… Надо обдумать… как-нибудь потом, может, я буду лучше выглядеть…
Он давно чувствовал себя неважно, но не считал нужным осведомлять об этом друзей и знакомых. Ему хотелось видеть себя тем молодым лейтенантом, каким он появился в Москве после войны. Вот тогда бы его написать… Это бы стоило сохранять для потомства… А сейчас – что уж там… Тем более, ее лукавый мастихин не делал снисхождения никому.
В возникшей паузе стали слышны птичьи голоса, стук по железу – недалеко чинили крышу; где-то вдали лихорадочно бухали по чему-то деревянному, – звуки в весеннем воздухе плыли, как птицы – казалось, их можно было разглядывать. И в этом благостном покое раздался мягкий неторопливый голос ее мужа: «Художница пачкала красками траву…». И, когда прозвучало: «я вздрогну, я сдамся…», он, смеясь, пробурчал: «Давно уж сдался…».
– Андрей Викентьич, вы потрясающе читаете стихи… какая память прекрасная. Я когда-то Асеевым Николаем увлекался… считал его лучшим поэтом. Ну, этот ваш любимец – Маяковский, который задрав штаны, бежал за комсомолом, не вызывал у меня добрых чувств. Так – шантрапа. А это кто? Не из их ли породы?.
– Это – Пастернак – он совсем из другой породы. Да и Маяковский не родня Есенину. Это Есенин штаны задирал, а Владимир Владимирович без всякой натуги пел «аллилуйя» новому строю. Уж это-то вы должны помнить?: «И я, как весну человечества, рожденную в трудах и в бою, пою мое отечество, республику мою» – Это вам тоже не «Шаганэ ты моя, Шага-нэ…». Они с Маяковским – не близнецы и даже не братья. Но я с вами согласен, Асеев хороший поэт, – как-то мягко и недемонстративно выкладывал мелкими порциями свои неисчерпаемые знания Андрей Викентьич. Он очевидно превосходил и свою жену, и их друга обширностью знаний практически во всех сферах человеческой деятельности. Но обнаруживал это каким-то не обидным для других способом. Собеседникам же казалось, что все это давно всем известно, хотя услышали они об этом сию минуту и именно от него.
– «Солнце низэнько, вечер близэнько…», – неожиданно тихонько пропела Ирина Яковлевна, – не пора ли, братцы, и в Москву. Как ни долог весенний день, а темень все-таки грядет, да и на дорогах будет черт-те что твориться…
– На посошок… на посошок! – взбодрился хозяин.
– Коньяком как будто не пьют отвальную.
– А мы выпьем – создадим прецедент, – весело засмеялся он, радуясь легкости, с которой ему удалось преодолеть словесный порог в виде «прецедента». «Знать, есть еще порох в пороховницах», – подумалось ему, а вслух он победно воскликнул: «Еще Польска не сгинэла!».
Интересно, поедет она с ним или не решится, – вертелось у него в голове, пока они, вопреки всем европейским обычаям и правилам хорошего тона, с неожиданной живостью завершали трапезу остывшей картошкой и солеными огурцами.
– Андрей Викеньтьич, ну так как мы с вами поладим? Отпускаете со мной жену в вольное плавание? Всего на недельку? Может, на условиях краткосрочной аренды сдадите? Верну в целости-сохранности – в каком виде сдали, в таком получите… Ну, как?
Он ужасно нервничал – ему позарез нужно было, чтобы она поехала. Рассчитывать ему было не на что. Он это знал. Ему просто хотелось, чтобы она поехала в то место, где он был молод. Где вместо уже пережитого будущего был розовый туман. Тогда в этом будущем для нее не было места: она еще не осуществилась. Теперь же ему хотелось примерить ее нынешнюю к нему тогдашнему. Он и сам понимал, что все это глупость, блажь.
Судя по выражению лица, она понимала нелепость затеи. И вдруг сказала:
– Поехали. За неделю, думаю, мой дом не развалится… А об арендной плате поговорим позднее. Да, вот хоть бы натурщиком поработаете. Ну-ну, не пугайтесь – в форме…
– Вы это серьезно?
– Вполне.
– А вы что скажете, Андрей Викеньтьич?
– Решение женщины – закон для джентльмена. А уж вы позаботьтесь, чтобы ваша поездка прошла без ненужных осложнений.
– Да вы сами посмотрите приглашение: все оплачено уже Советом Ветеранов, подписано мэром. Лучшая гостиница – номер «люкс» – для Героев войны… Да плюс академик, да плюс – личный друг председателя Совета ветеранов, да плюс не первый раз приезжаю на ветеранские встречи… В поезде выделен для ветеранов специальный вагон – литерный… По городу и к местам боевой славы – на «Икарусе». Все предусмотрено. Я знаю тамошних вождей – очень ответственные люди… Да и готовились они к этой встрече чуть не три года. За это время списки участников настолько сократились, что они нас смогут одной черной икрой кормить, – оживленно зачастил он. До конца все-таки он не мог поверить, что она решится.
И как последний аргумент он выпустил убедительнейший снаряд:
– Почему, черт возьми, все, что вам причитается как моей супруге, – читайте: «…с супругой»… должно пропасть? Это же пойдет всей этой мелкой сволочи, что вертится около ветеранского движения. А они не то что пороху, дыма костра не нюхали.
– Бог с ней, с этой сволочью – это необходимый элемент социальной жизни… Вспомните крокодила, на голове которого превосходно проводит жизнь крошечная птичка, чистящая ему зубы после обеда – да вам это более знакомо… Этот симбиоз наблюдается, кажется, в Южной Америке.
– Поезжайте и меньше всего думайте об этой ерунде, – разумно завершил созревшее решение Андрей Викентьич.
* * *
За неделю до отъезда он позвонил Ирине. В прошедшие месяцы они не виделись, поскольку сразу после их весеннего гулянья с коньяком он уехал не то в Чили, не то в Перу – для получения ему одному полагающегося ордена за особые заслуги перед этой страной. На обратном пути заглянул на Кубу – по личному приглашению Рауля – брата Фиделя. Он должен был, как один из ближайших друзей, освятить своим присутствием очередную годовщину молодежного движения. Лет десять назад такая поездка наполнила бы его энтузиазмом. Он с восторгом бы метался по молодежным собраниям, скандировал бы бодрые призывы и здравицы, обменивался бы наиболее подвижными частями туалета, пел бы с ними песни, плясал бы на всех перекрестках с черноглазыми обманщицами… Ушло время беззаботной веры. Все-таки он был специалист. Прекрасно понимал беспочвенность нынешнего ликования, да и бесконечные разглагольствования Фиделя давно не содержали для него ничего интересного. Но он не мог отказать старому другу Раулю.
Даже с Раулем трудно было говорить напрямую, а Фидель вообще постоянно носился, как метеор, окутанный звездной пылью своей гигантской свиты. Но у него были и более серьезные дела. Ради них он, собственно, и объезжал регулярно под разными предлогами Латиноамериканский континент и Кубу. В этот раз он перенес все свои встречи в провинцию, на побережье. Местные конфиденты тоже не очень-то его радовали: всюду протыри, всюду недоимки, всюду ощущаются промашки. И нельзя сказать, чтобы так уж сильно все это было заметно, но ему – старому опытному волку, более тридцати лет пасшему свое невидимое миру стадо, было ясно, что загон дает слабину, а стадо надо обновлять.
В Москву вернулся в скверном расположении. Казалось, что внезапно стали отказывать все детали организма. А если еще и она откажется от поездки, вообще будет тоска. И он решил, что в этом случае заляжет в госпиталь на «капитальный ремонт».
К телефону подошла сама Ирина. Сказала, что, как и было договорено, они с Андреем поддерживали жилой дух в Малаховке. Не дожидаясь его вопроса, Ирина спросила, что с поездкой. Гора свалилась с плеч.
– Что-что, – забрюзжал он как обычно, когда бывал особенно взволнован. – вы уже внесены во все списки, билеты у меня на руках. Вам следует только собрать свои вещички и не забыть паспорт в последний момент.
– Господи, я же совсем запамятовала, что в гостинице непременно потребуется паспорт, да и в поезде, возможно… у меня же другая фамилия. И штамп о браке с гоподином Скумбриеви-чем…
– С каким еще Скумбриевичем? Вы что – разве за это время развелись? – не понял он в первую минуту. – Да кому там ваш штамп интересен. Там генералы так уж точно будут со своими боевыми подругами. Совет Ветеранов исходит из этого…
– Но гостиница – не Совет Ветеранов, там иной взгляд на внебрачные связи – не поощряют.
– Это вас не должно касаться – я беру на себя. Притом, помните, нам забронирован номер «люкс», то есть минимум две отдельные комнаты. Проблем не будет. В случае чего, добрая купюра побьет любой штамп.
Вагон, как и обещалось, оказался литерным; купе – двуспальным и, судя по немногочисленности пассажиров, остальные купе также были на двоих. Чистота, тишина – просто рай на колесах.
Отъезд был вечерний. И потому, еще не перестали мелькать лоскутные одеяла подмосковных дачных кооперативов, обитатели литерного вагона потянулись к проводникам за чаем. Генрих Людвигович и его спутница также вместе начали подготовку к вечерней трапезе. Основательность Генриха Людвиговича оделила их и буженинкой, и колбаской, и ветчиной, ну и, конечно, добрым куском сала. Ирина Яковлевна подкинула разные домашние разности, от чего из купе потянуло духом домашнего очага. Ирина, сердясь на своего спутника, что вместо того, чтобы элегантно посидеть в вагоне-ресторане, раскидывается эта походная скатерть-самобранка, упорно смотрела в приоткрытую дверь купе на безнадежно унылые пейзажи ноябрьской России.
Всякий идущий за чаем, естественно, чуял призывный запах пирожков и котлет и ненавязчиво осведомлялся, в каком полку служили обитатели купе. Вскоре выяснилось, что действительно, кроме ветеранов, в вагоне нет иных пассажиров. Ирина радостно приглашала заглядывающих присоединиться к их столу. И вот уже все сидят, тесно прижавшись друг к другу, пьют неизвестно чью водку, потом коньяк. Возбужденно пытаются разыскать знакомых. Перебивая и не слушая других, торопятся поведать свою военную и послевоенную судьбу. Тут же выплескиваются обращенные неведомо к кому накопившиеся обиды. И сразу же, по укоренившейся традиции, общество делится на два непримиримых лагеря: за партию и за прогресс. За прогресс, правда, выясняется, ратует одна Ирина; все остальные в той или иной степени – надежды возлагают на коммунистов.
«Совсем из виду упустила: ветераны все жуткие “комуня-ки”, даже если и не состоят в партии», – тоскливо думает она. Ей не хочется фальшивить, не хочется и обижать этих удивительно наивных людей. Но и соглашаться с их детским невежеством невозможно. Она старается не включаться в их шумное обсуждение преимуществ жизни при Сталине. Некоторые, правда, утверждают, что, не убери таинственные силы великого справедливца, безвременно покинувшего этот мир – Андропова Юрия Владимировича, – не пришлось бы теперь переживать тяжелые времена. У женщин-ветеранов свои претензии – и почему-то особенно суровые к Хрущеву.
Обе женщины, присоединившиеся к общей трапезе в их купе, с первого же взгляда почувствовали недоверие к Ирине. Разве может эта фифочка – из лексикона их юности – быть настоящей женой ветерана? Да и на офицерскую жену не похожа. Взгляд другой и обличье совсем иное. Разве такая может, как они, траншеи рыть, раненых на себе таскать? А сейчас землю копать, семью до третьего поколения едой обеспечивать и внуков тетешкать. Рядом с ней они вдруг почувствовали свою женскую ущербность. Хоть и были на них лучшие крепдешиновые блузки и пиджаки, как монистами увешанные орденами и медалями. Но фигуры, конечно, даже отдаленно не напоминали те сильные и гибкие тела, что своею молодостью мостили дорогу к общей победе.
Ирина тоже остро чувствовала свою отчужденность, свою им противопоставленность. Ей даже казалось, что в том, что женственность покинула их, есть ее вина. Она корила себя за легкомыслие, за очередную абсурдную выходку. Ей было стыдно, что она мистифицирует чистых доверчивых людей, обман по отношению к которым представлялся ей особенно мерзким.
А он гордился ею и, не подозревая о ее душевных муках, рассказывал, какая она прекрасная хозяйка, какой талантливый художник. Внезапно атмосфера в купе изменилась. То, что она художник, всем все объяснило.
Женщины испытали облегчение: все-таки она не просто боевая подруга мирного времени – она из волшебных сфер искусства.