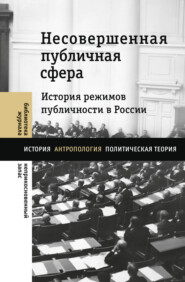
Полная версия:
Несовершенная публичная сфера. История режимов публичности в России
Карамзин напрямую обращался к Александру I и, следовательно, предполагал, что его текст мог быть прочитан монархом. Как совместить прямые отсылки к диалогу с императором с недовольством Карамзина передачей тому записки? Наша гипотеза состоит в том, что создание текста не подразумевает его немедленной публичной актуализации. Иными словами, возможно, Карамзин рассчитывал на то, что монарх рано или поздно станет читателем трактата, но не желал, чтобы это случилось в марте 1811 года[170]. Сочинение, написанное для одной аудитории, при распространении в другой (даже если речь идет об одном-единственном читателе) способно менять свой смысл: так, вероятно, произошло и с запиской – изначально она предназначалась для узкого придворного круга Екатерины Павловны, а затем вследствие не предвиденных историографом обстоятельств стала известна Александру.
Из историографа и послушного клиента великой княгини Карамзин превратился в политика и радикального критика императорских действий, бросившего вызов самому царю и, несмотря на посредничество Екатерины Павловны, поплатившегося за это (в частности, в 1814 году император отказал ему в возможности написать официальную историю войны 1812 года)[171]. Карамзин нашел в себе силы интерпретировать новую роль и сделал ее частью собственного публичного образа[172], о котором мы можем судить по более поздним источникам и полемикам[173]. В частности, его убежденность в своем особом призвании усилилась после успеха, сопровождавшего выход из печати первых томов «Истории государства Российского». Так, 17 октября 1819 года Карамзин уже напрямую обращался к монарху с исповедальным и очень резким по тону письмом, протестуя против планов восстановления польской независимости. Следует, однако, с крайней осторожностью экстраполировать базовые черты карамзинской идентичности на более ранние периоды его биографии. Как мы постарались показать, своей репутацией «честного человека» Карамзин оказался обязан, по сути, случайным обстоятельствам, положившим конец его деятельности сугубо академического толка. С 1811 года историограф начал создавать новый образ – идеального неподкупного советника царя, – оказавший огромное влияние на поведенческие стратегии дворянских интеллектуалов николаевской поры.
Виктория Фреде
Общественное мнение, его облик сверху
Негласный комитет Александра I
Вопрос о происхождении «гражданского общества» в XVIII веке, о его самосознании в качестве движущей силы, способной просвещать и прививать нормы морали обществу в целом, давно занимает исследователей[174]. Основу российской публичной сферы эпохи Просвещения составляли самые разнообразные институты: кружки, салоны, масонские ложи, добровольные объединения, концертные и художественные площадки, театры, журналы и газеты. Вместе взятые, такие сообщества представляли собой «дополитическую литературную публичную сферу», поощряемую государством[175]. Еще бы: ведь «формирование благоприятного общественного мнения» являлось краеугольным камнем в «искусстве государственного управления» для таких просвещенных правителей, как Екатерина II[176]. Озабоченность императрицы «мыслями просвещенной части народа» и готовность учитывать их в составлении указов отмечались и ее современниками[177]. Как бы то ни было, значение «общественного мнения» как ключевого понятия у правящих верхов до настоящего времени систематическому анализу не подвергалось.
Статья попробует его осветить на примере известной группы советников Александра I – Негласного комитета. Комитет возник в тот момент, вслед за Великой французской революцией, в эпоху Наполеона, когда нарождающееся общественное мнение привлекало напряженное внимание в Великобритании, Франции и Германии. К концу 1790‐х годов оно формировалось преимущественно теми образованными личностями, аналитические способности которых давали им право на участие в определении государственной политики. Каждый голос выражал критическое мышление частного лица – как его личные интересы, так и заботу об общем благе. Считалось, что общество, выражая свое мнение, прямо сообщает государству о своих интересах, а государство, в свою очередь, использует это мнение для поддержания политической легитимности и стабильности[178].
Под влиянием политических событий конца XVIII века, понятие общественного мнения также подвергалось критике. Не каждый хор голосов мог отождествляться с «общественным мнением», а суждения того или иного голоса вызывали сомнения: представляют ли они интересы и волю общества в целом, обоснованные аргументы оратора или всего лишь скоропалительные заявления и слухи.
Члены Негласного комитета овладели искусством таких дебатов отчасти потому, что были свидетелями событий, которые эти дебаты породили. Павел Строганов пробыл несколько месяцев в Париже в 1789–1790 годах во время Великой французской революции, в то время как Николай Новосильцев нанес туда короткий визит в 1790 году. Виктор Кочубей провел в Париже зиму 1791–1792 годов, а до этого, с 1788 года, два года жил в Британии, в которой в период с 1789 по 1791 год побывал и Адам Чарторыйский[179]. Новосильцев же прожил в Великобритании с 1796 по 1801 год. Возможно, именно заграничный опыт возвысил их в глазах Александра, с которым они впервые познакомились в 1790 году.
В это время великий князь вынашивал планы реформировать империю, упразднить единовластие и отменить крепостное право. Он дал обещание прибегнуть к помощи своих «молодых друзей» в том случае, если станет императором[180]. В 1801 году, когда Александр взошел на трон, все пятеро вошли в «Негласный комитет», который проводил тайные встречи на протяжении двух или трех лет[181]. Обсуждаемые темы включали создание конституции, освобождение крепостных крестьян, юридические и административные реформы, а также внешнюю политику, но все эти дебаты привели лишь к скромным результатам. Родилась только одна значительная реформа, а именно учреждение нового министерского ведомства в сентябре 1802 года, из чего некоторые исследователи заключили, что сам комитет играл лишь второстепенную роль в царствовании Александра[182].
Обвинения в робости были вполне обоснованны: боязнь того, что в комитете называли «шумом», препятствовала претворению в жизнь его реформаторского плана. Тем не менее тревога привела не к пренебрежению общественным мнением, а, наоборот, к тщательному его изучению. И «общество», и «мнение», и «общественное мнение» регулярно всплывали в ходе их рассуждений, что засвидетельствовано в «протоколах» собраний, которые вел Строганов. Все пятеро использовали эти термины непоследовательно, отчасти из‐за недостаточной образованности в политической теории, а отчасти из‐за своей глубоко укорененной нерешительности. С одной стороны, внимание общественного мнения у них считалось залогом искусства хорошего управления, а с другой – они сомневались в легитимности голосов петербургской элиты, которая представлялась им безнадежно погрязшей в междоусобных распрях и совершенно лишенной «общественного сознания» (esprit public).
Под глубоким влиянием сентиментализма комитет первоначально считал, что отсутствие нужных нравственных качеств отнимает у элит право участвовать в политическом процессе. В результате комитет пытался оставаться негласным, не прибегая к публичным обсуждениям. Только после упадка комитета бывшие друзья Александра решили, что общественное мнение должно стать независимой силой в государстве.
«МНЕНИЕ» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, УСЛЫШАННОЕ В ЗИМНЕМ ДВОРЦЕНа пороге XIX столетия мысль в Санкт-Петербурге била ключом. Салоны, литературные кружки и литературные журналы сыграли важнейшую роль в культурном развитии элиты и в утончении ее вкусов. В городе, переполненном чиновниками и военными, в котором жизнь вращалась вокруг двора, умы и мнения неизбежно клонились к политике. Цензура значительно ограничивала свободу политических высказываний в печати, что еще более подчеркивало важность живого общения и обмена информацией в салонах, на званых ужинах, в парках и на театральных представлениях[183]. Александр, Кочубей, Чарторыйский, Строганов и Новосильцев появлялись повсюду и вращались в разных кругах, впитывая суждения других и создавая свои собственные.
Петербургские гостиные представляли собой полуофициальные пространства для общения. Высокородные семьи, такие как Долгоруковы, Голицыны и Строгановы, устраивали салоны и званые ужины, где сходились на короткую ногу и обменивались сплетнями государственные чиновники, высокопоставленные военные и зарубежные дипломаты. Вспоминая поздние годы правления Екатерины II, Чарторыйский замечает, насколько все гости были озабочены придворной жизнью: «Что там сказали? Что там сделали? Что думают делать? Вся жизненная энергия шла только оттуда»[184]. По его словам, Екатерина питала сознательный интерес к «общественному мнению» и мастерски им управляла[185]. Секрет ее успеха заключался не в том, что она потакала желаниям своих подданных, пишет Чарторыйский, а в том, что она предлагала им искусно поставленный спектакль, в котором они могли участвовать. В результате все население России было у нее «в кармане» в том смысле, какого никогда не достигнут ни ее сын, ни ее внук[186]. Чарторыйский отмечает, что за то краткое время, что Павел пробыл на престоле, тон разговоров стал гораздо менее почтительным: «Среди молодых придворных считалось модным и вполне приличным… развлекать себя сочинением едких и злобных эпиграмм, высмеивающих жалкие черты Павла и чинимые им несправедливости». И действительно, к 1801 году, когда Павел был жестоко убит, «вся страна» («tout le pays») знала о замышлявшемся против него заговоре, кроме самого Павла[187]. Примечательно, что Чарторыйский не корит Павла за конкретные политические решения, которые восстановили против него его же подданных, а обвиняет его в неумении слушать.
Александр страстно жаждал поддержки «общественного мнения» в первые годы своего правления[188]. Тем не менее он отверг средства, которыми пользовалась Екатерина (а именно, тщательно поставленный спектакль) как способ впечатлить своих подданных, тем самым обрушив на себя лавину критики[189]. Беспокойство императора о своей репутации выросло настолько, что в 1803 году он попросил Новосильцева докладывать ему о том, кто и что говорит «в городе»[190]. Соответствующее расширение влияния полиции не одобрялось «молодыми друзьями» императора, но и они беспокоились за свою репутацию[191].
Особенным пространством для обмена новостями и мнениями был Зимний дворец. Если суждения, высказываемые в салонах, необязательно имели целью повлиять на ход политических решений, то мнения, которые высказывались при дворе, неизбежно влекли за собой последствия, которые надо было тщательного взвесить. Чем выше чин, тем хуже невоздержанность. Комитет ужасало то, с какой беспечностью сановники высказывали свои мнения и желания перед нижестоящими чиновниками во время торжественных приемов при дворе, выдавая государственные тайны и мешая правильному ходу судопроизводственных дел[192]. Мнения, которые могли быть услышаны членами царской семьи, имели особенный вес. Романовы тщательно планировали свое перемещение во дворцах и вне их – таким образом, чтобы подслушивать, о чем говорили присутствующие. Обеды и ужины составляли важную часть дворцового общения. Коридоры, связывающие дворец с придворной церковью, открывали возможность еще более широкому общению до и после богослужения. Самый широкий круг лиц присутствовал во время театральных представлений и балов, когда приглашенное «общество» включало высшее духовенство, чиновников и офицерский состав среднего ранга, а также первые четыре класса купечества[193]. Разговоры и этого более широкого круга лиц также представляли интерес для членов Негласного комитета, которые и с помощью своих жен собирали информацию о высказанных мнениях[194].
Самым мощным аппаратом для производства мнений являлись государственные совещательные учреждения, создававшиеся именно ради того, чтобы их члены могли высказывать свои мнения. На первом этапе правления Александра этот аппарат включал в себя Сенат (созданный в 1711 году), Государственный или Непременный совет, основанный 30 марта 1801 года, и Комитет министров (он же «При дворе Совет», учрежденный 8 сентября 1802 года). Вышеперечисленные учреждения являлись «публичными» вследствие того, что их существование и членский состав были объявлены в печати. От участников совещаний ожидалось, однако, что содержание дебатов останется под печатью тайны. Император выборочно посещал их сессии, получая отредактированные протоколы заседаний[195]. Суждения, выносимые внутри всех совещательных органов, представляли исключительный интерес для членов Негласного комитета. Кочубей первым стал членом Сената и Государственного совета и докладывал обо всем, что там слышал[196].
Выслушивая мнения, провозглашенные участниками заседаний совещательных органов, члены Негласного комитета часто жаловались на их несвязность, подчеркивая, что несогласие сановников приведет к упадку всего аппарата государственного управления. Неумение формировать консенсус со стороны служилого дворянства препятствовало появлению общественного мнения, затрагивая социальную и политическую сферы. Как Кочубей писал позднее, в 1808 году, общественное мнение существует постольку, «[п]оскольку люди думают и имеют мнение, а если есть сходство во мнении разных индивидуумов, это можно рассматривать как общественное мнение»[197]. Тщательно подбирая слова, Кочубей дает понять, что, приписывая статус общественного мнения мнению какой-либо группы лиц, слушатель тем самым делает субъективный выбор, который подчеркивает значение суждения отдельных личностей.
УМЕНИЕ СЛУШАТЬСовещательные функции государственных мужей включали в себя умение слушать. Все политические теоретики конца XVIII – начала XIX века, от Монтескье до Берка, соглашались в том, что любые проекты реформ должны быть разработаны с учетом особенностей конкретной страны и с вниманием к умственным способностям, моральным качествам и предпочтениям ее жителей. Законодателям надо изучать климат и географию, удостоверяясь, что местные особенности соответствуют государственному аппарату. Также следует учесть нравственные устои населения, дабы предугадать возможную реакцию на предлагаемые законы. По логике Негласного комитета, закон должен отражать исторические предпосылки, локальную специфику, а также общечеловеческую природу.
Так, Новосильцев горячо ратовал за то, чтобы учитывать местные особенности, как видно из его писем Строганову. Прибегая к помощи целого ряда аналогий, Новосильцев утверждает, что исходный материал, из которого состоят государство и общество, всегда имеет локальное происхождение, так как в его основе лежат народные пристрастия и предрассудки. Новосильцев ссылается на Петра I, который, по его мнению, является примером монарха, отлично знавшего местные нравы и именно поэтому сумевшего обратить их в свою пользу во время реформ[198].
Строганов также подчеркивал необходимость формирования политических структур, соответствующих местным особенностям, в своих программных документах (далее – записках) для Негласного комитета. Органы государственного управления и бюрократические процедуры, совокупность которых Строганов обозначал термином «государственный аппарат» (corps politique), следует тщательно изучать и бережно с ними обращаться. Вполне возможно, что Строганов позаимствовал термин «corps politique» из трактата Монтескье «О духе законов»[199].
Вместо того чтобы применять шаблонные абстрактные модели для решения административных недостатков, необходимо искать их корни в ходе дел[200]. Строганов подчеркивает и необходимость изучения так называемого esprit public (общественного сознания), которое определяется как «доминирующая точка зрения по отношению к заданному предмету» и подлежит «тщательному систематическому анализу»[201].
У Негласного комитета было мало времени на то, чтобы обдумывать способ обнаружения той самой «доминирующей точки зрения» столицы. Высшие чиновники, включая членов Государственного совета, регулярно представляли Александру отчеты с предложениями о реформах, а также с комментариями к существующим проектам. В течение восьми месяцев с начала обсуждения реформы Сената Александр получил более десяти отчетов и комментариев. Комитет в подробностях рассмотрел как минимум четыре из них, составив к каждому коллективный ответ, а к двум – встречное предложение[202]. Члены комитета советовались с Александром Воронцовым и его братом Семеном, советовались и с опытными чиновниками, такими как Николай Мордвинов, Михаил Сперанский и их подчиненными[203]. Бывший наставник Александра, Фредерик Сезар Лагарп, желал участвовать в обсуждениях политики молодого императора[204], как и его мать, вдовствующая императрица Мария Федоровна[205]. Последняя поначалу смотрела с враждебностью на членов Негласного комитета, которые, судя по всему, отвечали ей взаимностью[206].
Законотворчество, согласно идеалу комитета, состояло из трех видов деятельности: наблюдать, слушать и советоваться. Между тем процесс консультации не должен был превращаться в публичную, гласную дискуссию. «Изготовление» закона у них считалось очень деликатной процедурой, почти священнодействием, совершаемым лишь узким кругом избранных лиц, подальше от посторонних глаз. Законы следовало представлять перед публикой полностью завершенными, ослепляющими своей мощью и величием, или, как выразился Новосильцев, подобно «Палладе, в полном вооружении выходящей из головы Юпитера»[207].
СЕКРЕТНОСТЬ И САМОПРОВОЗГЛАШЕННОЕ МОРАЛЬНОЕ ПРЕВОСХОДСТВО НЕГЛАСНОГО КОМИТЕТАНегласный комитет желал слушать, ничем при этом себя не выдавая. Совещания проходили скрытно, позволяя участвующим с большей доверчивостью высказывать и обсуждать свои замыслы. Секретность и замкнутость группы, ее конспиративный элемент, отделяли ее от постоянных посетителей двора, подчеркивая ее элитный статус как арканума власти[208]. Секретность укрепила в комитете тенденцию снисходительно и недоверчиво относиться к другим политическим голосам. Такое отношение вскоре сделалось препятствием для изучения «доминирующей точки зрения по отношению к заданному предмету» – задачи, которую сами себе поставили члены комитета.
Секретность была основным компонентом организации комитета. Официально он не существовал, но при этом играл важнейшую роль в формировании политики Александра. У него не было названия, но члены называли свое объединение «комитет» («le comité»), «малый комитет» или «комитет по реформам», а свои собрания – «наши дни», «совещание» или «сессия» («nos jours», «conférence» или «séance»)[209]. Членский состав комитета, время и место собраний, а также обсуждаемые вопросы держались в секрете. Как следует из переписки, лица, в него входившие, часто сообщались между собой, обмениваясь записками, встречаясь выпить кофе друг у друга дома или же пообедать или поужинать при дворе. Встреча, или же сессия, имела место тогда, когда все члены комитета, включая Александра I, собирались при дворе по предварительной договоренности. Обязательное присутствие императора отличало Негласный комитет от других современных ему институтов, таких как Сенат, Государственный совет или Совет министров[210].
В своих мемуарах Чарторыйский вспоминает, что все собрания тайно проводились в покоях императора, после обедов, которые предоставляли членам комитета благовидный предлог появиться при дворе, избегая при этом лишнего внимания. «После кофе и короткого общего разговора император удалялся, и в то время, как остальные приглашенные разъезжались, четыре человека отправлялись через коридор в небольшой будуар, непосредственно сообщавшийся с внутренними покоями их величеств, куда затем приходил и государь»[211]. Такой практике способствовал лишенный чрезмерной помпезности протокол, принятый в Каменноостровском дворце, где жила императорская чета в первое лето правления Александра и где 24 июня 1801 года состоялось первое собрание группы.
В первые месяцы правления Александра упрощенный протокол был очень кстати еще и потому, что Кочубей, Строганов, Новосильцев и Чарторыйский не состояли на государственной службе, а посему не имели формального повода появляться при дворе. Их имена практически не упоминаются в книге учета придворных событий, камер-фурьерском журнале, за апрель – июнь 1801 года, то есть тогда, когда Строганов и Кочубей начали обсуждать с Александром создание комитета[212]. Ситуация изменилась с назначением Строганова, Новосильцева и Чарторыйского камергерами в июле 1801 года[213]. Тем же летом Кочубей получил место в Коллегии иностранных дел, Сенате и Государственном совете, что дало ему возможность держать членов комитета в курсе проходивших там обсуждений. К осени члены комитета заняли прочное положение при дворе, что облегчало их встречи.
Чем выше в табели о рангах поднимались Кочубей, Строганов, Новосильцев и Чарторыйский, тем более очевидным становилось особое к ним расположение Александра. В сентябре 1802 года они возглавили министерства, которые сами же и помогали проектировать: Кочубей стал во главе Министерства внутренних дел со Строгановым в качестве товарища министра, Чарторыйский был назначен товарищем министра иностранных дел, а Новосильцев занял ту же позицию, но уже в Министерстве юстиции. Впоследствии они стали членами Совета министров, который также создали именно они. И хотя каждый раз их роли принимали все более публичный характер, существование комитета и содержание проводимых там дебатов не разглашалось. Консультируясь с другими государственными деятелями, члены комитета никогда не приглашали их на свои собрания. Остается неясным, чтó знали о комитете остальные придворные[214].
Чарторыйский в своих воспоминаниях сравнил комитетские сессии с собраниями масонской ложи, и сравнение это уместно по нескольким причинам[215]. Во-первых, общение велось в духе равенства: императорский статус Александра никто не забывал, но он старался не показывать дистанцию между собой и другими; остальные сбрасывали личины придворных и чиновников. Когда Александр выражал свое мнение на сессии Государственного совета, его слова являлись «монаршей волей» и посему обсуждению не подлежали[216]. В замкнутом же пространстве своих покоев Александр мог экспериментировать, позволяя членам комитета себе возражать, чем те охотно пользовались, иногда к его вящему неудовольствию[217]. Откровенные, без околичностей беседы были возможны еще и благодаря дружбе, к которой взывали всякий раз, когда спор становился слишком уж жарким[218].
Моральные устои комитета также во многом основывались на этике масонских лож второй половины XVIII века[219]. Отрекаясь от светских прикрас придворной элиты, члены комитета побуждались будто бы исключительно радением за императора, гуманизмом и преданностью отечеству. Более того, члены комитета полагали, что их право участвовать в государственной реформе основывается на наличии таких нравственных принципов, как любовь к человечеству и к родине (сполна компенсируя отсутствие опыта и соответствующей компетенции). Строганов отмечал, что только добродетельные личности могут быть допущены к участию в проекте реформ, который должен быть возложен на плечи тех, кто «преодолеет его с честью, поставив перед собой достойную цель»[220]. Тем самым Строганов преграждал путь тем будто бы тщеславным сановникам, которые пользовались сложившимися обстоятельствами, чтобы захватить власть.
Ссылаясь на внутренние, душевные качества, которые устанавливали право на политическое действие – особенно на их беззаветную преданность общественному благу, – члены комитета оперировали языком литературного сентиментализма. Еще 8 апреля 1801 года в своем письме Семену Воронцову Кочубей оправдал свое решение возвратиться в Санкт-Петербург моральной чистотой и преданностью благу отечества:
Я уезжаю потому, что мне кажется, что я в долгу перед великим князем Александром; я уезжаю потому, что думаю, что все честные добропорядочные личности должны сплотиться вокруг него и бросить все свои силы на то, чтобы излечить глубочайшие раны, нанесенные отечеству его отцом.
Кочубей ничего не упомянул о каком-либо опыте или умении, которые позволили бы ему оказать императору посильную помощь. Он вообще отказывался смотреть на свою деятельность в столице как на службу, утверждая, что абсолютно безразличен к перспективам карьерного роста[221]. Позднее Чарторыйский опишет Строганову свои побуждения примерно в тех же выражениях:
Мое единственное желание – это при любых обстоятельствах поступать наилучшим образом, как полагается человеку, который во всех своих действиях руководствуется исключительно честью и долгом[222].
Новосильцев и Строганов так же смешивали выражения утонченной чувствительности со строгими словами о добродетели и верности общественному благу:
Я убежден, что ничто так не показывает возвышенные устремления души, благородство чувств и честность ума, как стремление овладеть теми науками, которые больше всего связаны с общественным благом («bien public»)[223].



