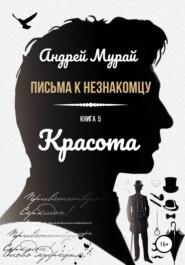скачать книгу бесплатно
Немецкий просветитель, учёный, археолог, эстетик, философ Иоганн Иоахин Винкельман родился в 1717 году. Отметим, до революции в России оставалось ровно два века. Стартовая позиция будущей знаменитости была незавидна: семья жила если не в нужде, то очень скромно. До купания в роскоши было далеко, как до Берлина. Если маленькому Вольфгангу Гёте бабушка подарила к Рождеству кукольный театр, то малолетний Иоганн мог рассчитывать разве что на пару гвоздиков.
Приведу отрывок из одной грустной автобиографии: «… а не будь я мальчиком, мне бы абсолютно не с чем было поиграть».
Примерно так, лишь чуть радужнее и у будущего учёного-археолога. С друзьями- мальчишками он целыми днями вел раскопки окрестных канав и оврагов. Кто бы мог подумать, что эта детская страсть аукнется в зрелом возрасте…
Отцом Иоганна Винкельмана был бедный сапожник, как и у революционера Иосифа Сталина. Но если Иосиф стал с юношества искать истово виновников своих бед и многих нашёл, то Иоганн «пошёл другим путём»[18 - «Мы пойдём другим путём» – якобы так, по словам родственников, сказал Володя Ульянов (будущий Ленин) после казни брата Александра. Будущее показало, что Ленин действительно отрицал индивидуальный террор и был привержен террору массовому.]. А именно – путём познаний: ученик, студент, домашний учитель, библиотекарь, проректор. Или – в изложении самого обозреваемого нами персонажа:
«Мою предшествующую историю я излагаю кратко. В Зеегаузене я был восемь с половиной лет конректором тамошней школы. Библиотекарем господина графа фон Бюнау я пробыл столько же времени и один год до моего отъезда прожил в Дрездене. Самой большой моей работой была до сих пор история искусства древности, особенно скульптуры, которая будет напечатана этой зимой. Далее есть у меня одна работа на итальянском языке с приложением более ста гравюр под названием «Объяснение затруднительных мест мифологии, обрядов и древней истории», все это на основе неизвестных указаний древности, которые здесь впервые появятся. Эту книгу infolio я печатаю в Риме на собственный счет. Попутно работаю над трактатом об аллегории для художников»[19 - Из работы М.Лифшица «Иоганн Иоахим Винкельман и три эпохи буржуазного мировоззрения».Лифшиц Михаил Александрович (1905 – 1983), российский литературовед, философ.].
Теперь подробнее, от ученичества и до самого до конца.
В годы своего студенчества Иоганн Винкельман изучал с равным интересом и богословие, и медицину, и математику. Пастор лютеранской церкви в Галле был слеп, святой отец просил Иоганна читать ему вслух. В результате такого богоугодного дела молодой человек (в Вашем, Серкидон, возрасте) познакомился с латинской и греческой литературой.
Не было и речи о «ранней взлётности». Взрослый дядя, на четвёртом своём десятке, учил детей читать и считать, вытирал им носы, занимая при этом скромную должность проректора в гимназии деревни Зеехаузен.
Перст судьбы указал на Иоганна в 1748 году. Его пригласили в небольшой городок Нотниц (близь Дрездена) для работы библиотекарем у графа Генриха фон Бюнау, большого знатока истории Германии и Священной Римской империи. Совсем рядом столица Саксонии и город могущественных меценатов – Дрезден.
В дрезденских кабинетах и галереях Иоганн увидел античные статуи и застыл от восхищения. «Благородная простота и спокойное величие»[20 - Из работы Винкельмана «Мысли о подражании греческим произведениям живописи и скульптуры».] античности пленили впечатлительного молодого человека. Очертания статуй, их выверенные образы попали в душу, свежераспаханную латинскими и греческими текстами.
Много лет пытаясь разобраться, что же было причиной постигшего его если не озарения, то громадного впечатления, пытливый ум учёного пришёл к выводу: красота.
О ней Винкельман писал:
«Существует только одна красота, имеющая вневременное значение, так как она заложена в самой природе и реализуется ею там, где счастливо совпадают милость небес, благотворное воздействие политической свободы и национального характера, например, у греков времен Фидия и
Праксителя».
Как и где черпал вдохновение Пракситель[21 - Пракситель (390 г. до н.э. – 330г до н.э.), древнегреческий скульптор. Автор знаменитых скульптур и композиций.] поведаю чуть позже, а вот про Фидия[22 - Фидий (490 до н.э. – 430 до н.э.), древнегреческий скульптор, архитектор, один из величайших художников периода высокой классики.] провидец Цицерон писал: «Когда он создавал Афину и Зевса, перед ним не было земного оригинала, которым он мог воспользоваться. Но в его душе жил тот праобраз красоты, который и воплощён им в материи. Недаром говорят о Фидии, что он творил в порыве вдохновения, который возносит дух надо всем земным, в котором непосредственно виден божественный дух – этот небесный гость, по выражению Платона».
Обделённому праобразом Фидию приходилось ждать небесного гостя, тогда как у «счастливых» советских скульпторов сталинской эпохи был земной Хозяин, им за праобразом высоко взлетать было не надо.
А что же творилось на феодальной земле Германии? Тут бушевал архитектурный стиль барокко, который Винкельман, уже усвоивший для себя иные принципы, критиковал нещадно: и за подражательность, и за манерность, и за ложную помпезность. Многие его гневные слова и обороты могли бы использовать в своих нападках на барокко «сталинские соколы» от архитектуры. Они не любили барокко за то, что веет от него ложным дворцовым величием (так не нюхайте!), писали, что объекты барокко не для пролетариата. Но в середине восемнадцатого века никто не знал, что в этом мире всё – для пролетариата. Тем не менее Иоганн Винкельман смотрел на объекты барокко, как красные командиры смотрели в своё время на врагов народа.
Кстати, о красных командирах. Выступая перед ними в 1935 году товарищ Сталин сказал: «Вот почему упор должен быть сделан теперь на людях, на кадрах, на работниках, овладевших техникой. Вот почему старый лозунг «техника решает все», являющийся отражением уже пройденного периода, когда у нас был голод в области техники, должен быть теперь заменён новым лозунгом, лозунгом о том, что «кадры решают всё».
Легко догадаться, винкельмановское время – середина восемнадцатого века – не было перенасыщено техникой. Были только кадры, и лозунг, провозглашённый громогласно Иосифом Виссарионовичем в годы первых пятилеток, был в Священной Римской империи ещё более актуален…
В упомянутом труде «Винкельман и его время» Гёте писал:
«Природа дала ему всё, что необходимо мужчине, и всё, что может его украсить».
В другом переводе эта же фраза звучит так:
«Природa вложилa в него всё, что создaёт мужa и укрaшaет его».
И в том, и в другом случае природа не оплошала.
Вдобавок к приятной наружности Иоганн был исполнителен, благовоспитан, образован. Он располагал к себе. Его охотно приближали и неохотно с ним расставались. Стоит ли нам удивляться тому, что столь «ценный кадр» не остался незамеченным. На него обратил внимание папский посланник. Иоганн поведал в личной беседе высокопоставленному католику о своей высокой мечте – о Риме.
«Вечный город распахнёт перед вами ворота, – сказал прелат, но…»
Рим стоил мессы[23 - Если верить преданию, слова «Париж стоит мессы» произнёс Генрих Наваррский, когда ему для получения французского престола пришлось перейти из протестанства в католичество.]. Винкельману пришлось отрёчься от лютеранства и принять католичество, что равносильно переходу из партии меньшевиков в партию Ленина-Сталина ВКП (б).
На этом, беспартийный Серкидон, закончилась первая, подготовительная часть жизни Иоганна Иохима Винкельмана, на этом разрешите закончить своё письмо.
Крепко жму Вашу руку, и до следующего письма.
-4-
Приветствую Вас, Серкидон!
Итак, мы уже с Вами определили, что главным потребителем красоты в подлунном мире является человеческая душа. А главный «поставщик»? Конечно, природа. Только ли природа? Нет! С первобытных времён (вспомним наскальную живопись) поставлять красоту во внешний мир приноровились люди с художественными дарованиями. Они обречены и на поклонение природе, и на особые отношения с ней. Так, во всяком случае, было в прошлом. И о чём нам свидетельствуют поэты прошлого.
«Северный Орфей»[24 - Определение А.С.Пушкина.] В.А. Жуковский:
Что наш язык земной
Пред дивною природой?
С какой небрежною и лёгкою свободой
Она рассыпала повсюду красоту
И разновидное с единством согласила!
Но где, какая кисть её изобразила?
Поэт и переводчик В.Г. Бенедиктов[25 - Бенедиктов Владимир Григорьевич (1807-1873), русский поэт и переводчик.]:
Повсюду прелести, везде живые краски.
Для всех природы длань исполнена даров.
Любуйся дивною, пей девственные ласки,
Но целомудренно храни её покров!
Композитороподобный А.А.Фет:
Есть в природе бесконечной
Тайные мечты,
Осеняемые вечной
Силой красоты.
Есть волшебного эфира
Тени и огни,
Не от мира, но для мира
Родились они.
И бессильны перед ними
Кисти и резцы.
Но созвучьями живыми
Вечные певцы
Уловляют их и вносят
На скрижаль веком
И не свеет, и не скосит
Время этих снов.
Наверное, хватило бы процитировать одного Фета, но уж, если написал лишнего чуток, чёркать не буду.
Продолжим описывать «чудесные деяния» Иоганна Винкельмана, и его, винкельмановские, воззрения на красоту. Он вторит приведённым после него написанным стихам, утверждая:
«Природа есть для человека неисчерпаемый источник красоты. А для художника она и подсказчик, и учитель, но красота природы многообразна, поэтому художник, прежде чем браться за создание произведения искусства, должен составить своё суждение о красоте. Что же касается акта творчества, то он есть обобщение тех красот природы, которые наиболее резонансы и близки душе художника. Только в этом случае он является не жалким копиистом подсмотренного, но воистину творцом».
И вот что я вспомнил, Серкидон, едва прочёл суждение немецкого учёного, вспомнились мне слова кавказского мудреца Фазиля Искандера: «Дело художника – вытягивать волей к добру из хаоса жизни ясный смысл, а не добавлять к хаосу жизни хаос своей собственной души».
Запомните эти слова и, если захотите похудожествовать, наведите для начала порядок в собственной душе. Многие нынешние горе-художники даже заглянуть в душу опасаются. Оно и понятно почему, там Авгиевы конюшни, не мытые, не чищенные… А что касается красоты мира, то ныне модно её обходить сторонкой. Из всех углов вытаскивают мерзости и уродства…
А теперь из тёмного настоящего отправимся в солнечную Италию.
1755 год. Иоганн Винкельман – в Риме. Чудо произошло. Опытный журналист тут же написал бы очерк с названием «Человек на своём месте», заядлый картёжник вздохнул бы завистливо: «Пошла карта мужику…», товарищ Сталин сказал бы: «Жить стало лучше, жить стало веселее[26 - Выступая на Первом всесоюзном совещании рабочих и колхозниц в ноябре 1935 И.В.Сталин сказал: «Жить стало лучше, товарищи. Жить стало веселее. А когда весело живётся, работа спорится». Примечательно, что слова были произнесены в период массовых репрессий.]», а с моей невысокой колокольни дело обстоит так: судьба спохватилась, вспомнила об Иоганне и стала сгонять милости к нему, словно пташек к кормушке.
Началась вторая, результативная часть жизни Винкельмана. Если Татьяна Ларина писала Онегину: «Вся жизнь моя была залогом//Свиданья верного с тобой», то Иоганн мог бы написать Вечному городу, что его малозначимая и бестолковая жизнь была не только залогом, не только прологом, но и черновиком, а вот теперь-то…
И всё поначалу благоприятствовало: откуда ни возьмись, появились и добрые друзья, и единомышленники, и могущественные покровители. Винкельман тут же был и обустроен, и обеспечен, и обласкан. А когда у человека (переосмыслим русского классика) прекрасное жилище, прекрасное жалование, прекрасная работа, тогда у него всё прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли.
Судьба щедро воздала Иоганну за вынужденный простой в «германии туманной»[27 - Определение из «Евгения Онегина».]. Годы, проведённые на Аппенинском полуострове, стали самыми напряжёнными, плодотворными и знАчимые в жизни учёного. Он жадно впитывает познания, анализирует, систематизирует, путешествует (Неаполь, Пестум, Геркуланум), участвует в раскопках, а потом и принимает на себя ответственную обязанность – составлять планы раскопок. «Огонь в начертании планов, – говорит Винкельман, – но холод в исполнении». Вот так, умело сочетая «лёд и пламень»[28 - Из «Евгения Онегина».], шёл к славе этот незаурядный мужчина.
Слава пришла к нему с выходом в свет в 1764 году книги «История искусства древности». Это и есть то знаменитое сочинение Винкельмана, о котором упомянул граф Толстой.
Трудами учёного заинтересовался высокий престол. В упомянутом труде Гёте читаем: «… однажды мы видим его в знаменательном общении с главою церкви; на долю Винкельмана выпадает совершенно особая честь: разрешение прочитать папе некоторые места из «Monumentiinediti» таким образом, он и здесь достигает высшей почести, какая может выпасть на долю писателя»[29 - Пребывaние Винкельмaнa в Риме в большей чaсти совпaло с прaвлением Бенедиктa XIV, который возглавлял католическую церковь с 1740 – 1958гг.].
Можно сказать, что герой нашего повествования был с папой «на дружеской ноге».
Стоит ли удивляться тому, что через некоторое время Иоганн Винкельман уже президент древностей города Рима, письмоводитель Ватиканской библиотеки и член Лондонской академии.
Тут-то о нём припомнили на родине. Фридрих Великий предложил должность библиотекаря и хранителя Кабинета медалей и Древностей. Но развращённый знаниями о демократии Древних Афин, мягким климатом и дружеством окружающих людей Винкельман отказывается возвращаться в отсталую феодальную Германию, в «деспотическую страну», где он «ощущал рабство больше, чем другие». Учёный уже отметил для себя, что «выдающиеся античные мастера создали свои шедевры не только благодаря таланту и прилежанию, не только благодаря счастливому сочетанию нравов и климата, но, прежде всего, благодаря сладкому чувству свободы, которое возвышает душу художника и питает её великими идеями».
Если бы смелый вольнодумец высказал подобную критику в адрес советских порядков в культуре и общественной жизни, его немедленно доставили бы в Кремль, и вдумчивый И.В. Сталин имел бы с ним неторопливую беседу. Вернее, нет. Трудно беседовать, с кляпом во рту. Иоганн – молчит, говорит Иосиф:
«Интересное дело, Лаврентий[30 - Сочинитель писем имеет в виду Лаврентия Павловича Берия, государственного деятеля, входившего в «ближний круг» Сталина.], товарищ Винкельман считает, что советские скульпторы несвободны в своём творчестве. Ему не нравится девушка с веслом. Эти ошибки происходят из того, что товарищ Винкельман не владеет марксистским подходом к искусству и не понимаем, что такое свобода, а что такое несвобода. Я думаю, правильным будет с нашей стороны помочь разобраться товарищу Винкельману в этом вопросе. Десять лет лагерей… Что ты говоришь, Лаврентий? Ну, хорошо, пятнадцать лет, проведённых в лагере, помогут товарищу Винкельману разобраться в своих ошибках полностью. Когда он попадёт на Колыму, он сразу поймёт, что такое несвобода. А когда по истечению срока наказания освободится… если освободится, он поймёт, что такое свобода. Я правильно говорю, Лаврентий?..»
К счастью для Иоганна Винкельмана, феодальная Германии восемнадцатого века была терпимей к критике, чем Советская Россия века двадцатого…
Как-то неожиданно и вдруг «слетела со счастья вожжа…»[31 - Строчка из поэмы Есенина «Анна Снегина».] Счастливая пора в жизни окончилась, судьба отвернулась от Винкельмана, а развращённый благостями учёный и не заметил, как ветер попутный стих, сник парус и подморозило… Он, неугомонный, ещё строит радужные планы, проявляя горячность. Винкельман собирается провести раскопки ни много ни мало в Древней Олимпии. Для экспедиции нужны деньги. И куда направляется наш непоседа искать щедрых меценатов? В Германию! Вернее, в Священную Римскую империю. К самодурам герцогам и тупым баронам. На родину!
Берлин, Аугсбург, Мюнхен. Три германских города не оправдали ожиданий учёного, тогда он поворачивает в Австрию. В Вене Винкельман принят Марией Терезией[32 - Мария Терезия Вальбурга Амалия Кристина (1717 – 1780), эрцгерцогиня Австрии, супруга, а затем вдова императора Франца. Её царствование – время просвещённых реформ.] (аналог нашей Екатерины Великой), обласкан ею и одарен, но не настолько щедро, чтобы начать раскопки. На обратном пути в Италию Вилькельман приезжает в Триест. Далее идут такие глупости, описывать которые я не в силах, передаю слово Жермену Базену[33 - Базен Жермен (1902 – 1990), известный французский искусствовед, автор знаменитой «История истории искусство».]:
«В ожидании корабля, который должен был переправить его в Венецию, Винкельман останавливается в гостинице на Петерсплац. Там он встречает молодого итальянца Арканджели, недавно выпущенного из тюрьмы. 8 июня Арканджели входит в комнату учёного, работавшего в тот момент над новым изданием «Истории искусства древности» и просит показать ему золотые медали, которые вручила Винкельману Мария Терезия, о чём тот рассказывал итальянцу. Пока Винкельман ищет медали, Арканджели неожиданно накидывает ему на шею петлю и тянет за веревку. Учёному удается выпрямиться; к несчастью, он падает, и убийца наносит ему несколько ударов ножом, а за тем убегает. Между тем хозяин гостиницы Хартхабер, заслышав шум падающего тела, вбегает в комнату и видит учёного распростертым на полу с верёвкой на шее и истекающим кровью от пяти ранений. Хозяин зовет лекаря, но тот не в силах помочь. Винкельман прожил ещё четыре часа и успел продиктовать завещание, однако подписать его ему уже не хватило сил».
Нелепо… Сцена из бульварного романа, из дешёвого телевизионного сериала…
Винкельман утверждал, что кисть художника должна быть пропитана разумом. А поведение учёного с европейским именем? Наверное, и оно должно быть разумным. Зачем приближать к себе кого попало? А тем более рассказывать малознакомому человеку про медали да монеты…
Неожиданно для многих не стало Иоганна Иохима Вилькельмана. Но вольнодумцы, революционеры, большевики таковы, что вместо одного павшего в неравной борьбе со злом и безобразием встают десять новых.
Идеи Винкельмана были подхвачены и развиты в Германии Г.Э. Лессингом[34 - Лессинг ГотхольдЭфраим (1729 – 1781), немецкий поэт, драматург, теоретик искусства, литературный критик.], И.Г. Гердером, Ф. Шиллером, Ф.В. Й. Шеллингом, Г.В.Ф. Гегелем. Нельзя сказать, что немецком общественном сознании наступил «великий перелом», но когда в прусском городе Триер родился первый марксист и кумир товарища Сталина, мальчику по имени Карл уже было что почитать.
Из письма Маркса отцу. Берлин, 10 ноября 1837.
«При этом я усвоил себе привычку делать выписки из всех книг, какие я читал, например, из «Лаокоона» Лессинга, «Эрвина» Зольгера, «Истории искусств» Винкельмана, «Немецкой истории» Людера, мимоходом нанося на бумагу свои размышления…»[35 - Из книги «Переписка Карла Маркса, Фридриха Энгельса и членовСемьи Маркса 1835-1871 гг». Москва, Издательство Политической литературы, 1983.]
А Вы, Серкидон, читая умные книги, наносите на бумагу свои рассуждния?
Крепко жму Вашу руку, и до следующего письма.
-5-
Приветствую Вас, Серкидон!
Сегодня только взялся за письмо к Вам и – зазвонил телефон! Позвонил давний приятель, журналист с немыслимым стажем. Мы вдоволь посплетничали, благо у обоих телефоны допотопные – со шнурками. Сначала болтали о том о сём, после – о том об этом. Нет, нет, о Вас ни словом я не обмолвился, поскольку Вы – моя прихоть, моя странность и мой большой секрет.
Говорили о погоде, о политике. Обе темы рискованные: в Петербурге погода радует редко, политика не радует в России со времён царя Гороха. Понятное дело, мы оба расстроились. Порешили так: нет на нынешний момент в стране плеяды ярких политиков, есть клоуны, которым иногда разрешают походить по политической арене…
Серкидон, предлагаю исправить это позорное для нашего общества положение. Есть идея! Надо попытаться полнее использовать женщину в политике. Нет, женщин, конечно, близко к трибунам подпускать нельзя, они заболтают-забалаболят любое дело. Женщина должна быть вдохновляющим символом!
Я предлагаю создать партию «Женолюбы России». Партию поклонников женских прелестей. Женская притягательная сила, красота, по разумению моему, должна спасти, пусть не весь мир, но хотя бы нашу несчастную страну, погрязшую в безостановочном накопительстве, в бесчувственном обывательстве, ленно прозябающую «без божества, без вдохновенья…»
Общество надо встряхнуть. План такой: Вы партию возглавляете, я Вам помогаю мудрыми советами. Сначала пишем на знамёнах какую-нибудь никем не понятую поэтическую строчку, скажем, Пастернака… Ну, например – «Я поле твоего сраженья!», и – на ристалище! У нас все шансы победить, сначала на парламентских выборах, а потом, глядишь, чем чёрт не шутит…
Ведь за нашу партию проголосуют все половозрелые женщины, все преисполненные благородством юноши, все не в меру сексуально озабоченные мужчины. А уж голоса подкаблучников – точно наши!.. Серкидон, а почему Вы головой замотали, покраснели, побелели, на лбу испарина?.. Не хотите? Ну, вот опять не хотите…
Тогда, позвольте, я хоть расскажу Вам о том, как пришла ко мне идея полнее использовать женщину в политике. Отвлёкший утренним звонком приятель среди прочего клялся и божился, что видел в одном архиве пожелтевшую до невозможности газету сталинских времён. Сейчас такое и газетой назвать нельзя – двухполосная многотиражка далёкого сибирского леспромхоза. А в ней статья о рационализации женского труда на лесоповале. Статья озаглавлена «Полней используй женщину в лесу». Вот тут-то меня и осенило, можно сказать.
А Вы мою идею загробили на корню… Вернёмся к нашим искусствоведам. Вчера вычитал я на сон грядущий слова сына немецкого башмачника, учёного-романтика Винкельмана: «Только обнажённая женщина может стать воплощением красоты».