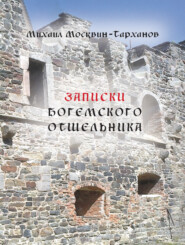скачать книгу бесплатно
Уже поздно вечером мы узнали, что в войну с нами вступила Великобритания. Там был Рудольф, ему еще не было 40 лет, англичане его точно задержат и, может быть, арестуют. Телеграфное сообщение с Лондоном и Парижем было прервано, но можно было послать пока еще телеграмму в Нью-Йорк Дэвисам с просьбой помочь Грете и Рудольфу, оказавшимся в одночасье на территории вражеских государств. Ответа я не получил, потом выяснилось, что Джерри и Труди были в это время на отдыхе на Кубе и вернулись в Нью-Йорк только в сентябре.
Не буду рассказывать подробности, но 18 августа я и мои товарищи получили предписание явиться 21 числа с вещами в казармы резервного батальона. В Берлин вернулась Эльза, и мне предстояло объяснить ей мой поступок, особенно то, что я временно не смогу ей помогать в работе по культуре Древнего Египта. Эльза полностью поддержала мой патриотический порыв, сказала, что я не должен беспокоиться, что она пока будет работать по Ближнему Востоку с превосходным специалистом приват-доцентом Гансом Функе и она меня с ним обязательно познакомит. Нежно поцеловала у своего дома на прощание, сказала, чтоб я себя берег, что она будет мне писать. Не на это я надеялся, но уже не в первый раз я обольщался на тему чувств ко мне Эльзы.
Двадцать первого мы явились на сборный пункт с чемоданами, половину вещей из которых мне не разрешили взять с собой. Пришлось оставить пришедшей меня провожать Эльзе бинокль, фотоаппарат с пластинками и замечательный пистолет с патронами, подаренный мне три года назад Гретой, – эти вещи можно иметь с собой только офицерам, но не рядовым. Эльза обещала все передать Грете по ее приезде. Вместе с Эльзой пришел нас проводить среднего роста, хорошо одетый господин с полноватым, баварского типа лицом и небольшими усиками – Ганс Функе. Мне он сразу не понравился, что-то меня кольнуло, когда я увидел, как он смотрит на Эльзу.
* * *
Грета оказалась в Ницце действительно в трудном положении, но две телеграммы, от нее – кронпринцессе Швеции и с той стороны – княгине Монако, пусть не сразу, но уладили проблему, и она на яхте египетского негоцианта отплыла в Геную 12 августа. Уже 16-го она была в швейцарском Берне, оттуда прислала на мое имя в два адреса телеграммы, что с ней все в порядке. Не дожидаясь ответа, переехала в Вену, а 19-го оказалась в Эгере, где рассчитывала застать меня. Узнав, что я уже уехал, она не стала мне писать, а решила провести один день с родными и только поздно вечером 21-го вернулась в Берлин, когда наш эшелон уже ушел на Запад. Ее ждало мое письмо, прочитав которое, как потом говорила, она испытала смешанное чувство страха за мою судьбу и гордости за мой поступок. Эльза ее посетила, рассказала про мой отъезд и передала вещи. Телеграмма от Греты догнала меня в Брауншвейге, я тоже сумел отправить ей ответ из Ганновера.
С Рудольфом получилось хуже, его задержали в Лондоне в первый же день, сразу почему-то решили, что он немецкий шпион. Хорошо, что Дэвис подключил членов Британского королевского общества, они поручились за него. Чтобы закончить рассказ о судьбе этого замечательного человека: в 1915 году он сумел выехать в США. Это случилось еще до торпедирования немецкой подводной лодкой парохода «Лузитания» и первого взрыва антигерманских настроений, так что затруднений с получением вида на жительство в США у него не было. В дальнейшем он не вернулся на родину, жил и работал в Чикаго, и до 1942 года мы состояли с ним в переписке.
* * *
Война – это то, что я ненавижу всей душой, и писать о своей службе в армии я буду очень кратко в стиле автобиографической справки.
После кратких сборов и обучения самым простым солдатским навыкам батальон, состоящий из добровольцев, где были студенты из саксонских, прусских и иных университетов, то есть образованная, в том числе, еврейская молодежь, выдвинулся на передовые позиции. К 10 ноября на завершающем этапе знаменитого «бега к морю», когда мы пытались обойти французов с запада, а они нам не давали это сделать, мы подошли к селению Лангемарк, недалеко от Ипра. Здесь 11-го числа произошло известное сражение Великой войны, такое же знаменитое, как некогда атака легкой кавалерии англичан под Балаклавой во время Восточной войны. У англичан под Балаклавой погибал цвет молодой британской аристократии, под Лангемарком же сражался и погибал цвет молодой германской интеллигенции.
Сражение для меня продолжалось всего минут пять. Мы рассыпались густой цепью и с примкнутыми штыками шагом двинулись к позициям противников, которыми были британцы, в значительной части такие же, как мы, добровольцы. Разница была в том, что они оборонялись в укрытиях, а мы наступали. Говорят, что мои товарищи, взявшись за руки, пели гимн, но я этого не слышал, так как ускорил свой шаг и выдвинулся на десяток метров вперед из цепи, чтобы, когда мы перейдем на бег, не отстать от других, ведь бегал я плохо. И тут винтовочная пуля попала мне в правую часть груди и пробила навылет верхнюю долю легкого. Вот так я с ранением средней тяжести оказался в госпитале в Кельне. Несколько дней был сильный жар, я бредил, а когда наступило облегчение, первой, кого я увидел, была, конечно же, Грета – мой добрый ангел-хранитель.
К нам в госпиталь приехал принц Альбрехт и лично прикрепил к моей груди Железный крест второго класса. Грета была счастлива, никогда не думал, что это для нее может так много значить. Когда кто-то говорил потом о безразличии к наградам и орденам, я никогда такой разговор не поддерживал, вспоминая лицо Греты в тот день. Такое впечатление, что в ее глазах я прошел главную проверку и получил высокую оценку, ее труды не пропали даром.
Но Грета твердо решила, что, проявив себя на поле боя, я должен теперь поставить перед собой задачу остаться в живых: она знает, как это сделать.
И через три месяца я был фендрихом при штабе армии генерала фон Гальвица, а в середине 1915 года уже стал лейтенантом. И вот наступил самый страшный для меня 1916 год. Мы находились под Верденом впятером в штабной машине недалеко от французских позиций, когда нас обстреляла вражеская батарея. На расстоянии предельной досягаемости противник не мог рассчитывать в нас попасть, и он поступил по-другому. В полусотне метров от нас упал снаряд, который не разорвался, а раскололся, из него вырвалось облако какого-то газа. Мы впрыгнули в машину и начали отъезжать задним ходом, товарищи искали маски, а я задержал дыхание и зажал нос, терпел до того, что пошли круги перед глазами, а потом вдохнул воздух через толстый слой марли респиратора. И все равно уловил легкий запах прелой скошенной травы.
«Кажется, пронесло». Но не тут-то было. Через три часа у всех пятерых развился отек легких, отравляющим газом оказался не хлор, а новое вещество – фосген, который гораздо опаснее хлора, но действует не сразу. Все четверо моих спутников скончались в больнице, а я с трудом выкарабкивался два месяца в госпитале и еще два месяца долечивался в нашей университетской клинике Шарите в Берлине.
Там мне и пришло первое страшное известие – о смерти моего отца, он не перенес гангрену и ампутацию ноги. Следующей страшной вестью была гибель нашего Вилли, который был призван в 1915 году и зачислен в гренадерский полк. Его часть был развернута под Луцком, где русские в июне предприняли мощнейшую атаку, в результате которой погибло множество австрийцев из Богемии, среди них и ефрейтор Вильгельм Шмидт. Эту новость я получил, уже находясь в Шарите. В июле я выписался из клиники, мы вместе с Гретой поехали в Эгер и как раз успели на похороны мамы, она умерла за два дня до нашего приезда, не пережив смерть мужа и сына. Я еле держался на ногах первые дни, Грета с Магдой меня возили на лечение сначала в Францбад, а потом устроили в санаторий для военных в Карлсбаде. Мои легкие после отека медленно восстанавливались, но с тех пор одышка меня сопровождает всю оставшуюся жизнь.
В Карлсбаде мне пришло письмо от Эльзы, где она сообщала, что вышла замуж за своего научного руководителя Функе, который стал профессором в университете. Сам поразился своему равнодушию к этому известию и вежливо поздравил молодых супругов Функе с началом семейной жизни. Что это все по сравнению с потерей обоих родителей и брата? Пожелал им счастья.
В сентябре 1916 года комиссия признала меня условно годным к военной службе после прохождения курса лечения, и я снова оказался в нашей берлинской квартире. Грета работала в школе, а я решил завершить свое обучение экстерном, сдать экзамен и для начала получить право преподавания в школе, что мне удалось сделать в феврале 1917 года. Сам диплом мне выдали, когда я уже полгода был на службе в качестве офицера по приему мобилизованных на призывном пункте в Берлине.
Нам с Гретой казалось, что я смогу до конца войны, каким бы он ни был, проработать в Берлине, меня на работе ценили и повышали в звании – к марту я был капитаном. Университетский диплом произвел впечатление на моих начальников, мое умение беседовать с родителями призывников и самими молодыми людьми, мой орден, нашивки за ранения и слава участника сражения за Лангемарк давали мне возможность авторитетно общаться даже с людьми, отмеченными высокими наградами, или в высоких чинах. Впрочем, Лангемарк ассоциировался теперь не только с подвигом патриотической немецкой молодежи в самом начале войны, но и с ядовитыми газами, которые мы впервые применили там же, в районе Ипра, в 1915 году. Иногда я думаю, что это больше, чем совпадение, это некий символ того, что высокие чувства патриотов приводят не только к их личным подвигам, но и к таким ужасным последствиям, которые юные добровольцы не могут даже представить себе.
Конец войны виделся нам печальным, когда вдруг в России в марте началась революция, а в июне провалилась попытка наступления русских войск: один из противников мог выйти из игры. Правда, весной 1917 года вступили в войну Соединенные Штаты, но развертывание их войск во Франции шло медленно, и само их качество было невысоким. У нас появилась возможность сломить французов и англичан, мы были на грани победы, но она не случилась. Осенью наши прогнозы вновь стали грустными, даже несмотря на то, что русская армия полностью развалилась и у них в стране пришли к власти крайние социалисты-марксисты, которые были готовы заключить мир на выгодных для нас условиях. Но на западном фронте наши дела шли весьма и весьма неважно.
* * *
Но тут я допустил неосторожность – проходя очередную медицинскую комиссию и заполняя анкеты, указал, что не только владею французским, английским и чешским, но немного знаю литературный русский и даже его австро-венгерский рутенский диалект, которые некоторые образованные жители Галиции определяют, как западно-украинский или просто украинский язык. Это изменило мою судьбу: ведь весной 1918 года наша армия заняла юг России. Меня, повысив в звании и наградив за работу на призывном пункте медалью, отправили в Киев в штаб оккупационных войск под общим руководством фельдмаршала Германа фон Эйхгорна.
Киев показался мне весьма приятным, зеленым и красивым городом, днем в его центре было совершенно спокойно, вечерами же германским офицерам не рекомендовали ходить без оружия и в одиночку. Тут мне пригодился, наконец, давний подарок Греты: пистолет Маузера выглядел внушительно и красиво на бедре, хотя был несколько тяжеловат и не очень удобен в ношении.
Фельдмаршал фон Эйхгорн оказался премилым стариком, с нами, молодыми офицерами штаба, он держался дружески-покровительственно, интересовался моими рассказами про жизнь в Берлине до войны, ведь и некоторые его родные учились в нашем университете в разные годы. Сам он тоже был готов на досуге рассказать нам о франко-прусской войне и своем пребывании в Париже в 1871 году. Меня он, как «знатока» русского и украинского языков, прикомандировал к штабу правителя Украины – гетмана Скоропадского. Описывать то, что я видел в штабе у гетмана и в городе Киеве, я не буду, у меня для этого нет нужного кругозора и таланта.
За меня это сделал молодой литератор Михаил Булгаков, роман которого «Белая гвардия» в двух томах на русском языке, изданный фирмой Конкорд и издательством Бреннера, Грета привезла из Парижа в 1930 году. Я получил возможность вспомнить свое пребывание в Киеве в мае – августе 1918 года и заодно попрактиковаться в русском языке, который стал уже забывать. Мне говорили, что в Москве, в том самом знаменитом Художественном театре, спектакли которого я видел в 1906 году в Берлине, по этому роману в 1926 году была поставлена пьеса, имевшая шумный успех и вызвавшая общественную дискуссию. Думаю, что этот талантливый автор будет еще много раз издаваться и его роман непременно переведут со временем на немецкий язык, если сама Германия сохранится хотя бы отчасти после неизбежного краха Третьего рейха.
Но я все-таки скажу пару слов про гетмана Павла Скоропадского и его штаб: это была весьма мало дееспособная компания, состоящая из разного рода украинских националистов, мечтавших о великой Украине, русских офицеров, надеявшихся восстановить Российскую империю в каком-либо приемлемом виде, и разного рода космополитических личностей, желавших поживиться в условиях беспорядка в государственном управлении. Между собой мы разговаривали сразу на четырех языках: русском классическом, украинском фантазийном, немецком и, заходя иногда в языковый тупик, на французском, который в России традиционно знали многие, по крайней мере, в объеме гимназического курса. Сами разговоры по существу сводились к тому, как укрепить власть гетмана в условиях наступления большевиков с северо-востока и отрядов националистов Петлюры и Винниченко с юго-запада. Пока в Киеве находились наши части, Скоропадскому было бояться нечего, но, тем не менее, он старался сформировать отряды из одетых в некие национальные костюмы украинских воинов и параллельно с ними – части из русских патриотов, офицеров и юнкеров под руководством подполковника князя Святополк-Мирского. Как он собирался контролировать одновременно обе эти разнородные силы, не знаю.
У одного из адъютантов гетмана по имени Евгений на столе я увидел бронзовую статуэтку изящной египетской кошки, сначала подумал, что подделка, но после определил, что это подлинная египетская работа времен Птолемеев. Евгений как-то уклончиво рассказывал, откуда у него эта вещь, стало только ясно, что это подарок и талисман и он с ней не расстается.
Мне было неудобно перед Гретой, что я ни разу не попробовал ее маузер, и вместе с упомянутым Евгением мы отправились в конце июля в тир. Мое коллекционное оружие эксклюзивной работы просто поразило его, он стал расспрашивать, но я ответил: «Это подарок близкого мне человека, как ваша кошка». Он понял намек и предложил обмен. Я отдал ему пистолет и забрал египетскую кошку, которую привез потом в подарок Грете. Мне в Германии нужна была богиня радости Баст, а ему, наверное, пригодился мой маузер, если он оказался потом в армии генерала Деникина.
* * *
Вернулся я в Германию третьего августа, причиной тому был печальный случай: 30 июля около нашей штаб-квартиры на Екатерининской улице какой-то негодяй убил бомбой восьмидесятилетнего фельдмаршала фон Эйхгорна и вместе с ним его адъютанта – моего нового приятеля Вальтера фон Дресслера. Первого августа в день четвертой годовщины Великой войны мы проводили старого фельдмаршала в последний путь в церкви Святой Екатерины в Киеве. Гроб с его прахом отправили в Берлин, в числе сопровождающих лиц был и я. Нам надлежало сдать тело старого воина на руки его семье и официальным лицам, а мне потом явиться в мобилизационное управление на прежнее место службы. Моя трехмесячная командировка завершилась.
Греты в Берлине не было, она на этот раз уехала в Стокгольм, но должна была вернуться десятого числа. Встретив меня, она обрадовалась, что я уже дома и снова на прежнем месте службы. Мое признание насчет обмена пистолета на кошку сначала ее огорчило, но я объяснил, что кошка – это маленькая богиня радости, которой так не хватает, а оружие пусть поможет выжить Евгению в гражданской войне, что разворачивается в России. Она кошку полюбила, та стала ее талисманом: «Маленькая богиня нашего Карла». В эти дни мы скромно отметили в бывшем кафе «Пикадилли», в 1914 году претенциозно переименованном в «Фатерланд», как сказала Грета, «обмыли шампанским трагическую дату ее пятидесятилетия».
Мы недолго радовались встрече: 25 августа я заболел испанским гриппом и в течение месяца был между жизнью и смертью в той же университетской клинике. С этого времени здоровье уже никогда полностью не возвращалось ко мне, и почти на целый год я стал практически инвалидом. Медицинская комиссия отправила меня на три месяца на лечение, после которого врачи должны были определить саму возможность дальнейшего прохождения мною военной службы.
У Греты тоже произошли в жизни большие изменения – ее престижная школа для девочек, как-то с трудом пережившая четыре года войны, все-таки закрылась в октябре, не набрав нужного количества учениц. Мы оба были свободны, и нас ждали в Эгере Магда и мои племянники. Так я вновь оказался в Богемии 26 октября 1918 года.
Как же я был удивлен, узнав о том, что 28 октября в Праге некий национальный комитет провозгласил декларацию независимости. В последующие дни последовало перемирие на фронтах и начался распад Австро-Венгрии. Австрийцы запросили перемирия, то есть фактически капитулировали 3 ноября, Германия – 11 числа, но еще до этого вспыхнуло восстание моряков в Киле. Кайзер бежал из страны и отрекся от престола. Германия вошла в полосу революции и гражданской смуты, и возвращаться в Берлин для нас в это время с моим здоровьем было бы крайне неразумно, ведь там плохо обстояло дело с продовольствием и лекарствами.
Мы решили задержаться в Богемии ненадолго, но в наши с ней планы внесли коррективы выросшие за эти годы дети Вилли и Магды – одиннадцатилетний Иоганн, девятилетний Якоб и пятилетний Фриц. Грета просто расцвела, увидев этих мальчиков, и сразу принялась за их воспитание к полному восторгу Магды, которая очень беспокоилась за их дальнейшую судьбу. Когда я попал к Грете, мне было 16, теперь я вырос, и другие мальчики, сразу трое, нуждались в ней. Ей минуло пятьдесят лет, но никто бы не дал ей больше сорока, она была подвижна, обаятельна, весела. Что-то неуловимое сближало Грету с моим погибшим братом Вилли, это чувствовал не только я, но и вдова брата Магда, которая безгранично доверяла Грете в деле воспитания своих мальчиков.
Не буду описывать перипетии нашей жизни в Богемии в течение первых трех лет после окончания войны. Были проблемы и сложности контактов с новым чехословацкой администрацией края, но многие вопросы удавалось решать благодаря связям Магды и ее друзей. Нам с Гретой удалось устроиться на работу учителями в частные немецкие школы в Карловых Варах, помогли мой университетский диплом и берлинские рекомендации Греты.
* * *
Наука была временно оставлена мною, я не занимался ей восемь лет, но опять все изменил случай: к нам приехали родственники из США – Труди, Джереми и их старшая дочь, моя племянница Джуди, которой исполнилось 16 лет, красивая спортивного вида блондинка, очень похожая на мать.
Не буду подробно писать о пребывании родственников у нас в Богемии, сразу перейду к результатам их визита. В единственно достойном учебном заведении Чехословакии, Карловом университете, шли столкновения между немецкими и чешскими профессорами, многие известные люди увольнялись и уезжали. В Берлине и Вене было неспокойно, и нужно было думать о продолжении учебы всех трех мальчиков. Особенно беспокоила судьба Иоганна, который окончил общеобразовательную школу и нуждался в гимназическом образовании для поступления в университет.
Решение было принято – Магде с мальчиками ехать в город Чикаго к родным и там дать детям достойное образование. Мы согласились с доводами сестры и ее мужа, но тут Грета как-то сразу погрустнела и, как говорят, «ушла в себя». Я понял все сразу и твердо сказал, что Грета должна уехать в Чикаго вместе с ними. Как ее удалось уговорить, не буду рассказывать.
Она обещала вернуться ко мне, как только наладится учеба детей в США, но я снова твердо прекратил эти разговоры: «Я вырос и практически здоров, а ты нужна теперь мальчикам». Результатом стали наше прощание на пражском железнодорожном вокзале в ноябре и отплытие их в конце декабря 1922 года из Франции на пароходе «Мажестик» в Нью-Йорк. Так получилось, что плыли они вместе с труппой Московского Художественного театра, который мы пятнадцать лет тому назад видели в Берлине, теперь московский театр ехал в США на гастроли и вез все тот же исторический спектакль про царя Федора все с тем же бессменным Иваном Москвиным в главной роли.
Это был первый результат визита Дэвисов. Вторым было возобновление моей научной работы, тему которой мы вместе с Рудольфом выбрали восемь лет тому назад. Джереми привез мне письмо от него, где мне предлагалось, как там эту форму называют, «по научному гранту», заняться вместе с Рудольфом графометрическим изучением египетских папирусов и созданием их фототеки в виде пластинок, пленок и отпечатков, полученных путем фотосъемки с высоким разрешением. Я ухватился за эту возможность обеими руками: не хотел никуда уезжать, моя жизнь была связана с Берлином и Судетским краем.
Теперь у меня была работа в Европе по заказу Чикагского университета, то, о чем я мог только мечтать, но для этого мне надо было оставаться в Старом Свете. Кроме того, обстановка в чешских учебных заведениях была сложной, шли конфликты на почве чешского и немецкого языков, в которых я совершенно не имел желания хоть как-то участвовать и с удовольствием уволился из школы. Заканчивая о семейных делах, хочу только сообщить, что Джон, Джек и Фред Шмидты учатся в лучших учебных заведениях США, а Грета Дитц, теперь «Марджи», преподает в частной школе в Чикаго, ведет колонки в спортивных журналах, играет в теннис, стреляет из лука и учит хорошим манерам простоватых американок. Мы с ней встречались до 1938 года несколько раз в Ницце, а также в Карлсбаде, куда я окончательно перебрался после того, как были проданы чехам все предприятия нашей семьи. Сам город стал называться Карловы Вары и вновь наполнился отдыхающими, но национальный состав их стал теперь несколько иным.
* * *
Мне не позволяло иметь семью мое состояние здоровья: отравление фосгеном под Верденом оставило неизгладимый след в моем организме. Я не хотел ни с кем особенно общаться, поддерживал только необходимый минимум контактов. Когда Карловы Вары посетил американский консул, то пригласил меня на прием и представил чешским властям как ведущего сотрудника Чикагского университета, после чего у меня никогда больше не было проблем с ними. Официальные лица при встрече выражали почтение и даже были подобострастны, тем более, что британский консул по просьбе американского коллеги также приглашал меня на приемы.
Сразу же в начале 1923 года я занялся тщательным анализом фотографий египетских папирусов, первую партию которых мне привез от Рудольфа еще в прошлом году Джереми Дэвис. На американские деньги я заказывал фотокопии папирусов и петроглифов в Каирском музее, музеях Лейпцига, Берлина, Парижа, Лондона и даже Москвы. Очень скоро стало понятно, что священное иероглифическое письмо слишком «канонично», демотическое же письмо больше дает сведений о характере самого пишущего, чем о месте и времени написания. Наиболее информативным оказывается иератическое письмо, которое использовали египетские писцы Нового Царства.
Первое обзорное исследование мы с Рудольфом опубликовали в США в 1925 году, научная общественность восприняла наши выводы скептически и даже иногда «в штыки». Но однажды мне прислали почти одновременно из Каира, Токио и Нидерландов фотоснимки нескольких папирусов с просьбой установить время и место их написания. Это была в двух случаях из трех своего рода проверка, с которой мы справились блестяще. В 1928 году к нам пришла известность, добрый десяток публикаций в различных научных журналах и несколько практических работ по установлению датировок и мест происхождения различных документов обеспечили нам признание.
Удивление наших коллег вызывало то, что если Рудольф и Джереми были сотрудниками ведущих учреждений в Соединенных Штатах, то я проживал в маленьком курортном городке в Чехословакии. Скоро за мной закрепилось в научных кругах забавное прозвище – «богемский отшельник».
В 1932 году я уже был доктором философии, экстраординарным профессором Карлова университета в Праге, почетным профессором университетов Берлина, Лейпцига и Чикаго и доктором gonoris causa университетов Джорджтауна, Упсалы и Каира. Французы прислали мне орден «Академических пальм», тут же в ответ взыграла немецкая гордость у моих берлинских коллег, и я по неизвестно чьему ходатайству стал кавалером прусского ордена за заслуги в области науки и искусства. Грета приучила меня ценить ордена и награды, и я, будучи истинным немцем, не одобрял французские насмешки или британскую иронию в отношении наград.
* * *
Неожиданным громом среди ясного неба стал для меня приход к власти нацистов в Германии. Мы привыкли к тому, что национал-социалисты и коммунисты с двух сторон атакуют Веймарскую республику, но либералы и социал-демократы вместе с разумными консервативными кругами, к которым я себя причислял, удерживают власть, и полагали, что эта агрессивная и опасная пена отстоится, осядет, а затем исчезнет со временем сама. Не получилось, и консервативные круги сами привели нацистов к власти. С тревогой слушал я новости из Германии о сожжении книг на площади Оперы, в котором участвовали и которое даже инициировали студенческие союзы, в том числе Берлинского университета, об уходе многих коллег из университета, не только евреев, но и немцев. Удивляла почти безразличная реакция на все это большинства немецких интеллектуалов, похоже, они надеялись, что это лишь первые эксцессы молодой и неопытной новой власти, но скоро все образуется и придет в порядок. Но это были вовсе не первые эксцессы, а, как говорят русские, «первые ласточки» или же первые раскаты грома – предвестники долгой непогоды.
В эти годы я стал иногда по воскресеньям или в будни по утрам садиться на свой любимый поезд и ехать чудной дорогой в Мариенбад, ставший теперь Марианскими Лазнями, в маленькую лютеранскую кирху. Когда бывала сильная непогода, то ходил в самом Карлсбаде в русскую православную церковь Петра и Павла. Мой папа, немец и протестант из протестантов, был бы расстроен, если бы я пошел в Марианский костел или даже к чешским протестантам: в одном случае это была бы измена духу реформации, в другом – немецкому духу, да и странно бы выглядел немец среди гуситов-чехов. Православные, русские и чехи, меня из церкви не выгоняли, я понимал службу и по русскому обычаю ставил свечи за здоровье или за упокой души своих живых и ушедших родных и близких.
Возвращение к вере у меня шло на уровне эмоций, воспоминаний, от видов природы, звездного неба, тихих текучих вод. Часто в лесах Карлсбада мне казалось, что рядом со мной мой брат Вилли или что вдруг из-за поворота появится мама, поддерживающая под руку прихрамывающего отца, который весело машет мне своей можжевеловой палкой. В такой день я вместо кофе в ресторанчике на горе Диана иногда заказывал себе кружку пива в память о Вилли. Будто бы он сидит со мной и рассказывает, как они устроили соревнование на приз, кто залезет на намыленный столб и добудет венок, который туда, правда только с пятой попытки, забросила королева праздника. Или что-то в этом же роде. Когда же тоска охватывала меня, я шел в церковь.
Грету я видел иногда во сне. Мы, как в мирное время до войны, то были с ней в театре, то на выставке, гуляли в парке, болтали дома за столом, купались в Ницце, дышали свежим воздухом на горе Аберг в Карлсбаде или осматривали собор в Вестминстере. Но ни разу я не позволил себе, чтобы моя тоска прорвалась в письмах к ней, я не имел права ее ранить, она нужна была другим. Иногда дома, когда было особенно грустно, я читал Библию, и мне становилось легче – уходила внезапно навалившаяся грусть, легкие наполнялись воздухом, и жизнь обретала, казалось бы, утраченный смысл.
Мое материальное положение в 1930 году весьма осложнилось, когда из-за мирового кризиса некий фонд при университете города Чикаго закрыл финансирование нашего проекта. Так получилось, что некоторые коллеги, имен которых не называю, предложили мне стать членом неформального экспертного сообщества специалистов по египетским древностям: коллекционеры платили хорошие деньги за установление подлинности, места и времени написания египетских папирусов, которые высоко ценились на аукционах и для многих были хорошим объектом вложения средств.
Но, зная отношение чехословацких властей к немцам, тем более к германским подданным, я никогда не проводил экспертизу на территории Чехословакии, а выезжал для этого в города Италии, Швейцарии, Австрии или на курорт в Ниццу, когда там бывала Грета, совмещая наши встречи с ней со своими делами. Но, тем не менее, контрразведка в Праге заинтересовалась моими поездками и встречами: в это время резко обострилась ситуация с движением за воссоединение с Германией судетских немцев, многих из нас подозревали в сотрудничестве с германской разведкой.
* * *
Однажды весной 1935 года меня письменно пригласили зайти в отделение местной полиции, что находится рядом с магистратом, под каким-то незначительным формальным предлогом. Там меня ждал представительный господин лет сорока пяти, по виду отставной военный, который представился как Вацлав. Начался странный разговор, суть которого сводилась к тому, что «немец должен жить в Германии», а также, что «если немец из Германии живет в Чехословакии, то он должен сотрудничать с властями этой страны и предоставлять им сведения о своей работе и своих партнерах». Вывод был такой: или я подписываю бумаги о сотрудничестве, или встает вопрос о моем выдворении из страны, при этом моя коллекция фотоматериалов остается в Чехословакии, как «национальное достояние республики». Это было грубо и нелепо, я отказался обсуждать данную тему, и мы расстались с ним, закончив разговор на слегка повышенных тонах.
Немедленно я написал в Чикаго – Джереми, Рудольфу и Грете, а также в Германию – египтологам Герману Юнкеру и Зигфриду Шотту, чтобы они довели эту информацию до руководства университетов Берлина и Лейпцига. Письма переслал с оказией через Швейцарию и стал ждать результатов.
Пришли два ответа – утешительный от Джереми, что кто-то важный, конгрессмен или сенатор, позвонит в американское посольство в Чехословакии, и короткий деловой ответ из Берлина, что мое обращение принято к рассмотрению в Рейхсканцелярии. Последовали также два приглашения – в посольство США 12 мая «на чашку чая» ко Дню матери, где будет супруга посла, и в посольство Германии на прием по случаю Первого мая. В воскресенье 28 апреля Вацлав меня встретил на прогулке у колоннады, пробовал сначала вежливо убеждать, потом перешел к угрозам, что заставило меня в резкой форме прекратить наше общение. Честно говоря, я был взбешен, хоть и не показал вида.
Германское посольство в Праге было украшено полотнами с новой национальной символикой, которая эстетически была малопривлекательна и несла национально-расовую смысловую нагрузку, что меня отталкивало. В посольстве чувствовался «прусский дух» – мундиры, ордена, даже монокли. Много было черных и светло-коричневых мундиров, встречались серые и голубые. Дамы были нарядны, величественны и вели себя чинно, как дочери и жены бюргеров на балу, устроенном пивоварами в ратуше немецкого городка.
Я был во фраке, но у меня тогда еще не было к нему фрачных орденских знаков, в лицо меня никто не знал, и я потерялся среди гостей. Вдруг кто-то меня окликнул: «Карл, это ты, дружище, ты живой?» Передо мной стоял дипломат, в котором я узнал Отто Бреннера, студента-юриста, с которым мы вместе записались добровольцами, немного сдружились по дороге к Ипру и рядом шли в атаку под Лангемарком. Мы обнялись как старые приятели прямо посреди зала под удивленными взглядами публики. Дальше Отто, взяв меня за руку, повел знакомиться с послом, любезным кадровым дипломатом аристократического вида, с его супругой, его дочерью, советниками посольства, партийными деятелями, генералами, офицерами, их семьями и журналистами. Кончилось все это на банкете, где посол поднял бокал «за героев Лангемарка». На следующий день в центральных газетах Берлина появилась фотография, где мы с Отто стоим в окружении официальных лиц, и хвалебные статьи обо мне и моей работе. Особенно подчеркивалось, что я судетский немец и гражданин Германии.
В тот день я попросил Отто организовать встречу с официальными лицами по вопросу моего пребывания в Богемии и судьбы моей коллекции. Встреча с двумя важными персонами, один из которых, родственник министра фон Нейрата, был в черном дипломатическом мундире, другой – в коричневом партийном. Они внимательно выслушали мой рассказ и разразились гневными тирадами в адрес чехословацких властей. Повинуясь внезапному импульсу, я попросил листок бумаги и написал заявление, что передаю всю свою личную (я это слово подчеркнул) коллекцию фотоматериалов университету города Берлина. Дипломат как-то замялся, но партийный деятель пришел в восторг, взял заявление и сообщил, что даст ему законный ход. Оба обещали мне поддержку в случае продолжения конфликта с властями Чехословакии.