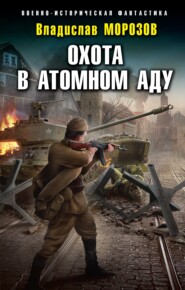скачать книгу бесплатно
– Бункер? Не жирновато ли будет? – спросил я, одновременно подумав, что у них там всё почти как у нас – не ходите детки в соцсети гулять, а то те, кто не надо, про вас слишком много будут знать. Почти стихи, блин.
– Почему? – слегка удивилась Кэтрин. – В Западной Германии в частных руках довольно много подобных сооружений, или оставшихся после 1945 года, или построенных в последнее десятилетие какими-нибудь параноиками. Плюс к этому есть ещё Австрия и Швейцария, где противоатомные убежища тоже весьма «модная» тема, так же как в США или Канаде. А во-вторых, командир, у нас есть чёткий приказ – до момента, пока разыскиваемые нами экстремисты не начали осуществлять комплекс своих непоправимо дестабилизирующих эту реальность мероприятий, всяческое воздействие и возможный ущерб должны быть минимальными. То есть пока они не начали всерьёз, нам надо попытаться ликвидировать всех пятерых максимально чисто, так, чтобы не пострадал никто из местного населения. Надеюсь, вас инструктировали на тему того, что при сохранении базовой реальности гибель даже одного, населяющего её, индивида весьма нежелательна. Однако скажу вам сразу – уверенности в том, что мы сумеем убрать их всех до того, как они начнут, лично у меня нет никакой. Хотя бы потому, что, похоже, они с самого начала всё-таки смогли привлечь к своим тёмным делишкам кого-то из людей, населяющих данный временной отрезок. То есть работы у нас прибавится…
– Это каких людей? – уточнил я на всякий случай.
– Ну, не мне вам объяснять, командир, что в Западной Европе в 1960-е годы было, пожалуй, слишком много разного рода, как их тогда называли, левых и ультралевых экстремистов, причём с крайне радикальными, близкими к анархизму взглядами. Сильнее всего это, конечно, расцвело в конце 1960-х, но и в начале данного десятилетия более чем хватало экзальтированной молодёжи, полагавшей, что западный, англосаксонский империализм давным-давно изжил себя и его стоит полностью уничтожить, чтобы не мешал. Разумеется, в первую очередь подобные местные радикалы выступают за «обычную» революцию в стиле того, что произошло в России в 1917-м или на Кубе в 1959-м, но среди них найдутся и те, кто искренне считает, что раз генеральный секретарь Хрущёв и председатель Мао почему-то неприлично долго раздумывают и медлят с уничтожением ненавистного «мира эксплуатации и несправедливости», их стоит к этому немножко подтолкнуть – почему бы и нет? Похоже, подобные мысли всё-таки нашли горячий отклик у некоторого количества экзальтированной местной молодёжи, и наши доморощенные «поджигатели войны» достаточно быстро навербовали себе неофитов…
Я хотел спросить что-то ещё, но, подумав с минуту, понял, что рассуждает эта «девочка-виденье» весьма логично, этого у неё, пожалуй, не отнимешь. Действительно, всех катастрофических последствий ядерной войны тогда решительно никто особо не представлял (результаты полигонных испытаний сплошь и рядом секретили, а для каких-то выводов о воздействии радиации на организм человека или биосферу просто не было достаточного материала – с Хиросимы и Нагасаки прошло слишком мало времени), а снести до основания «плутократов и угнетателей» действительно хотелось очень многим, прямо-таки руки чесались. Особенно если вспомнить, что чуть позже многим европейским левым были ну очень по душе призывы небритого Эрнесто Че Гевары «устроить тысячу Вьетнамов» или людоедские эксперименты камбоджийских «красных кхмеров» товарища Пол Пота (который, кстати говоря, тоже учился где-то в Сорбонне, только звали его тогда, кажется, Салот Сар).
И, по идее, эти пятеро ушлёпков могли привлекать народец, не только давя на привлекательно-разрушительную идеологию, но и банально выплачивая вознаграждение за оказываемые «мелкие услуги», в конце концов, дедушка Ленин и ему подобные тоже, было дело, башляли (хотя и не из своего кармана) много кому и, что характерно, никто не отказывался. С этим у них тут тоже вряд ли возникли проблемы. Конечно, несколько чемоданов ассигнаций либо золото в слитках или каких-нибудь соверенах – империалах для «партийной кассы» они с собой притащить не смогли, но ведь механизм богатения для таких вот случаев хорошо известен и примитивно прост (раз даже Марти Макфлай во второй серии «Назад в будущее» до этого вполне себе додумался, только ему вредный Док Браун не дал этим воспользоваться). Они же прямиком из будущего, и до момента, когда начнут действовать всерьёз (в результате чего дальнейшая реальность начнёт непоправимо меняться), знают наперёд практически всё (если, конечно, нужные данные сохранились через века, хотя бы в частичном объёме). А значит, они могут идти прямиком в ближайшую букмекерскую контору и ставить на что угодно – скачки, гонки, результаты боксёрских поединков и футбольных матчей, развод или брак какой-нибудь скандальной кинозвезды, пол родившегося у королевской четы наследника. Или, скажем, на бирже поиграть – да мало ли что ещё? Так что у этого «батьки» с «золотым запасом», судя по всему, никаких проблем…
– Хорошо, будем считать – убедила, – сказал я напарнице. – И где именно эти трое сейчас находятся?
– Не особо далеко отсюда. Вот тут, километрах в сорока западнее нас, в районе города Лор-ам-Майне. В загородном пансионате «Unter den Eiche», то есть, если перевести на ваш родной язык – «Под дубом»…
Докладывая это, она изящно нагнулась, достала из чемодана что-то вроде атласа для автолюбителей и, раскрыв его на нужной странице, продемонстрировала названное место. В принципе, в этом не было особой нужды, поскольку здешнюю географию я ещё не забыл. Это фонвизинскому Митрофанушке география была на фиг не нужна (поскольку на это в России извозчики есть), а таким, как я, без неё никуда…
– По-моему, этот Лор-ам-Мейне – обыкновенный провинциальный городишко, – сказал я, посмотрев на карту. – Не очень-то понятно, как они собираются начать оттуда Третью мировую войну. Уж больно место для этого выбрали странное…
– То, что они там остановились, вовсе не означает, что начнут они именно в этом месте…
– То есть?
– Смотрите, что получается, командир. Я некоторое время наблюдала за нашей троицей, и за три дня они выезжали лишь в два места.
– Куда именно?
– Два раза они крутились вокруг аэропорта Мангейм. Это ближайший к нам западногерманский гражданский аэропорт, более ста километров на запад от нас. Интерес для них там могут представлять прежде всего двенадцать американских истребителей-бомбардировщиков F-100D «Супер Сейбр» из 479-го тактического авиационного крыла ВВС США. Их перебросили в Мангейм с испанской авиабазы Морон пять дней назад, с промежуточной посадкой в Биттбурге…
– Ого, откуда такие подробности?
– Командир, вы меня, право слово, удивляете. Об этом писали местные газеты, причём исключительно в превосходной степени – как об одном из ярких свидетельств того, что американские союзники будут защищать Западную Германию от коммунистов до последней капли крови. Так вот, по крайней мере, часть этих «Супер Сейбров» вооружена тактическими ядерными авиабомбами Мк.7 мощностью в 22 килотонны каждая. Хотя про последнее публично, разумеется, не сообщали. Насколько я знаю, в постоянной готовности к вылету в Мангейме находится как минимум одно дежурное звено. Однако, на мой взгляд, этот вариант слишком сложен.
– Почему? – спросил я, прикинув, что 22 килотонны это, как-никак, Хиросима. То есть всё серьёзно. Тем более если эти атомные авиабомбы полностью снаряжены, сбросить их несложно. Это некоторые, полагающие себя слишком умными, идиоты думают, что тактические ядерные бомбы тех времён имели такую же сложную и многоступенчатую «защиту от дурака», как ядерные боеголовки на баллистических ракетах или мегатонные водородные бомбы, которые тогда использовала стратегическая авиация. Но на самом деле, дорогие ребята, там всегда стояли простейшие механические взрыватели, и если бомба полностью снаряжена и чека снята, – можно бросать. Ну а про то, что пресловутая западная «защита от несанкционированного пуска», мягко говоря, сильно преувеличена, можно лишний раз и не повторять. Достаточно вспомнить их пресловутый «код от ядерной войны 00000000» – просто все остальные клавиши, кроме нуля, на пульте заранее блокировались, чтобы тупые солдатики сдуру не нажали что-нибудь не то. А нажать восемь раз подряд на «0» вряд ли придёт в башку даже самому законченному идиоту…
– Те, кого мы должны ликвидировать, не профессионалы, а слишком много знающие любители, – пояснила моя напарница. – Иначе они сразу же объявились бы возле какой-нибудь крупной военной авиабазы НАТО, которых в здешней ФРГ полно. Но в таких местах они как раз не засветились, поскольку эти объекты слишком хорошо охраняют. При этом, что ни говорите, выбранный в качестве «пункта временного развёртывания» тактической ударной авиации гражданский аэропорт для подобной акции куда удобнее – место слишком людное, много посторонних. Но, хотя охрана там и хуже, чем на военных авиабазах, она всё равно немаленькая. Я точно установила, что, кроме пилотов и техсостава 479-го тактического авиационного крыла ВВС США, в аэропорту и вокруг него постоянно находится не менее роты военной полиции армии США, а также немецкие полицейские и военнослужащие. Все вооружены автоматическим оружием плюс джипы с пулемётами, бронемашины, временные огневые точки на въезде. Так что даже при штурме силами группы из нескольких десятков вооружённых боевиков добраться до стоящих на дальних стоянках, в стороне от здания аэропорта, самолётов дежурного звена, крайне сложно, а запустить двигатели и взлететь – ещё сложнее. Так что на их месте я бы этот вариант не выбрала. Тем более что один или даже два-три истребителя-бомбардировщика можно относительно легко сбить здешними средствами ПВО. И при несанкционированном вылете, над территорией ФРГ, и на востоке, при пересечении границы «Восточного блока».
– Хорошо, тогда каков второй вариант?
Вечно молодая Кэтрин снова раскрыла атлас, и её наманикюренный пальчик указал на некую новую географическую точку.
– Вот тут, всего километрах в двадцати пяти от нас, в районе Гальсбах-Флёхсбах, в Шпессартских горах находится весьма живописная долина, земля в которой с середины 1950-х годов арендована под свои нужды армией США. Примерно лет на пятьдесят. И до недавнего времени там не было никакой активности, кроме столбов с запретительными табличками. Долина даже толком не охранялась. Но в последние несколько суток там отмечена повышенная активность.
– Какого рода? – уточнил я, неожиданно вспомнив, что Шпессартские горы это, похоже, примерно там, где происходило действие старой комедии «Привидения в замке Шпессарт» 1960 года. Ну да, было такое кино, и для тех времён очень даже неплохое. А затем я, с некоторым обалдением, подумал о том, что сейчас где-то поблизости вполне могут разгуливать главная героиня этой самой комедии Лизелотта Пульвер и даже засветившаяся в пока ещё не снятой второй части этого кино («Прекрасные времена в Шпессарте» 1967 года, и, если нам не удастся сделать своё дело до того, как всё полетит в тартарары, в этой реальности продолжение вообще не состоится – просто некому будет снимать и не для кого) Ханнелора Эльснер (впоследствии известная у нас как «комиссарша Леа Зоммер» из одноимённого немецкого сериала), причём юные, свежие и не подозревающие ни о чём плохом. Вот же занесло, бляха-муха…
– Сейчас там выставлена охрана, а кое-где и проволочные заграждения, – пояснила Кэтрин. – Я лично наблюдала скопление военных автомашин армии США, а также большого количества тяжёлых трейлеров и цистерн без маркировки. Я была там, и, судя по тому, что я там увидела, в долине сейчас лихорадочно ведутся монтажные работы…
– То есть?
– Там явно оборудуют пусковые позиции. Работы ведёт 46-я артиллерийская группа армии США. А раз так, эти позиции предназначены, скорее всего, для ракет PGM-11 «Редстоун».
У меня в голове началась некоторая мыслительная работа, и спустя одну-две минуты я вспомнил, что PGM-11«Редстоун» – это первая американская ракета, изначально спроектированная под ядерную БЧ мощностью от 500 килотонн до 4 мегатонн (в максимальном варианте боеголовки, обозначенном как W-39). На вооружении с 1958 по 1964 год. Большая дура – длина ракеты 21 метр, диаметр около полутора метров, масса – 27,8 тонны, топливо – этанол и жидкий кислород. Запускалась, как правило, с открытых площадок. Дальность, в различных вариантах, – 323–373 километра. Да, это, пожалуй, куда серьёзнее. Сбросивший одиночную атомную бомбу «Супер Сейбр» может и не вызвать войну. Спишут на несчастный случай и замнут. А вот если на какой-нибудь восточногерманский город свалится мегатонная боеголовка, военные из Варшавского договора действительно могут, особо не вникая в детали и не задумываясь (ведь у них на такой случай наверняка чёткие инструкции), сразу же запустить адекватную «ответку». А дальше пойдёт уже цепная реакция. Тем более что «горячей линии» между Москвой и Вашингтоном тогда ещё не было. Помнится, Хрущёв и Кеннеди до того, как у них дошло до телефонных звонков, обменивались посланиями через каких-то третьих лиц. А при реальной войне времени на переговоры и прочие политесы уже не будет, поскольку обе стороны будут пытаться упредить противника. Да, похоже, нашим уродам действительно лучше рассчитывать на этот, второй вариант…
– Так, – сказал я напарнице. – А ведь насколько я помню, штабы и места постоянной дислокации 40-й и 46-й артиллерийских групп армии США находятся куда западнее, в частности в Бад-Крейцнахе?
– Да, всё верно. Но не надо забывать, что ракеты типа PGM-11«Редстоун» в это время считались мобильными. Каждая ракета разбирается на три части и для перевозки одной батареи требовалось 20 автомобильных трейлеров, что считалось нормальным. Сборка и развёртывание батареи на месте занимает от восьми часов, на заправку одной ракеты уходит 15 минут. Для 1962 года не такой уж и плохой показатель. А огневая позиция в районе Гальсбах-Флёхсбах однозначно позволит американским «Редстоунам» с их скромной дальностью достать до Восточного Берлина и Дрездена. Более удалённые на запад пусковые позиции позволяют им накрыть только цели в приграничных районах соседней ГДР…
Слушая её, я попытался вспомнить, развертывали ли именно здесь американцы такие ракеты в «нашем» 1962-м, но увы, тщетно. Точной информации об этом особо не публиковалось. Когда у нас пишут о Карибском кризисе, принято вспоминать только про злобных Хрущёва с Кастро и советские ракеты на Кубе, а наш потенциальный противник тогда, получается, как обычно, был «белым и пушистым»…
– То есть ты склоняешься к тому, что наши визави выберут вариант номер два?
– Да. Они ездили в эту долину уже шесть раз. Причём на разных машинах с местными номерами. И каждый раз их сопровождали юноши и девушки из числа местных. И некоторые из сопровождающих, как я успела заметить, были вооружены пистолетами и револьверами и были настроены весьма решительно. Так что, да, с вероятностью семьдесят – семьдесят пять процентов они выберут именно эти ракеты. Командование развёрнутой в долине батареи находится далеко от неё, линии связи довольно уязвимы, их можно перерезать или забить помехами, либо передать пусковым расчётам какие-то ложные сообщения. Развёрнутая в большой спешке охрана, осуществляемая патрулями и секретами, не имеет даже служебных собак и для лесистой местности явно недостаточна, особенно в тёмное время суток. При этом вероятность поражения цели при запуске такой ракеты заметно выше, чем, скажем, у самолёта. Мощность заряда больше, чем у тактических ядерных авиабомб. Сбить «Редстоун» после старта имеющимися тут средствами ПВО практически нереально. Правда, у «Редстоунов», как и у прочих ракет первого поколения, включая советские, один огромный минус – в момент установки, заправки и нахождения на стартовом столе такие ракеты, с их взрывоопасным и токсичным топливом, и вся сопутствующая техника чрезвычайно уязвимы, даже от огня стрелкового оружия. Это обстоятельство может оказаться нам на руку. А учитывая, что в подвозе в долину военных материалов участвует не только транспорт армии США, которая, как обычно, оказалась не готова к возможным боевым действиям, но и поспешно арендованные у местных властей гражданские грузовики и цистерны, а рядом с долиной сейчас постоянно митингуют несколько групп антивоенных протестующих, проникновение туда не представляется такой уж безнадёжной задачей для нашей троицы. Особенно если для этого они сумеют вооружить несколько десятков своих сторонников. Правда, я пока не очень представляю, как именно они собираются запустить ракеты – подадут расчётам фальшивый сигнал о запуске или попытаются сделать это самостоятельно? Но подозреваю, что предварительно ими было изучено всё, что возможно, как о самих ракетах «Редстоун», так и о здешней системе контроля за ракетными пусками. Возможно, они даже знают какие-то необходимые для запуска коды и пароли, ведь уже спустя лет пятьдесят по крайней мере часть подобной информации перестала быть секретной…
– Семьдесят пять процентов – это всё-таки не сто, – сказал я на это.
– Резонно, командир. Но поиск какого-нибудь третьего варианта приведёт их лишь к потере времени, а обострение ситуации вокруг советских ракет на Кубе длилось недолго. Но на этот случай я всё же подстраховалась. На восточной окраине Лор-ам-Майна развилка дорог и дорожный указатель. Я закрепила там следящее устройство, которое настроено на сигнал микромаяков. Сейчас прибор показывает нахождение всех троих в пансионате «Unter den Eiche». В момент, когда они куда-то выдвинутся, аппаратура выдаст нам точное направление, куда поедет их машина.
– То есть это устройство нормально берёт сигнал маяков на расстоянии и даже через металл? И ты контролируешь его за сорок километров? Какой-нибудь очередной Реттунг в режиме «ферланг» или «унзихт»?
В момент, когда я это произносил, мелькнула шальная мысль – а что я вообще буду делать, если мою вечно юную напарницу всё-таки ухайдакают? Понимаю, что, судя по тому, что я о ней знаю, сделать это ой как непросто, но если, скажем, смогут залепить в неё прямой наводкой из РПГ, базуки или безоткатного орудия, с последующим отрыванием головы или перерубанием туловища напополам? Чего мне ловить в этом случае, где и как мне искать этих уродов без её хитрых «встроенных качеств» и притащенной с собой аппаратуры? Останется только застрелиться самому и, таким образом, свалить отсюда, не выполнив задания. А это, как говорил Остап Бендер, «низкий сорт, нечистая работа». Так что эту двухсотлетнюю девочку, по идее, стоит поберечь – уж больно много от неё зависит…
– Да, вроде того, а что тут такого? – ответила она, не уточняя только что произнесённых мной названий. Типа она полностью в курсе, что я знаком с подобными вещами.
– Да ничего. Кстати, а почему бы нам не попробовать самое простое – взять штурмом этот пансионат? Прямо сейчас!
– Вдвоём? И как вы это себе представляете, командир?
– Почему же вдвоём? Если вспомнить прошлый раз и историю нашего знакомства, у вашей конторы вроде бы должна быть какая-то агентура и припрятанные до урочного часа деньги, оружие, транспорт и прочее. По-моему, пресловутый «урочный час» таки настал!
– Ну, раз вы столь удачно вспомнили про прошлый раз, то вам следует помнить и о том, что всё это, конечно, есть. Но вы же должны понимать, что наша агентура – это всего лишь, как правило, нанятые за очень большие деньги одиночки, которые не представляют, на кого они реально работают (в данном случае большинство из них, видимо, думают, что работают на советскую, восточногерманскую или китайскую разведки, а кому-то могли при вербовке задурить голову и куда сильнее, вплоть до шпионажа в пользу, скажем, инопланетян, это здесь, в 1960-х, тоже вполне себе актуально). Всё, что они могут, – предоставить тому, кто постучит в их дверь и назовёт некий пароль, финансовые средства, транспорт, кров, провиант, ну а при необходимости документы и элементарное оружие. Но сами они не возьмут в руки автоматы ни за какую «дополнительную плату», а все эти «внутренние резервы и ресурсы» не дадут нам возможности ни мгновенно собрать ударную группу для штурма пусковой позиции, ни обеспечить себя каким-то тяжёлым вооружением. Потому что у этих анонимных агентов нет в запасах пулемётов или пластиковой взрывчатки, как нет и доступа к здешним армейским арсеналам. К тому же у нас с вами просто нет времени ни на что. А значит, мы действительно можем всерьёз рассчитывать только на самих себя. И потом, вы меня извините, командир, но и вы сами – далеко не лучший кандидат для заданий типа тех, что вам поручают…
– Эва как?!! Вот те нате, хрен в томате! Это почему? А ну-ка, расшифруй!
– Вы только не обижайтесь, командир, но вы ведь даже не профессиональный военный из каких-нибудь специальных войск. Физические данные у вас довольно средние, силовой борьбе вы, как я поняла, не обучены совсем, стрелять умеете, но отнюдь не снайперски, актёрское мастерство и перевоплощение – на «удовлетворительно», особым знанием языков и обычаев вы тоже не блещете. Так что, по моему субъективному мнению, ваши единственные достоинства – это крайне редкий и практически не изученный феномен, позволяющий осуществлять ваши хронопереброски без использования большинства необходимых для этого технических средств, а также пытливый ум, богатая фантазия и неплохие знания по отдельным периодам планетарной истории, благодаря которым с вами столь быстро и нашли общий язык кое-кто из нашего руководства…
– Не «нашего», а «вашего»! Я в штате этой вашей «хроноуголовки», слава богу, не состою! И вообще, это что, типа такой комплимент из ваших уст? – уточнил я совершенно в стиле Балбеса, Труса и Бывалого, понимая, что в принципе ничего нового она мне не рассказала, лишь в очередной раз подтвердив, что я для них весьма «ценный кадр». Ну да кто бы сомневался…
– Можете считать и так. Только если мы, вдвоём, сунемся в пансионат – нам придётся вступать в огневой контакт с несколькими десятками вооружённых людей…
– Стоп, а ты тогда на что, Рэмбо-гёрл?
– Я могу многое, но всё-таки не всесильна. Допустим, интересующая нас троица маркирована, и её легко выделить среди остальных. А вот как мы сможем отличить их вооружённых сообщников среди почти трёх сотен посетителей и нескольких десятков человек персонала пансионата – даже не знаю. Вокруг будет слишком много случайных мишеней…
– То есть – ты хочешь сказать…
– Что вероятность успеха – менее двадцати пяти процентов. Тем более они в общих чертах в курсе того, что за ними кого-то уже отправили и что тем, кого послали им наперехват, нельзя наносить базовой реальности слишком большой ущерб. Так что с высокой долей вероятности они прикроются местными и смогут достаточно легко уйти. А вот мы, поскольку без стрельбы обойтись явно не удастся, неизбежно засветимся и сильно ухудшим своё и без того шаткое положение здесь. Власти поднимут тревогу, нас начнут педантично искать полиция и все местные силовые структуры. А они здесь это умеют, и, с учётом военного положения, далеко мы не уйдём. То есть почти наверняка провалим нашу миссию. Я понимаю, командир, ваше желание выполнить задание как можно быстрее, но – увы. Конечно, можно было бы попробовать подобраться к ним вплотную, но для этого нужно время, а его у нас, как вы и сами знаете, нет. Ведь я нахожусь здесь всего неделю. И, по-моему, командир, разумнее всего попытаться разобраться с ними именно в тот момент, когда они сами проникнут на интересующую их ракетную позицию…
– Почему? – спросил я, размышляя над её крайними репликами. Час от часу не легче. Оказывается, «плохиши» ещё и в курсе насчёт того, что у нас до известного момента связаны руки. Тогда, может, они знают и ещё что-то важное, включая наши с напарницей портреты? Впрочем, вслух я это не высказал – зачем себе лишний раз нервы трепать? Ведь всё и без того плохо. Одновременно я, явно запоздало, представил, как должен выглядеть со стороны диалог на русском по явно военным вопросам, который ведут в эти непростые времена мужчина и женщина в номере захолустной баварской гостиницы. Очень хотелось надеяться, что продвинутая Кэтрин всё-таки контролирует ситуацию, нас никто не слышит, и местные полиция с котрразведкой к нам прямо сейчас не вломятся.
– Потому что стрельба и даже взрывы на американском военном объекте вызовут какие-то подозрения и ответную реакцию у местных властей далеко не сразу. Как я уже успела понять, армия США, как обычно, не очень-то доверяет военным и гражданским властям Западной Германии, и те отвечают ей взаимностью. Пока сами американцы не поднимут тревогу, немецкие чиновники будут думать о чём угодно, только не про нападение на стартовые столы с ракетами. Скорее – про аварию при заправке либо учебном пуске, или какие-нибудь учения. А отключение связи даст нам некоторую фору по времени. Да и запомнить наши личные приметы в подобной суматохе будет куда сложнее…
– Хорошо. Согласен с тобой. Тогда какие наши дальнейшие действия?
– Разумнее всего будет переместиться ближе к ним.
– Ну так поехали. Веди же Фрунзе нас, веди Будённый…
Вряд ли моя неизносимая напарница знала, что когда-то вообще существовали эти два рабоче-крестьянских военачальника. И прежде чем я успел сказать что-то ещё, она быстро, словно на медосмотре, разделась до белья (оставшись в трусиках, лифчике и короткой, шёлковой нижней рубашечке), а затем столь же стремительно «сменила масть». На сей раз Кэтрин переоделась в шерстяной костюмчик из юбки и жакетика табачного цвета, дополненный серой блузочкой, коричневыми лаковыми «лодочками» и сумочкой в тон туфлям. Модная же, однако, зараза… При этом переодевалась она, не особо обращая внимания на меня, будто я был не человек, а еврейский дубовый шкаф, от слова «мёбель», или меня вовсе не было в номере. Завершили процесс её перевоплощения лёгкое изменение причёски путём сбора и закалывания волос на затылке и обновление макияжа на лице. Потом снятая ей одежда и обувь, а также все шмотки из шкафа быстро перекочевали в чемодан. Не тот, в котором были предметы моего гардероба, а второй, побольше, которой она до этого не светила.
– Пока не сядем в машину – молчите, – сказала Кэтрин, протянув мне паспорт. Паспорт в красно-коричневой обложке с отпечатанной золотом эмблемой – щиток с прямым крестом по типу шведского или финского флага, вписанный в круг, образованный венком из лавровых листьев. Судя по надписям, на какой-то совершенно невообразимой, но смутно знакомой мове (под эмблемой были буквы «АIВАТРIО», а повыше – что-то вроде «BAZIAION THE ЕЛЛАДОЕ») на обложке, был греческий. И точно, открыв паспорт, я увидел там свою фотографию и с удивлением узнал, что отныне я (вопрос – надолго ли?) действительно греческий подданный, «emporos» (то есть, на сколько я понимаю в языке не очень древних эллинов, «торговец») из города Калабака (где это в Греции такое, интересно знать?), согласно штампу в паспорте въехавший на территорию ФРГ шесть дней назад. И звали меня теперь Адрастос Вазилайос Дайонизодрос. Попытавшись повторить это имя про себя и не сумев это сделать, я мысленно сказал в адрес работодателей матерное. Блин, почему именно грек? На кой хрен здесь эти сертаки, оливы и кипарисы? Да, допустим, там всё есть и это «колыбель мировой цивилизации» (один мой знакомый, сильно поддающий филолог, утверждает, что, когда маленьким детям говорят «не трогай, фу, кака!» имеется в виду вовсе не банальное говно, а нечто возвышенное, да ещё и пришедшее к нам непосредственно из глубины веков, поскольку, по-древнегречески, «какос» означает «плохой»), но я-то здесь при чём? Хотя, по идее, те, кто послал меня сюда, должны лучше знать, что в данном случае лучше, а что хуже. Тем более что в нашем «арсенале» этот паспорт ну явно не единственный…
Убрав этот явно липовый, но выглядевший вполне солидно, документ во внутренний карман пиджака (кстати, никаких денег мне выдано не было), я натянул плащ, помог напарнице надеть лёгкое, изящное пальтишко песочно-жёлтого цвета, взял в руки чемоданы, и мы двинулись вниз той же дорогой.
На выходе она быстро расплатилась с портье и отдала ему ключи от номера. В их разговоре прозвучало слово «handelspartner», т. е. «деловой партнёр». Типа вот, встретились, а теперь поехали на дальнейшие, сугубо конфиденциальные переговоры, надо полагать, в отель, где кровать в номере пошире… Ну-ну. Или в шестидесятые бизнес подобными методами не делали? Пока она рассчитывалась, я успел рассмотреть на обложке одного из лежавших на столике глянцевых журналов цветной портрет какого-то мужественного парняги в белом свитере с подписью: «Bruce Leslie McLaren 1962». Неужели тот самый, один из отцов-основателей «Формулы-1»? Очень похоже на то, ведь команда МакЛарен именно тогда начала занимать призовые места на этих гонках. Пока я об этом размышлял, последовал обмен дежурными «битте шён» и «данке шён», и мы с напарницей вышли на улицу с полным ощущением того, что сюда мы больше не вернёмся.
Загрузив чемоданы в непривычно расположенный спереди багажник «Фольксвагена», мы сели в машину и наконец тронулись с места.
– И куда мы теперь? – спросил я, пока Кэтрин петляла по улочкам городка в обратном направлении.
Оказывается, всё было продумано, поскольку она заранее арендовала, сроком на месяц, загородный домишко, километрах в семи от интересующего нас пансионата, рядом с деревней с характерным названием Вальдгейст. Если я все верно помню, в переводе с их перечно-колбасного на язык родных осин, «Waldgeist» означает «Горная тишина». Романтики, блин.
Ну, положим, когда мы добрались, оказалось, что горы и лес, а равно и какие-то строения находятся достаточно далеко от данного места нашей «временной дислокации», хотя вокруг довольно густо росли сосны и ели. В таком месте можно искренне думать, что ты в лесу, хотя это и не так – к дому вела уж слишком хорошая дорога.
А в остальном, когда Кэтрин припарковалась в этом «тупичке» (асфальт отсюда никуда дальше не вёл, чтобы продолжить путь, надо было вернуться на тянувшееся километрах в трёх шоссе), оказалось, что это обычный одноэтажный дом под черепичной крышей, выполненный в местном сельском, или, если хотите, бюргерском стиле. И, похоже, это, без вариантов, был «дом свиданий» (никаких сараев и надворных построек, а нужник, хоть и откровенно сельского типа, был всё-таки пристроен к дому с тыльной стороны) для каких-нибудь состоятельных похотливцев, которые желали подобным образом отдохнуть в полном уединении от городского шума. Действительно, а чем ещё заниматься в таком месте, кроме, культурно выражаясь, «интимной близости»? Телефона в доме не было. Допустим, поскольку строение стояло на пригорке, зимой здесь можно кататься на лыжах, но сейчас – увы.
Хозяев и людей вообще в доме тоже не было. Судя по тому, что дверь напарница отперла извлечённым из сумочки ключом, никакой, даже минимальной, прислуги здешний ненавязчивый сервис действительно не предусматривал. Внутри всё оказалось вполне себе уютно. Не слишком богато, но чистенько. Собственно комнат было три. Спальня, против ожидания, с двумя койками (постельное бельё свежайшее), гостиная (она же столовая) плюс небольшая кухня. Всё аккуратно, на германский манер. На стенах акварельные пейзажики в рамочках, на полках в столовой и на кухне – тарелки из явно не самого дешёвого фарфора, с рисуночками и какими-то надписями. Я подобную посуду помню по сервизам, которые в позднесоветские годы везли в Союз из канувшей в Лету ГДР. Хотя эти тарелочки смотрелись куда более солидно. Несколько выламывалось из общей картины только электричество – плитка на кухне и освещение. Хотя для сугубых романтиков стеариновые свечки в заделанных явно под старину канделябрах в доме тоже имелись. А вот ванны или душа не было – только кран на кухне.
– Здесь вполне надёжно? – спросил я, цепляя свой плащ на вешалку в узкой прихожей. – Не засыплемся?
– Тут многие сдают такие загородные дома, – сказала моя напарница, освобождаясь от пальто. – В основном этот бизнес процветает зимой, но и в другое время года приезжие не вызывают у местных особых подозрений. Три дня назад я сняла этот дом, заплатив за месяц вперёд. Так что раньше нас вряд ли побеспокоят…
– Ага. Если только ядерная война, с нашей помощью, не начнётся до этого. Ладно, а что сейчас показывают ваши приборы насчёт нашей троицы? Что эти звиздюки вообще делают?
– По тем данным, что у меня сейчас есть, если и перемещаются пешком, то исключительно в пределах пансионата. Максимум – из номера в номер или из номеров в места общего пользования. Из здания точно не выходят…
То есть дальше туалета они не выходили и, таким образом, имела место быть некая тактическая пауза, а значит, перспектива хвататься за оружие и сломя голову бежать куда-то прямо сейчас нам не светила.
– Пожевать бы чего-нибудь, а? – предложил я, облегчённо выдохнув и неожиданно поняв, что проголодался.
Напарница не стала спорить, и мы прошли на кухню.
Не скажу, что здешнее меню было сильно разнообразным, но в небольшом холодильнике (типа того, в котором Индиана Джонс столь чудесным образом спас свою жизнь на атомном полигоне, где-то то ли в Неваде, то ли в Нью-Мехико) нашлись ветчина, колбаса, сыр, масло. Плюс заранее расфасованные в бумажный пакет то ли тосты, то ли местные сухари и кофе, к которому в холодильнике нашлась пара больших бутылок слишком густого по понятиям нашего времени молока (или это были сливки?). В общем, поесть было что, хотя и без изысков. При этом сервировавшая стол Кэтрин (для этого она дополнила свой костюмчик кружевным фартуком и сразу стала похожа на типичных домохозяек с западных рекламных картинок 1950–1960-х гг., судя по которым эти мисс и фрау всегда кашеварили или стирали бельё исключительно при полном параде, макияже, на каблуках и со счастливыми улыбками на лицах) сама ничего есть не стала.
– И что ты думаешь по конкретной дате их акции? – спросил я, дожевав и допив кофе.
– А какие у вас у самого предположения? – ответила она вопросом на вопрос, убирая посуду.
– По-моему, наиболее оптимальной датой выглядит 27 октября. То есть меньше чем через двое суток.
– Почему?
– Историю плохо учила?
Сказав это, я невольно подумал – а она, вообще-то, где-нибудь училась? Ведь у неё же этот самый интеллект (который хоть и не искусственный, но в то же время и не человеческий) явно «встроенный». Нашёл чего спросить, дурак…
– С необходимыми исходными данными я ознакомилась. Но всех мелких, подробностей могу и не знать. Поэтому мне интересно, что скажете вы.
Вот интересно, что они там в своём пережившем четыре Мировых войны будущем считают за «необходимые исходные данные»? Какую-нибудь ссылку для тупых от рождения в стиле «Дуропедии»? Фиг с ним, тем более что нет времени разводить занудство…
– Ладно, тогда слушай. Если я всё правильно помню, на Кубе всё пошло вразнос начиная с 14 октября 1962 года. Началось всё с международного скандала и прочих шаманско-ритуальных действий обеих сторон по поводу полного рассекречивания прибытия советских войск и особенно ракет на Кубу. ВВС США постарались на славу, хотя, по-моему, эти самые ракеты никто особо и не стремился прятать. Похоже, Никита Сергеич и его генералы работали на публику с самого начала. Наверное, хотели удивить и победить, как когда-то завещал генералиссимус А. В. Суворов, это тот, который говорил, что «пуля дура, штык молодец» и «после бани укради, но выпей». Потому что, если бы изначально была начальственная установка тщательно замаскировать ракеты – непременно привезли бы с собой какие-нибудь щитосборные ангары барачного типа, и американцы точно задолбались бы доказывать, что это именно ракеты и ёмкости с топливом для них, а не банальная машинно-тракторная станция с комбайнами и прочей сельхозтехникой. Но то ли не было приказа тащить за три моря эти самые щитосборные сараи (хотя прихватить, причём исключительно для конспирации, в экваториальные широты тулупы, валенки и лыжи ума у советских военачальников тем не менее хватило), то ли так и было задумано, что супостат увидит эти стоящие под брезентом длинные дуры, почешет в затылке, возьмёт линейку, сопоставит данные аэрофотосъёмки с фотографиями последнего парада на Красной площади, осознает и обосрётся. Вот только янки что-то не особо обосрались, лишь возбудились не в меру. Потом было решение президента Джона Кеннеди о морской блокаде «Острова Свободы», после чего обе стороны, вибрируя от нетерпения, сидели на измене с пальцами на кнопках. А далее, именно 27 октября 1962 года, ракетой комплекса С-75, выпущенной советским расчётом, в кубинском небе будет сбит американский разведчик Локхид U-2. Что было дальше, помнишь?
– В самых общих чертах.
– В том, относительно благополучном будущем, откуда прибыли ты и я, далее тяжущиеся стороны вовремя поняли, что, культурно выражаясь, несколько заигрались и, по обоюдному согласию, всё-таки сдали назад, начав переговоры. Так или иначе, возобладал здравый смысл – все аплодируют и так далее. Это мы все помним. А вот если вслед за уничтожением U-2, или даже одновременно с ним, по каким-то объектам на территории, скажем, ГДР, где на каждом шагу советские штабы, аэродромы и гарнизоны, будет выпущено несколько американских ракет с мегатонными боеголовками, то рассматривать это иначе, чем начало полномасштабной войны, вряд ли будут. У дорогого Никиты Сергеича и остальных тогдашних советских руководителей с 22 июня 1941 года был неизлечимый комплекс насчёт того, что тот, кто прозевал первый удар, практически обречён на поражение. А значит, на первый, ограниченный удар врага надо отвечать немедленно и всеми имеющимися средствами – бить на опережение, не давая супостату опомниться. То есть я предполагаю, что в нашем случае при подобном, пиковом сценарии, Бобби Кеннеди ни за что не поедет в советское посольство встречаться с послом Добрыниным, а кагэбэшный резидент Александр Феклисов не побежит в бар, чтобы передать руководству СССР некое послание через журналиста из Эй-би-си Джона Скали. Есть у меня толстые подозрения, что Хрущёв и Кеннеди просто свалят от греха подальше в правительственные укрытия повышенной защищённости и уже оттуда начнут отдавать соответствующие, не терпящие возражений и двояких толкований приказы в стиле «немедленно уничтожить, об исполнении доложить»…
– Да, пожалуй, это выглядит вполне логично, командир, – согласилась Кэтрин, сняв оставшийся чистейшим фартук и присаживаясь напротив меня. Глаза у неё, как я уже до этого успел заметить, были какие-то излишне серьёзные, прямо-таки прицельно-рентгеновские. О том, какая работа происходила в её голове в этот самый момент, можно было только догадываться.
– Не то слово, – продолжил я. – Тем более что сейчас руки у сорокапятитысячного советского контингента, размещённого на Кубе, развязаны, и он вполне готов сделать то, зачем его, собственно, тайно привезли в трюмах грузовых судов и несколько месяцев мариновали в этих далёких и жарких краях, в рамках пресловутой операции «Анадырь». Надо помнить, что с 25 октября все три полка советских РВСН, дислоцированные на острове, находятся в полной боевой готовности. А генерал Плиев, у которого, как выяснилось позднее, при нашем, благополучном, варианте дальнейшего с самого начала был карт-бланш от Хрущёва и маршала Малиновского «действовать по обстановке» и использовать ядерное оружие на собственное усмотрение, в случае войны отдаст единственный, возможный в подобной обстановке приказ. Собственно, к 27 октября боеголовки уже были установлены на ракеты, а сами ракеты стояли на позициях, и заправить их было недолго. То есть 35 ракет, 24 Р-12 и 11 Р-14 с мегатонными боеголовками мгновенно уйдут на цели в Северной Америке. Плюс отдельная эскадрилья бомбардировщиков «Ил-28» с атомными бомбами, а также тактические ракеты «Луна» и крылатые ракеты с ядерными боевыми частями. В общем, если процесс таки пойдёт, его уже будет не остановить. А дальше всё как в плохом кино. Конечно, по стратегическим средствам СССР тогда сильно уступал Штатам, и количественно и качественно, у Советского Союза сейчас намного меньше ядерного оружия и носителей – не считая того, что размещено на Кубе, это где-то 75 межконтинентальных, баллистических ракет, которые можно запустить одновременно, включая четыре-пять Р-7, около 500 бомбардировщиков Ту-95, 90 3М и М4, около 1000 Ту-16 и 25 дизельных и атомных подводных лодок с ракетами на борту. У Североамериканских Штатов всё куда богаче – 144 ракеты «Атлас», 60 «Титан», 45 «Юпитер» плюс несколько десятков размещённых в Европе «Торов» и «Редстоунов», 800 бомбардировщиков В-52, около 2000 В-47, 150 В-58 «Хастлер», 8 атомных подводных лодок с ракетами «Поларис» и 11 авианосцев разных классов. А если приплюсовать тактическое ядерное оружие, окажется, что Союз Нерушимых Республик Свободных тогда был слабее противника раз этак в десять. Однако даже если одни только мои соотечественники используют малую часть своего не слишком богатого арсенала, этого всё равно хватит за глаза на то, чтобы мир, в его привычном виде, накрылся медным тазом. А в случае, если СССР по какой-то причине не применит ядерное оружие, а только одни США в рамках своих разных премудрых и глобальных планов перепашут советскую территорию водородными бомбами, цивилизации тоже так или иначе придёт кирдык, поскольку слишком уж много народу во всём мире помрёт или пострадает от тех самых «долгосрочных последствий», о которых здесь никто ещё не в курсе. Так что для этой игры вовсе не обязательны два участника. На «пуск» может нажать и кто-то один. Ты что, про всё это не в курсе?
– В общих чертах.
– Понятно. С вами всё ясно. И как ты вообще думаешь действовать?
– Как я уже сказала – есть смысл проникнуть на объект в тот самый момент, когда это сделают наши клиенты. Или сразу после них…
– И как именно ты собираешься это сделать? Переоденемся во что-нибудь подходящее и въедем на эту чёртову ракетную позицию на белом коне, прикинувшись гофрированным шлангом от противогаза? У нас хоть документы для этого есть? Не говоря уже про всё остальное?
– Документы найдём, – успокоила меня собеседница.
– Душевно рад за нас, если так. А что с оружием?
– Тоже найдётся. По крайней мере, стрелковое и ручные гранаты.
– Ну хоть что-то. Хотя, по-моему, этого мало. А какие-нибудь штучки из вашего «прекрасного далёка» тебе выдали? Бронебойно-зажигательные «Айнбрухи» или термобарический дезинтегратор?
– Нет.
– Плохо же тебя экипировали…
– Подобное выдаётся, если в группу поиска входят минимум четверо. И только если при этом во время ухода предполагается полностью зачищать все нежелательные следы своего пребывания в прошлом…
– Да, признаю, это случай явно не наш. Поскольку наши «хвосты» будут подчищать РВСН и US Air Force. А что мы тогда вообще имеем с гуся?
– Стандартный комплект маскировочной аппаратуры, в частности «Нахамер» и «Верклейд».
– Поясни, – уточнил я, уже смутно понимая, что это происходит явно от немецких «Nachahmer» и «Verkleidung», то есть «имитатор» и «маскировка».
Кэтрин встала и сходила в прихожую за сумочкой. Сумочка была как сумочка, обычная, дамская, коричневой кожи, на длинном ремешке, с застёжкой в виде золотистой пряжки. Присев, она полезла в эту самую сумочку и достала из неё нечто похожее на обычную пудреницу, открыла крышку, вынув и показав мне две серёжки золотистого металла, не особо дорогие на вид.