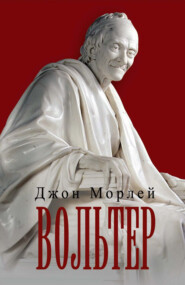скачать книгу бесплатно
Вольтер
Джон Морлей
Книга английского политического деятеля, историка и литературоведа Джона Морлея посвящена жизни и творчеству одного из крупнейших французских философов-просветителей XVIII века – Вольтера. В книге содержится подробная биография Вольтера, в которой не только представлены факты жизни великого мыслителя, но ярко нарисован его характер, природные наклонности, способности, интересы. Автор описывает отношение Вольтера к различным сторонам жизни, выразившееся в его многочисленных сочинениях, анализирует основные произведения. Немалое внимание уделено отношениям Вольтера с его знаменитыми и малоизвестными современниками.
Печатается по изданию:
Морлей Дж. Вольтер: пер. с 4-го издания / под ред. проф. А. И. Кирпичникова. М., 1889.
В формате a4.pdf сохранен издательский макет.
Джон Морлей
Вольтер
© ООО «Кучково поле», 2015
***
?? ??? ??? ???????? ??? ?????? ??? ??????
??? ?????? ??? ??????? ?????????? ?? ??? ?????
?????????? ?????? ??? ????????? ????????… ??
???????? ??? ?? ???? ??? ?? ??????? ??? ???????
??????? ???????????, ?? ???? ??? ? ???????
??????????? ?????. ????? ?? ????? ????????? ??
???? ??? ??????, ??????? ?? ??????? ??????? ??????,
????????.
Politicus, 311 A
??????? ???? ????????? ?????????? ??????, ?
??????; ??? ???? ??, ???, ???? ?? ?????? ?????????
?????.
Protagoras, 349 E
Благоразумные заправители отличаются в высшей
степени осмотрительностью, справедливостью
и мудрым консерватизмом, но у них не хватает
энергии и необходимой для дела решительности…
С точки зрения справедливости и благоразумия
мужество имеет меньшую цену, но оно важнее для
результатов. Невозможно, чтобы в государстве
очень хорошо шли дела, если благоразумие
не соединяется с энергией.
Платон. Политик, 311 А
Называешь ли ты мужественными смелых или
кого другого? Да, сказал он, и отважных, которые
идут на то, чего многие боятся.
Платон. Протагор, 349 Е
***
При ссылках на сочинения Вольтера автор пользовался изданием Бодуэна (Baudouin) 1826 года, семьдесят пять томов. Это издание не следует смешивать с первым изданием Бодуэна, вышедшим в 1824–1834 гг., в девяноста семи томах. О различии между этими двумя изданиями, причем отдается положительное преимущество более многотомному изданию, смотри Bibliographie Volterienne (р. 107) М. Керарда (Quеrard). Громадное количество полных и тщательно обработанных изданий сочинений Вольтера, предпринятых и оконченных в период времени между низвержением империи и падением монархии в 1830 году, является одним из самых поразительных фактов в истории книжного дела. – Примеч. издателя 1-го издания.
Глава I
Введение
Когда истинное понимание исторической законосообразности будет полнее развито в умах людей, именем Вольтера будет названа эпоха его времени, и это название будет иметь такое же значение, какое имеют Возрождение наук или Реформация, которыми определяются великие и многознаменательные умственные движения в Европе. Жизнь, характер и деятельность этой необыкновенной личности сами по себе создали новую и величайшую эру. Личные особенности гения Вольтера изменили умственное и духовное направление Франции и в некоторой степени всего Запада в такой мере и столь коренным образом, словно вся эта работа была произведена усилиями глубоко скрытых коллективных сил, тогда как в действительности эти силы только способствовали развитию Вольтера. Новый тип веры и ее непременного спутника неверия, под влиянием его характера и деятельности, оставил глубокое впечатление в умах и чувствах людей не только современной ему эпохи, но и последующей. Мы думаем, что вольтерьянство во Франции имеет в некоторой степени такое же значение, как католицизм, эпоха Возрождения и кальвинизм. Оно является одной из основ, на которых зиждется умственное освобождение нового поколения.
В начальную эпоху своего существования христианство пробуждало у всякого возвышенные стремления к более духовному, чистому и менее порочному и скоро преходящему существованию, чем какого могут достигнуть сыны человеческие в этом суетном и испорченном мире, и вместе с тем давало удовлетворение этим стремлениям. Оно открывало людям милосердное, всеблагое и всемогущее существо, которое – когда настанет день – загладит все несправедливости и вознаградит за все страдания и которое между тем не требовало от них ничего, кроме любви к тому, кого они не видят, выражаемой в любви к ближним. Великое значение христианства и заключалось в том, что оно подняло нравственное достоинство и уважение к себе в массе до того уровня, до которого только немногие до тех пор возвышались. Спустя много столетий Кальвин, суровый и непреклонный пасынок христианского Бога, ревнуя о божественном достоинстве и во зло употребляемом милосердии своего отца, с беспощадной силой слова освободил умы всех тех, кто, страшась глядеть прямо в лицо ужасным фактам необходимости зла и наказания, заботились более о том, чтобы примирять эти факты с какой-либо теорией любви и бесконечного милосердия Великого Творца. Люди, лишенные энергии и беспомощно запутавшиеся, благодаря верованиям (католицизму), всецело погрязшие в постыдном оптимизме и снисхождении к самим себе, сознали новый стимул в своей нравственной природе, лишь только жизнь представилась для них в виде долгой борьбы скрытых и непреодолимых сил и милосердия, предвечного избрания и предопределения, когда они поняли, что не человеку, жалкому червю и порождению червя, с его поверхностным умом и слабой логикой, примирить неисповедимые пути и дела высшего существа. Католицизм был движением мистического характера; таким же, только еще в большей степени, явился и кальвинизм, заменивший его в столь многих и значительных обществах. И тот и другой много сделали для поднятия человеческого достоинства и облагорожения чувства самоуважения; но вместе с тем и тот и другой угнетали и подавляли свободное проявление ума, жизнерадостную деятельность разума, светлое и многостороннее творчество воображения и фантазии. К счастью, однако, человеческая природа всегда противодействует репрессивной системе, и какова бы она ни была, пролагает себе путь к свободе и свету; научное понимание настойчиво добивается средств и возможности для своего выражения; творческое воображение бессознательно выливается в самых разнообразных формах, которые оно находит повсюду при добром содействии тонкого чувства. Вот в чем источник того яркого света, который озарил Европу в последней половине пятнадцатого столетия. Прежде чем Лютер и Кальвин, каждый по-своему, резко оттеняя, открыли миру свои новые идеи о нравственном порядке, люди более чем двух поколений почти перестали заботиться о том, существует ли какой-нибудь нравственный порядок, или же его вовсе нет и с восторгом предались наслаждению и созерцанию идей грации и красоты, образы которых давно уже знакомы миру, но все еще полны неувядаемой, по-видимому, новизны и свежести для всякого, кто раз получил доступ к бессмертным дарам искусства, архитектуры и литературы Греции. Если реформация, это великое обновление жизни северной Европы, явилась освобождением личности от оков, наложенных на нее потерявшими уже свое значение общественными суеверными традициями, то эпоха Возрождения – это более раннее пробуждение южной Европы к жизни – дала возможность воспринять благороднейшие общественные традиции свободного разума, какие только предки могли передать потомкам.
Вольтерьянством можно назвать возрождение восемнадцатого века, так как под этим словом понимают как все серьезные недостатки и неудачи этого страшного движения, так и его ужасный взрыв, быстроту, искренность и силу. Жгучие и ослепительные лучи ума Вольтера разбудили гения времен, онемелого и окутанного мраком, подобно угрюмой статуе Мемнона, лишь в тот момент, когда резкий звук лопнувшей струны пронесся над Европой и люди проснулись при новой заре и вздохнули полной грудью. Сентименталисты провозгласили Вольтера насмешником; в глазах присяжных школьных критиков, имеющих всегда наготове под рукой краткие ярлычки, он революционер-разрушитель; для каждой из бесчисленных ортодоксальных сект имя его – символ преддверия ада; ученые представляют его поверхностным и пустым; современная образованность осуждает его за то, что он в своей ненависти ко всякой лжи в сфере духовной является уж слишком серьезным. Люди простые, склонные измерять заслуги философа степенью его сочувствия к данным условиям комфорта больного существования, вообще должны одобрить слова Джонсона, сказавшего, что он скорее подписал бы приговор об изгнании Руссо, чем приговор об изгнании какого-нибудь преступника, давно бежавшего из Ольд-Бальи, а разница между Руссо и Вольтером так незначительна, что «трудно было бы определить меру неравенства между ними». Таким образом, люди всяких школ и профессий, смешивающие сильное выражение со строгим осуждением, дерзкую фразу с основательным убеждением, до такой степени были охвачены антипатией к Вольтеру, что невольным образом должны были вызвать у некоторых из них, склонных по природе к юмору, как реакцию противоположное чувство, нечто вроде симпатии. Грубый словарь злобы и ненависти – это отвратительное наследие истории, борьбы мнений – заимствовал многие из своих наиболее громких выражений из критических мнений о Вольтере, а некоторые и от самого Вольтера, к сожалению, не всегда пренебрегавшего следовать худому примеру своего противника.
Однако Вольтер был действительным источником просвещения восемнадцатого столетия; именно он во множестве форм и образов пробудил в современном ему поколении сознание силы и прав человеческого разума. К нему можно применить его же слова, великодушно сказанные им о славном его современнике, Монтескье: человечество растеряло документы на свои права, а он отыскал и возвратил потерянное. Восемьдесят томов, написанные им, послужив средством для нового возрождения к жизни, представляют теперь памятник этого возрождения; они – продукт и свидетельство ума энциклопедической любознательности и плодовитости. Едва ли найдется одна страница среди этих бесчисленных листов, отлившаяся в обыденную форму. Едва ли можно встретить там хоть одну мысль, которая не принадлежала бы вполне уму Вольтера или была бы сказана только потому, что кто-либо иной сказал ее раньше. Нет мыслителя, который в большей мере, чем он, мог бы считаться действительным творцом своих произведений. Конечно, даже у самых оригинальных и отважных передовых людей есть свои предшественники; и ход развития Вольтера был подготовлен уже прежде, чем он родился, как это бывает со всеми смертными. Но на всем сказанном им, будь это хорошее или дурное, лежит печать такой полной самобытности, что все это представляется как бы самопроизвольным, самородным произрастанием какой-то фантастической страны, из недр которой выходят на свет дива и чудища. Многие из высказанных им идей носились уже раньше в воздухе и не принадлежали ему одному, но он так быстро и с таким совершенством усваивал эти идеи, его понимание их было столь тонко и столь всеобъемлюще, а начинания носили такой определенный и независимый характер, что даже и на этих идеях он тотчас оставлял неизгладимую печать своей личности. Одним словом, всякое произведение Вольтера, от первого до последнего, было полно неугасимой жизни; многое в них потеряло уже в настоящее время свое глубокое жизненное значение, но во всяком случае ни одно из его сочинений, мы это должны признать, никогда не было скучным и мертворожденным детищем чужого ума. В его произведениях нет места механической передачи того, что может быть названо ходячей монетой сомнительного достоинства. В области чисто художественной литературы Вольтер является одним из числа немногих великих мастеров, а в стиле остается до сих пор верховным властелином. Но литературное совершенство и многостороннее литературное творчество, какое бы они ни вызывали удивление сами по себе, составляют подобно всем другим чисто литературным достоинствам дарование второстепенного характера и имеют преходящее значение; общество равнодушно предаст их забвению, если только они не были порождением действительно жизненных идей.
Вольтер явился страшной силой не потому только, что его способ выражения не имел себе равного по ясности, и не потому даже, что его взгляд отличался необыкновенной проницательностью и дальновидностью, а потому, что он видел многое новое, чего другие люди искали ощупью и к чему они безотчетно стремились. Но и это еще не все. Фонтенель был также блестящ и проницателен, но он был сдержан, слишком любил спокойствие и семейный очаг и заботливо избегал шума, тревог и опасностей решительной борьбы. Вольтер же всегда находился в первом ряду и в центре битвы. Жизнь его представляет не просто только главу из истории литературы. Он никогда не считал истины сокровищем, которое следует благоразумно утаить в мешке, напротив, он сделал ее боевым лозунгом и открыто начертал имя ее на знамени, которое было много раз изорвано, но никогда не покидало поля сражения.
Таков был характер Вольтера, создавший из него при наступлении благоприятного времени, когда исход сражения не приводил уже более борца в темницу или на костер, действительную силу и доставивший ему не один только пустой призрак литературной славы. Есть что-то в природе людей, что заставляет их равнодушно внимать самым страстным уверениям и убедительнейшим доводам скептицизма из уст тех пророков, которые сами лично уклоняются от раскаленных стрел сторонников официального правоверия. Нечто подобное, быть может, свойство нравственной природы человека, тяготеющей ко всяким действительным проявлениям искренности, а быть может, некоторая особенность просто животного темперамента побуждает людей с жаром воспринимать даже нечто незрелое и несовершенное, если только они видят, что оно служит боевым орудием против всякого духовного гнета.
Сам человек своей личностью человека производит несравненно более сильное впечатление, чем его словами, в чем мы убеждаемся каждый день; и его речи получают возрастающее до бесконечности значение или вовсе теряют какое бы то ни было, смотря по тому впечатлению, которое по тем или иным причинам слушатель получил об уме и нравственных качествах говорящего. Многое можно сказать о нравственном складе Вольтера, и в нашей книге нет ни малейшего стремления скрыть, как много он заслуживал порицания. Но несомненно верно то, что он ненавидел тиранию, что он отказался затаить эту ненависть в своем сердце, что он упорно стремился дать выражение своему чувству отвращения и отточить острый меч для своего справедливого гнева – меч, имевший слишком фатальное значение для тех, кто возложил столь тяжкое бремя на жизнь и совесть человеческую. Современники Вольтера сознавали это. Они были задеты за живое, видя, слыша и следя за действительным направлением этих звонких ударов. Правда, он был резок, но зато и прямодушен; он часто прибегал к насмешке, но вместе с тем всегда серьезно относился к сути дела и старательно изучал факты; он не отступал перед нападением на теологию, но тем не менее всегда воздавал должную дань уважения к религии настолько, чтобы относились к ней как к самому важному вопросу. Это не была театральная пантомима наших дней, где закутанные фантомы-борцы годны лишь на то, чтобы в зловеще-важном молчании выражать жестами невыразимые вещи; это была настоящая борьба! Говорят, что эта борьба была деморализована той злобой, с какой она велась. Это правда. Но разве было бы лучше, если б она деморализировала трусость сердца и ума, когда каждый рыцарь словесного турнира горячо желает, чтоб его считали стоящим под знаменем противной стороны, когда теолог охотно согласен прослыть рационалистом, а свободный мыслитель – человеком, придерживающимся какого-то своего собственного правоверия, когда философское беспристрастие и понимание дошли до крайнего своего предела в доктрине, утверждающей, что все есть в одно и то же время и истинно и ложно?
Человек, подобный Монтеню[1 - Мишель Монтень (Michel de Montaigne, 1533–1592) был советником парламента в Бордо. – Здесь и далее примеч. пер.], мог безмятежно, как было уже замечено, почивать на ложе сомнения, довольствуясь спокойной жизнью и оставляя многие вопросы открытыми. Размышления на эту тему, когда они изложены в надлежащей литературной форме, приводят в восторг людей материально обеспеченных и достаточно чутких, чтобы признать существование неведомых областей знания и истины за пределами настоящего и существование призвания выше их собственного призвания. Но это сознание бывает недостаточно сильно и жгуче, чтобы сделать для них решительно невыносимыми как непродуманные компромиссы, основанные на полумыслях и робких заключениях, так и бледные, бесформенные зачатки их социальных симпатий. Бывают положения, когда такое соединение страха и спокойствия, неудержимого стремления и довольства, боязливой отваги и задумчивой лени составляют естественный склад даже высоких натур. Могучий прилив благоприятных условий наступает так медленно, что целые поколения, способные дать искусных и неустрашимых мореплавателей, тщетно ждут той большой волны, которая подымает и выносит народ на новые берега жизни.
Нет ничего для счастья людей хорошего в том, если история каждого века знаменуется или революцией, или медленным внутренним брожением, подготовляющим революцию, и если вся слава, признательность и сочувствие всецело выпадают на долю скептиков и разрушителей общественного порядка. Бурная деятельность эпохи какого-либо великого переворота может кончиться победой, которая никогда не достается без жертв; победа может более чем вознаградить за все потери; жертва может окупиться сторицей; хотя и не всегда, так как, по небрежности, список славных деяний может быть утерян, и благородные усилия, в таком изобилии проявившие себя, напрасно потрачены. Ни в каком случае жертва не является концом дела. Вера, порядок, решительное и постоянное движение вперед – вот условия, которые всякий благоразумный человек стремится усовершенствовать и обеспечить. Но в интересах этого процесса совершенствования мы прежде всего нуждаемся в размышляющем, сомневающемся, критическом типе, а затем – в положительном догматическом разрушителе. «Составляя план действия, полезно усматривать опасности, – сказал Бэкон, – а выполняя его, гораздо лучше не замечать их, если только они не особенно велики». Существуют, как учит нас история, эпохи теоретической подготовки и эпохи практического выполнения – эпохи, когда вполне благоразумен тот, кто действует как можно осторожнее, пролагая новые пути с трудом, терпением и проницательностью, и эпохи решительного движения и мужественной борьбы.
Если Вольтер и пользовался умело и благоразумно своим щитом, то он, однако, понимал, что наступит день, когда следует отбросить в сторону ножны, что настало уже время твердо положиться на свободный человеческий разум для отыскания истины и на добрые инстинкты человека для осуществления социальной справедливости. Он представляет собой один из самых стойких и решительных характеров, для которых сомнение – это болезнь, а умственная робость – невозможность. По старомодным кличкам его считают скептиком, потому что те, кто имел официальное право наклеивать подобные ярлыки, не могли придумать более презрительного имени и не могли допустить, чтобы даже самый дерзкий ум решился перейти, хотя бы под покровительством самого сатаны, за пределы заблуждающегося сомнения или чего-нибудь в этом роде. Но в характере Вольтера было, быть может, так же мало скептицизма, как и в характере Боссюэ[2 - Боссюэ (Jacques Bеnigne Bossuet; 1627, Дижон – 1704, Париж), французский проповедник и историк.] или Батлера[3 - Батлер (Samuel Butler, 1612–1680), английский поэт, автор Гудибраса, враг пуритан и горячий роялист.], и стать скептиком он был менее способен, чем де Местр[4 - Жозеф де Местр (Joseph de Maistre, 1754–1821), философ и публицист школы реакционеров.] или Палей[5 - Уильям Палей (William Paley, 1743–1805), английский мыслитель. Первое его крупное произведение «Moral and political Philosophy» вышло в 1785 г.]. В этом-то и заключается главный секрет его силы, так как человек одной только чистой критики, провозвестник безответных сомнений, может увлечь за собой только единицы. А Вольтер не только дерзко ставил вопросы первостепенной важности, но и смело отвечал на них.
Достояние нашего времени, новая горделивая идея рациональной свободы, как свободы от убеждений, и идея эмансипации понимания, в смысле эмансипации от обязанности решать вопросы о том, истинны ли основные положения или ложны, – такая идея не озарила ума Вольтера.
В такой же самой мере Вольтер обладал и угодливым умом светского человека, склонного при всей своей посредственности и легкомыслии открывать и провозглашать во всеуслышание законы прогресса, и подобно диктатору устанавливать быстроту его развития. Кому не известен этот характер светского человека, самого худшего врага своего света? Кому неизвестны его крайняя снисходительность к злоупотреблениям, лишь бы от них страдали только другие, – его защита верований, которые далеко, быть может, не настолько истинны, как того может желать всякий, и учреждений, которые вовсе не настолько полезны, как о том могут думать некоторые; его сердечное влечение к прогрессу и усовершенствованию вообще и его холодность или даже антипатия к каждой прогрессивной мере в частности; его жалкая надежда, еле дающая себя знать, что жизнь когда-нибудь станет лучше, рядом с его же подавляющим убеждением, что жизнь эта станет скорее бесконечно хуже? Для Вольтера, далеко не похожего на подобного человека, предрассудок не является предметом, к которому следует относиться с учтивым равнодушием, но действительным злом, которое надо поражать и уничтожать, пользуясь всяким случаем. Жестокость не представлялась для него неприятной мечтой собственной фантазии, от которой он мог бы избавить себя, вызывая в себе сознание собственного благополучия, но живым пламенем, сожигающим его мозг и расстраивающим его душевный покой. Несправедливость и неправда не были одними только словами в его устах: они, как нож, проникали в его сердце и он страдал вместе с жертвой и пылал деятельной злобой против притеснителя.
Не одна только грубая жестокость инквизитора или политического деятеля, совершающих беззаконие при помощи физического насилия, являлась в его глазах оскорблением всего мира, возбуждавшим его негодование. Он обладал достаточной проницательностью и достаточной глубиной мысли, чтобы понять, что самые пагубные враги рода человеческого – это те угрюмые ненавистники логики, которые завладевают ключом познания лишь для того, чтоб изгнать истину на второй план. Он был убежден, что препятствия, оказываемые энергическому развитию и широкому распространению научной истины, по меньшей мере столь же вредны для общественного блага, как и несправедливое лишение людей жизни, ибо если что придает как самой жизни, так и ее сохранению наибольшую цену, то это именно обладание все в большей и большей степени истиной. Не должны ли мы допустить, что он был прав, и что во все века приверженцы всяких учений и отдельные личности, опасавшиеся – как опасается каждый честный человек – причинить какое-либо зло своему ближнему, в такой же мере не страшились бы погасить хотя бы единый луч великого светила знания?
Вполне достаточно вспомнить, что в эпохи мрака и невежества, подобные, например, двенадцатому столетию, ни сожигатели книг, ни мучители тех, кто писал эти книги, не понимали, что они совершают беззаконие над человеком или что они наносят вред истине. Едва ли возможно отрицать, что С-т Бернард был добрый человек, да и нет никакой нужды отрицать это; известно ведь, что добрые побуждения благодаря нашей великой слепоте и медленности распространения просвещения приводили к тяжким опустошениям в мире. Идея справедливости по отношению к еретикам существовала в то время в такой же мере, в какой она существовала в уме белого человека, находящегося на низкой ступени развития в отношении негра, или в какой существует в охотнике чувство жалости к своей добыче. Короче сказать, времена общественной жестокости были вместе с тем и временами умственного гнета. В такие времена каждый в отдельности так же слабо сознавал свою обязанность по отношению к ближнему, как все вместе свой долг по отношению к разуму и социальным чувствам. Времена, когда такова была всеобщая идея о правах человеческого разума, были вместе с тем временами, когда человеческая жизнь стоила очень дешево, и скудная чаша человеческого счастья проливалась наземь без всякого сожаления.
Связь между двумя идеями: идеей неуважения к правам человека и идеей неуважения к человеческому разуму, важнейшему отличительному признаку человеческой природы, была неразрывна. Обратное положение, к несчастью, бывает справедливо только с некоторой оговоркой, так как было много людей, которые относились с достойным похвалы уважением к доказательствам вообще и с надлежащей приязнью ко всяким предположениям, но которые, однако, смотрели на права человека если и без всякого презрения, то вместе с тем и без всякого сердечного участия. Для Вольтера слова: разум и человечество – составляли одно и то же понятие, а любовь к истине и страсть к правосудию – одно и то же чувство. Никто из знаменитых людей, боровшихся за свое право свободно мыслить и открыто выражать свои мысли, не видел яснее Вольтера, что основной целью этой борьбы всегда было дать возможность другим жить счастливо. Кто не был тронут этими удивительными словами, сказанными им относительно трех лет безустанной работы, посвященной им ради целей правосудия, делу вдовы и потомков Каласа: «В течение этого времени, – сказал он, – я ни разу не улыбнулся, не упрекнув себя в том, как в преступлении», – или же его искренним признанием, что из всей массы энтузиазма и удивления, с какой его встретил Париж в последнюю знаменитую его поездку в 1778 году, ничто так не подействовало на его сердце, как слова женщины из народа, которая в ответ на вопрос об имени того, за кем следует толпа, сказала: «Разве вы не знаете, что это защитник Каласа?»
То же самое чувство, хотя и в поступках значительно менее безукоризненно благородных, лежало в основе многочисленных усилий Вольтера добиться значения и в важных политических делах. Известно, как много едких сарказмов вызывали его стремления в разные времена взять на себя роль дипломатического посредника между французским правительством и Фридрихом Вторым. В 1742 году, после посещения прусского короля в Ахене, Вольтер говорит, что человек, написавший поэму или драму, не становится чрез это неспособным служить своему королю и отечеству на деятельном политическом поприще; в этом видели намеки на кардинала Флери. После смерти Флери, в следующем году, когда счастье Франции в войне за австрийское наследство стало сильно изменять, Вольтер думал, что он сам мог бы быть полезен своей дружбой с Фридрихом, и это мнение, кажется, разделял и государственный секретарь Амело (Amelot). Вообще Вольтер старался при всяком случае принять активное, хотя и крайне ничтожное, участие в дипломатии. Позднее, когда времена изменились и звезда Фридриха стала меркнуть от неудач, мы снова видим Вольтера ревностным посредником, вместе с Шуазелем, Вольтера, шутливо сравнивающего себя с мышью, которая деятельно старается освободить льва из тенет охотника.
Литераторы, обыкновенно неспособные представить себе более возвышенное служение роду человеческому или более привлекательные цели для талантливых людей, чем составление книг, отнеслись к этим притязаниям Вольтера с некоторого рода надменной критикой, которая, не говоря нам ничего нового о Вольтере, свидетельствует между тем о чрезвычайно узком понимании положения исключительно литературной жизни, среди жизни вообще и тех условий, при которых создаются наилучшие литературные произведения. Действительное содействие, например, хотя бы в малейшей степени, миру между Пруссией и ее врагами, в 1759 году, оказалось бы неизмеримо большей услугой роду человеческому, чем какое бы то ни было произведение, которое мог бы написать Вольтер. Но еще большего внимания заслуживает то обстоятельство, что сочинения Вольтера явились той силой, какой они были на самом деле, только благодаря его постоянному стремлению стать в самые близкие отношения к практическим делам. Кто никогда не покидал жизни затворника и, проживая в каком-либо отдаленном поместье на доходы от своего капитала, теоретически строил прошедшее, настоящее и будущее из собственного своего сознания, тот не способен быть надежным руководителем рода человеческого и правильно судить о ходе человеческих дел. Каждая же страница сочинений Вольтера, напротив, свидетельствует о напряженнейшем внимании к текущей человеческой жизни; инстинкт, побуждавший его искать общества выдающихся деятелей на великой мировой сцене, был существенно верным инстинктом. Писатель имеет большое преимущество, располагая возможностью уверить прямо или косвенно людей в том, что истинный их верховный вождь есть он и что Священный певец – более могущественный человек, чем воспеваемый им герой. Вольтер, однако, понимал дело правильнее. Хотя сам он был, быть может, одним из величайших писателей, какие когда-либо существовали, тем не менее он ценил литературу, как и следует ее ценить, ниже практической деятельности, – не потому, чтобы писанное слово имело меньшую силу, но потому, что размышление и критика, оказывающие существенное влияние на жизнь, требуют, однако, в далеко меньшей степени, чем действительное руководительство великими делами, качеств, встречающихся в отдельности часто, но удивительно редких в совокупности, как-то: хладнокровия, проницательности, твердости и решительности – одним словом, силы ума и силы характера. Гиббон[6 - Эдуард Гиббон (Edward Gibbon, 1737–1794), величайший английский историк.] сделал верную поправку к своей мысли, сказав, что Боэций не спустился, но, правильнее, поднялся от жизни, проводимой в спокойном размышлении, к активному участию в государственных делах. В том, что Вольтер придерживался этого здравого убеждения, и лежит объяснение, с одной стороны, его стремлений сойтись поближе с людьми государственными, а с другой – ходячего мнения о пролазничестве Вольтера. «Почему – спрашивает он, – древние историки отличаются такой полнотой и ясностью? – Потому что писатель того времени имел значение в общест венных делах; потому что он мог быть правителем, жрецом, воином; потому что он, если и не мог подняться до высочайших государственных функций, мог, по крайней мере, выработать из себя человека, достойного их. Я допускаю, заключает он, что мы не должны рассчитывать на такое выгодное положение для нас, так как наше государственное устройство против этого»; но вместе с тем он глубоко чувствовал потерю такого преимущества[7 - Oeuvres (Oeuvres compl?tes de Voltaire, 70 vol. – Полное собрание сочинений Вольтера. 1785. В 70 т. – Примеч. ред.) Vol. XXV, р. 214.].
Короче, где бы и что бы люди ни делали и ни думали, в каком бы то ни было отношении, все это имело действительное и жизненное значение для Вольтера. Все, что могло бы заинтересовать какого-либо предполагаемого человека, имело интерес и для него. Все, что составляло когда-либо предмет забот для какой бы то ни было группы людей, было одинаково близко и Вольтеру, раз его мысль останавливалась на нем, и благодаря только такому громадному запасу жизнедеятельности в себе он наполнил жизнью целую эпоху. Чем внимательнее изучаешь различные движения этой эпохи, тем яснее становится, что если он и не был самобытным центром и первоначальным источником всех этих движений, то во всяком случае он проложил для них многие пути и подал сигнал. Он был начальной причиной брожения в течение всего времени этих бурных движений. Мы можем сожалеть (если таково наше отношение), как сожалел Эразм в письме к Лютеру о том, что великий переворот не создается медленной, спокойной работой, без насилий и жестокостей. Эти кроткие сожаления бессильны и в общем действуют расслабляющим образом. Постараемся лучше дать себе отчет в том, что существует в действительности, чем искать оправдания своей снисходительности к себе в мечтательном предпочтении чего-то такого, что могло бы быть. Фактически в этом великом круговороте событий то, что только могло бы быть, есть в сущности то, чего, проще говоря, не могло быть, и для нас совершенно достаточно знать это. Не в человеческой власти выбирать тех людей, которые от времени до времени получают наибольшее влияние на переворот первостепенной важности. Сила, решающая дело столь чрезмерного значения, является как бы простым случаем. В точном смысле слова мы ни один факт не имеем права назвать случайностью, однако история полна фактами, которые при нашем настоящем незнании причин являются как бы случайностями.
В этом отношении история находится в таком же, ни лучше, ни хуже, положении, как и новейшее объяснение происхождения и состояния всего органического мира. Здесь все мы подходим к конечному выводу, по которому все есть не что иное, как случайность. Естественный отбор, или переживание наиболее приспособленного в мировой борьбе за существование, считается в настоящее время самыми компетентными судьями главнейшей причиной, обусловливающей уничтожение, сохранение и распределение органических форм на земле. Но появление как тех форм, которые являются победителями, так и тех, которые погибают, все еще остается тайной, а для науки случайность и тайна, и сами по себе и временно, есть одно и то же. Короче говоря, существует неизвестное начало, лежащее в основании разнообразия форм творения. Так и в истории, возвышение Римской или Итало-Греческой империи было спасением для всего Запада, но тем не менее появление в тот момент, когда анархия угрожала быстрым разрушением Римскому государству, человека, способного понять наилучшим образом сущность необходимого нового строя, имело такой же характер случая, как и непоявление людей с подобной же силой и с таким же предвидением в эпохи столь же важных кризисов предшествующих и позднейших. Появление такой великой творческой силы, какой был Карл Великий в восьмом столетии, едва ли может убедить нас в том, что раз потребность существует, то она неизменно вызывает такого руководителя, какого требуют условия времени; так как стоит только вспомнить, что условия конца восьмого века не отличались существенным образом от условий начала шестого века и однако же в более раннюю эпоху не появлялось ни одного преемника Теодориху, способного продолжать его работу. Достаточно исследовать происхождение и основные условия тех типов цивилизации, по которым управляются западные общества и по которым совершается их движение вперед, чтобы заметить в этих самобытных условиях что-то неисповедимое, некоторый элемент того, что является как бы случайным. Никакая наука до сих пор не может еще объяснить нам, как из всего предыдущего ряда существ произошло такое видоизменение, как человек; тем более история не в силах объяснить закон, по которому произошли наиболее поразительные видоизменения в сфере умственных и душевных качеств в роде человеческом. Появление видоизменений как одного, так и другого рода есть факт, который не может быть исследован до основания. Трудно вообразить себе земной шар не населенным людьми или же населенным, как может случиться в отдаленном будущем, существами, обладающими настолько более усовершенствованной организацией, чтобы вытеснить человека. Трудно также представить себе, чем была бы в настоящий момент Западная Европа и все те обширные страны, которые озаряются светом ее, если бы природа или неведомые силы не произвели Лютера, Кальвина или Вольтера.
То, что во Франции по смерти Людовика XIV явился человек со всеми теми особенными умственными дарованиями, какими обладал Вольтер, соединявший их с неутомимой деятельностью, пользовавшийся, кроме того, долгой жизнью, что имел возможность развить свои умственные силы до самого крайнего их предела, какой только возможен, – это была одна из счастливых случайностей. Такая комбинация физических и умственных условий, столь удивительно благоприятствовавших развитию вольтеровских идей, была обстоятельством, не зависящим от состояния окружающей атмосферы, – обстоятельством, которое могло быть по справедливости названо провиденциальным. Если бы Вольтер видел все то, что он видел действительно, но был бы ленив, или если бы он был столь же проницателен и столь же деятелен, каким он был действительно, но прожил бы лишь пятьдесят лет вместо восьмидесяти четырех, – вольтерьянство никогда бы не пустило глубоких корней[8 - Comte A. Philosophie positive, p. 520.]. Но благодаря его гению, трудолюбию и долговечности, при тех условиях, какие имели место в действительности, широко распространившееся движение стало неизбежностью.
Итак еще раз, мы не можем выбирать. Те, кого темперамент или воспитание делают сторонниками нерушимого порядка, не в силах дать прогрессу постепенное и гармоническое движение, какое наиболее им нравится и какое они, быть может, и вправе считать движением, наилучше обеспечивающим достижение цели.
Освобождение человеческого разума, подобное вольтерьянству, может быть только результатом движения многих умов, а между ними лишь немногие действуют под влиянием умеренных, логических и научных умозаключений, масса же ищет крайних выводов. Следуя внушениям своей фантазии и симпатий, а не строю дисциплинированного ума, люди поражаются только тем, что ярко и колоссально. Они хорошо знают свои собственные нужды, а лучшие стремления их остаются безмолвными. Их живые, но незрелые мысли бродят во мраке, но под влиянием инстинкта они устремляются вперед – в ту сторону, где тьма, как кажется им, начинает рассеиваться. Они плохие критики и не искусны в анализе, но когда настает время, они никогда не ошибаются узнать слова: свобода и истина, с каким бы несовершенством эти последние ни были высказаны. Никогда какому-либо вполне лживому пророку не удавалось еще обмануть целый ряд поколений, не удавалось разделить нацию на две резко отличающиеся половины. Вольтер же на самом деле успел в этом и на целое столетие разделил самые эмансипированные нации запада на два лагеря. Этого не в силах сделать тот, кто только осмеивает все и кто так же быстро исчезает, как промелькнувшая молния, а не становится центром солнечного света.
Существует много различных направлений вольтерьянства, но ни одно из них, как бы оно ни было близко еще к великому циклу старых идей, не может прямо или косвенно не считать себя обязанным первому освободителю, хотя бы в этом менее всего желали бы признаться представители. Все писавшие о Вольтере обращали внимание на бесчисленное множество изданий его сочинений – множество, в сравнение с которым не могут идти никакие другие издания авторов в такой же самый промежуток времени. Он один из самых плодовитых писателей, и вместе с тем издания его сочинений принадлежат к самым дешевым. Вы можете приобрести одну из книг Вольтера за несколько полупенсов, и хозяин дешевых книжных лавок в дешевых кварталах Лондона и Парижа скажет вам, что такая дешевизна нисколько не зависит от недостатка спроса, но как раз напротив. Так ярко для многих даже в настоящее время горит еще этот светоч, который с научной точки зрения должен считаться потухшим и для многих на самом деле уже давно потух и заменен другим. Причина такой жизненности заключается в том, что сам Вольтер жил полной жизнью в то время, когда работал над своими творениями, и в том, что движение, вызванное его творчеством, еще не исчерпало всего содержания.
Чем же следует характеризовать это движение? Историки католической церкви обыкновенно начинают свое повествование рассказом о растлении человеческой природы и общественном разложении, предшествовавших новой религии. Подобным же образом и значение реформации может быть понято только тогда, когда мы обратим внимание на всю необъятную массу суеверия, несправедливости и упорного невежества, которые покрыли теологическую идею католической церкви столь толстой корой, что сделали ее совершенно негодной для руководства обществом, так как она с одинаковой силой отталкивала как интеллектуальное мышление, так и нравственное понимание, как знание, так и чувства лучших и наиболее развитых людей того времени. Таким же точно путем может быть понято и оценено и громадное значение Вольтера. Франция переросла уже формы своей средневековой жизни. Дальнейшее ее общественное развитие было роковым образом приостановлено тесными оковами старого строя, которые жали ее и упорно впились в нее, подобно прожорливому паразиту, извлекающему из корней все их питательные элементы, разъедающему ткань и высасывающему все соки живого дерева. Часто рисовали эту картину, и нам нет надобности пытаться еще раз воспроизвести ее во всех подробностях. Все общественные силы и весь общественный строй были в союзе с заклятыми и патентованными врагами света, все интересы которых, порождаемые желанием разделить власть и богатство, заключались в одном: удержать разум в подчиненном положении. И что было еще важнее, сама нация не проявляла никакого признака, что она сознает существование необъятой области знания, лежащей непосредственно перед ней, и еще менее – хотя бы малейшего желания или намерения достигнуть прочного обладания этой областью. Та умственная пытливость, которая так скоро дала столь удивительные плоды, не обнаруживала еще признаков жизни. Эпоха необыкновенной деятельности только что закончилась; творческий и артистический гений Франции поднялся до высочайшей степени, какой он когда-либо достигал раньше начала нашего столетия. Великий век Людовика XIV был веком блестящей литературы и неподражаемого красноречия. Но, несмотря на плодотворное семя, посеянное Декартом, это был век авторитета, протекции и патронатства. Следовательно, все те, которые находились вне покровительства, то есть все те, которые ничего не могли придать к блеску и достоинству церкви и пышности двора, тем самым подпадали под давление гнета. Это не должно, однако, затемнять для нас действительное величие более ранней и лучшей поры правления Людовика XIV. Указывали уже на то, что существеннейшая заслуга Людовика XIV перед потомством заключается в покровительстве, которое он оказывал Мольеру; основание же, почему это заслуживает особой похвалы, состоит в том, что покровительство оказывалось, несмотря на резко критический характер сочинений Мольера, направленных как против ханжи и лицемера, так и против царедворца. Но этот факт, заключая в себе элементы критики и будучи потому наиболее ценным достоянием того времени, не имеет значения для общей положительной характеристики века Людовика. Мольер является критиком случайно; в нем нет ничего органически отрицательного, и его комедии – просто изображение в драматической форме особенностей данной цивилизации. Нарисованные им ханжи и нахалы не делают из него в большей мере разрушительной и критической силы, чем Боссюэ, который восставал против греха и излишеств человеческого тщеславия. Эпоха эта была от начала до конца верна себе и своим идеям. Сам Вольтер обратил внимание на эти черты и удивлялся им. Величайший из всех разрушителей, он понимал, что все наши усилия направлены именно к достижению таких моментов, какой представляло то время кратких моментов веры и самоуверенности. Мы боремся из-за того, чтобы другие могли наслаждаться; и многие поколения борются, спорят из-за того лишь, чтобы одно из них могло считать кое-что за вполне доказанное и проверенное.
Слава века Людовика XIV состояла в высшем развитии тех идей, которые немедленно вслед за тем потеряли свою прелесть, значение и силу влияния на человеческие умы. Благородная и почтенная иерархия, августейший и могущественный монарх, двор с веселой и утопающей в роскоши знатью – все лишилось обаяния, когда пред изумленными взорами людей внезапно предстал страшный фантом, полный реальной действительности, – фантом гибели нации. От речей Боссюэ до «Dеtail de la France» Буагильбера, от мягких напоминаний с ораторской кафедры о том, что даже величество должно умереть, до жалости Вобана к бедствиям простого народа[9 - Вобан и Буагильбер: см.: Daire E. Les Economistes f nanciers du XVIII si?cle. 1851.]; от Корнеля и Расина до художественного изображения Лабрюйером[10 - Лабрюйер (La-Bruy?re, 1639–1696), знаменитый своими «Характеристиками». См. другие подобные же цитаты у Тэна: Происхождение общ. строя современной Франции. СПб. 1880. С. 429 и след.] «некоторых диких животных мужского и женского пола, рассеянных по полям, – грязных, истощенных, опаленных солнцем, прикованных к той земле, которую они копают и пашут с непоколебимым упорством животных, которые обладают некоторой способностью произносить членораздельные звуки и, подымаясь на ноги, предъявляют человеческое лицо, да и на самом деле суть люди»: этот контраст существовал уже в течение целых поколений. Но физические бедствия, причиненные войнами Людовика XIV, усилили темные стороны, а блеск гения, обреченного на прославление традиционного авторитета и строя того времени, усилил, в свою очередь, яркость светлых сторон, – и давно существовавший контраст вдруг ясно предстал пред изумленными взорами немногих; в то же время медленно стала выдвигаться вперед, хотя и в бледных очертаниях, новая и глубочайшая проблема, имеющая в них поднять нашу цивилизацию до высоты, о которой немногие даже и в настоящее время могут дать себе отчет.
Нет основания предполагать, что Вольтер постоянно видел перед собой это поразительное и ужасное зрелище; первый о нем заговорил Руссо и, начиная с Руссо, ни государственные люди, ни философы, обладающие достаточной проницательностью, чтобы видеть даже и то, чего они страшились или что ненавидели в душе, не выпускали уже из виду задач относительно реорганизации общественных отношений. Задача же Вольтера была другого рода, она имела подготовительный характер: сделать популярным гений и авторитет разума. Основы общественного здания были таковы, что прикосновение к ним разу ма имело роковое значение для всего строя, который тотчас же и начал распадаться на мелкие куски. Авторитет и обычай оказывают упорное и непреодолимое сопротивление разуму лишь до тех пор, пока учреждения, которым они покровительствуют, действительно приносят явную пользу обществу. Но по смерти Людовика XIV стало заметно пропадать не только очарование и блеск, но и сознание общественной пользы духовного и политического абсолютизма. Духовный абсолютизм оказывался неспособным поддерживать даже наружным образом согласие и порядок в теологическом отношении, а политический абсолютизм благодаря своим чрезмерным издержкам, своему всевозрастающему стремлению подавлять личную энергию и мысль в общественных делах, своей международной политике, которая являлась пустой и бесплодной по своим целям, злополучной и неспособной в выборе средств, быстро расточал источники национального благосостояния и злонамеренно подрывал самый корень общественной жизни. Внести разум в столь тяжелую атмосферу значило, употребляя старинное образное выражение, впустить воздух в комнату с мумиями. А то, что принес с собой Вольтер, было именно разум, – слишком, если хотите, односторонний, слишком задорный, чересчур насмешливый и неумолимо рассудительный, но все же разум. Кто измерит последствия того различия, которое имело место в истории двух великих наций: во Франции духовный и политический абсолютизм пал пред мощным гением чистого разума, тогда как в Англии он уступил под давлением общественной выгоды ввиду протестов против монополий, беневоленций[11 - Беневоленции (benevolenses) – подать, взимавшаяся в прежнее время в Англии под видом добровольного приношения.] и корабельной пошлины (shipmoney). Во Франции теория завладела всеми общественными вопросами, прежде чем был сделан хотя один шаг к ее приложению, тогда как в Англии общественные принципы прилагались прежде, чем они получали какое-нибудь теоретическое оправдание. Во Франции первым действительным врагом принципов деспотизма был Вольтер – поэт, философ, историк, критик; в Англии – кучка простых дворян (squires). Правда, традиционный авторитет во Франции был подорван хотя отчасти, но роковым образом еще до Вольтера одним из самых смелых мыслителей и одним из самых проницательных и проникнутых скептицизмом ученых; под него подкапывались и писатели, обладавшие остроумной беззаботностью Монтеня, и апологисты-рационалисты, подобные Паскалю, давшие место и значение самому сомнению, указав на весь мрак и безбрежность пучин его. Трактат Декарта о «Методе» был издан в 1637 году, а рассуждение Бейля о «Комете» (Bayle’s «T oughts on the Comet»), первый удар в ряду критических нападений на предрассудки и авторитет в делах веры, было опубликовано в 1682 году. И метафизик, и критик – оба выступили на путь исследования, и каждый настоятельно стремился или найти основания для веры, или же обнаружить с фатальной ясностью отсутствие таковых. Декарт занялся умозрительными настроениями и склонялся к тому, чтобы примирить известный ряд идей об отношениях между человеком и вселенной и о виде вселенной и ее образовании с логикой разума. Бейль, предшественниками которого и окружающей средой были протестанты, заботился не о замене одних доказательств другими, но о том, чтоб иметь ясное доказательство по отношению ко всему, существование чего может быть допущено. Я не имею в виду здесь проводить какую-либо параллель или делать намек на равенство между редким гением Декарта и относительно менее совершенными талантами Бейля. Какое бы большое значение мы ни придавали возрождению мысли, произведенному Бэконом в Англии, или же тому, которое было вызвано блестящей группой экспериментаторов в Италии, но, однако, Декарт отмечает собой новую эпоху в развитии человеческого ума, потому что он резко отделил науку от теологии и установил систему знания, а Бейль имеет значение лишь в истории развития критицизма. Тем не менее хотя и далеко различными путями и при громадном несходстве умственных способностей, но и тот и другой губительным образом затронули идеи, господствовавшие во Франции.
Однако же удар, окончательно рассеявший и уничтоживший эти идеи, был нанесен не Декартом и Бейлем, а непосредственно Вольтером и косвенно под влиянием Англии. В семнадцатом столетии почва еще не была достаточно подготовлена. Социальные требования еще не тяготели над обществом. Органы власти были все еще в полной силе и выполняли свои обязанности не с тем механическим равнодушием, каким характеризуется следующее столетие. Принятию скептических идей, как идей дружественных и освободительных, необходимо должно было предшествовать продолжительное знакомство с ними как с идеями враждебными. Они, быть может, никогда ни в каком обществе не получали значения, пока не находили себе союзников во вражеском лагере официальной ортодоксии, и притом, когда эта ортодоксия была еще в состоянии оказывать им сильное общественное сопротивление. Универсальные способности Вольтера создали одно из самых могущественных орудий для проведения этих смелых и пытливых идей в среду людей различных классов и состояний, считая в том числе как многочисленный круг обычных читателей и посетителей театра, так и более ограниченный – знати и правителей; и еще более: блеск и всесторонность его дарований привлекали и возбуждали большинство писателей того времени, давали им определенное направление и сообщали им в некоторой степени свойственную только Вольтеру ловкость в проведении принципов рационалистического мышления.
В результате всего этого оказалось, что громадное число лиц, бывших официально врагами свободной критики, сделались в душе соумышленниками и соучастниками великого заговора. Этот факт, в соединении с независящими от него причинами, как неспособностью лиц, державших власть в своих руках, так или иначе отвечать на вопиющие общественные потребности того времени, был причиной того, что стены Капитолия оказались подкопанными и беззащитными, и только немногие из священных гусей, все еще оставшихся верными, бесполезно гоготали. В первые века влияние христианства, как на это часто указывали, сказывалось даже на тех людях, которые менее всего или вовсе не были тронуты его учением, во всем, что только было в них светлого и правдивого. Еще более верно, что личность Вольтера благодаря ее необыкновенной силе наложила свой отпечаток на склад и жизнь даже тех, кто наиболее упорно держался старого порядка. Поборники авторитета принуждены были поневоле защищать свое дело непривычным для них орудием – рационализмом, и если бы не было Вольтера-писателя, то авторитет никогда бы не имел на своей стороне такого бойца, как, например, Жозеф де Местр, самый знаменитый и способный из реакционеров. В ответ на излюбленное утверждение защитников католицизма, что все хорошее в его врагах есть результат того самого учения, которое они отвергают, можно, по меньшей мере, столь же справедливо утверждать, что заметное изменение к лучшему в самом духовенстве и в его стремлениях в период времени между регентством и революцией[12 - «Je ne sais si, ? tout prendre, et malgrе les vices еclatants de quelquesuns de ses membres, il у eut jamais dans le monde un clergе plus remarquable que le clergе catholique de France au moment ou la Rеvolution l’a surpris, plus еclairе, plus national, moins retranchе dans les seu es vertus privеes, mieux pourvu de vertus publiques et en m?me temps de plus de foi: la persеcution l’а bien montrе». («И если все принять во внимание, то, несмотря на все поразительные пороки некоторых из его членов, я не знаю, было ли когда-нибудь в мире духовенство более замечательное, чем католическое духовенство Франции в тот момент, когда ее охватила революция, – более просвещенное, более народное, менее удовлетворяющееся одними личными добродетелями, наиболее одаренное добродетелями общественными и в то же время верой: преследование ясно показало это».). De Tocqueville A. Ancien rеgime, liv. II, сh. II.] есть услуга, невольно оказанная католицизму теми справедливыми и либеральными идеями, распространению которых так могущественно содействовал Вольтер. Де Местр сравнивает разум, отрицающий теологическое предание, с ребенком, бьющим свою кормилицу; но то же самое сравнение и в такой же мере можно применить и к вере, оказавшей неблагодарность тому разуму, который ее очистил и возвысил.
В перевороте, произведенном Вольтером, наиболее поразительно то, что это единственный в истории великий переворот, который ничем не был связан с аскетизмом и совершил все свои победы, не прибегая к этому средству столь могущественному, непреодолимому и удобному, но вместе с тем и столь опасному. Такие революции всегда бывают реакцией против всеобщей испорченности нравов и мрака невежества. Они являются энергическим протестом наиболее возвышенных способностей и стремлений человеческой природы; но в продолжение некоторого времени – и это как бы неизбежное следствие всякого могучего движения – они, кажется, всецело сосредоточиваются на уничтожении тех партий противоположного лагеря – партий, которые, по-видимому, внесли жизнь в эту среду унижения и позора. С непреклонным гневом и решимостью в душе люди вовсе не заботятся о том, чтобы объяснять, сглаживать резкости и поступать сдержанно, и под влиянием одного из наиболее поразительных инстинктов нашей природы прибегают к системе умерщвления плоти, которая, по их мнению, может очистить души от заразы, царящей вокруг грубости. В таком восторженном состоянии духа, находят спасение только в удалении из общественной жизни, углублении в дела личной совести и суровом отрешении от всех мирских желаний. Немного найдется таких типичных честных людей, которыми по временам – даже в эпохи, наименее проникнутые аскетическим и реакционным духом, и в то время, когда с точки зрения более непосредственной и широкой теории все идет нормальным ходом – не овладевало бы подобное состояние духа: страсть к простоте, строгость к самому себе, дисциплина, во всех мелочах, точная регламентация и действительная чистота жизни.
Вольтерьянство, однако, было чуждо малейшего оттенка аскетизма. Паскаль заметил, что умеренные мнения, именно потому, что они умеренные, так приятны людям, что было бы удивительно, если б они когда-либо оказались неприятны. На это Вольтер возражал: «Напротив, разве опыт не доказывает, что влияние на умы приобретается только в том случае, когда предлагают людям сделать что-либо трудное и даже невозможное, или же уверовать в его возможность? Предложите им что-либо лишь просто не противоречащее здравому смыслу, и весь мир скажет вам: «да мы это и сами знаем». Но укажите им на что-либо трудное, непрактичное, изобразите божество вечно вооруженное громом, заставьте кровь литься пред алтарями – и вы обратите внимание толпы, и каждый скажет о вас: «он, несомненно, прав, иначе он не проповедовал бы так смело столь удивительные вещи»[13 - «Rem, sur les Pensеes de M. Pascal». Oeuvres, vol. XLIII, p. 68.]. Итак, влияние Вольтера вытекало из обращения его не к тем сторонам человеческой природы, на которых строят дело свое приверженцы аскетизма; напротив, прямо и косвенно он указывал на полное проявление, на всестороннюю деятельность всех способностей человеческой природы, и это ключ ко всему его учению. Он не обладал ясностью и спокойствием эллинского миросозерцания, но зато он обладал эллинской восторженностью во всякой сфере умственной деятельности, и эту смелую пытливость духа он делал общим достоянием.
Вспомним, что вольтерьянство прежде всего и по непосредственному своему значению было только умственным движением, так как вначале оно явилось прямой реакцией против подчинения умственной стороны человеческого духа стороне нравственной, – подчинения, которое было доведено до крайности. Истинны ли наши мнения, вполне ли они отвечают существующим фактам, не противоречат ли друг другу? Сияет ли нам разум неподдельным светом знания и поддерживаем ли мы более всего нашу склонность к критическому анализу, усовершенствованию и распространению знания и средств его приобретения? Вольтерьянство имело в виду эти вопросы. Система же, для которой все это было резкой антитезой ее собственной формулы, всегда, даже и в наименее мрачных своих выражениях, зорко оберегала обширный круг наиболее важных фактов от проницательного взора того духа исследования, которым благодаря вольтерьянству люди научились пользоваться при обсуждении всякого предложенного им положения.
В течение многих столетий истину понимали как природу реального, всеобщего (real, universal), о которой люди имели полное представление. Истина органически была одна; отношения людей ко всему сверхъестественному, их взаимные отношения друг к другу, отношения вещей во внешнем мире – все постигалось в едином синтезисе, в пределах которого и подчиняясь которому совершалось всякое умственное движение. Постепенно развивающийся дух исследования разрушил этот синтезис, и философы, занимающиеся упорно не одними только естественнонаучными изысканиями, перестав считать за неоспоримую исходную точку то, что истина была их вполне достоверным достоянием, пошли двумя различными путями. Люди одного склада ума стали сомневаться в том, есть ли истина нечто на самом деле существующее и возможно ли для человечества раскрытие ее. Мыслители другого склада, принимая эту доктрину невозможности для человеческого разума познать и доказать истину, приходили к иному выводу; они возвращались назад и заключали, что, следовательно, древнее предание содержит в себе именно ту достоверную истину, обладание которой было признано невозможным для человеческого знания. Этот косвенный способ снова возвратить себе то положение, от которого они сами, по собственному своему разумению, отказались, был невозможен для такого живого и прямого ума, каков был ум Вольтера. Как бы ни был ум его полон ложными понятиями в разных областях знания – о племени, о спросе и потреблении и в особенности о пещерной жизни, – во всяком случае он был более свободен, чем у большинства и, конечно, чем у большинства этих подначальных приверженцев разных школ, от влияния театральных идолов и от тех двух крайностей, из которых одна слишком поспешно строит положительную и иерархическую систему знаний, а другая впадает в скептицизм и неопределенные изыскания безграничного[14 - Bacon F. Novum Organum. § 67.].
Благодаря такой особенности умственного склада Вольтера – называйте ее пагубной и слепой ограниченностью или же благоразумной и гармонически развитой ясностью ума – три из наиболее влиятельных школ современного мышления осудили Вольтера с беспощадной жестокостью. Всякий, кто отстаивает какую бы то ни было систему, является врагом знаменитого человека, разрушившего господствовавшую в его время систему и такими средствами, которые с одинаковой силой и так же непосредственно могут быть направлены и против всякой другой системы. Всякий, кто только полагает, что мы уже переворачиваем последний лист книги познания, какое бы заглавие ни стояло на ней, искренно и всецело ненавидит направление ума и побуждения человека, всю свою жизнь думавшего, что он и его поколение были первыми пионерами, которые, сбросив с себя цепи, приблизились к солнечному свету и получили возможность созерцать безграничный мир реальных вещей. С этого времени приверженцы западноевропейских религиозных учений стали питать неумолимое презрение и ненависть к врагу, который более всего способствовал низведению их учений, некогда столь гордо торжествовавших, к данному положению, когда они принуждены под разными предлогами и с весьма устарелыми притязаниями защищать благоразумную терпимость на сравнительно скромной почве. Соглашаемся, однако, что эта вражда не покажется чрезмерно поразительной, если только мы вспомним о вызовах со стороны Вольтера.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: