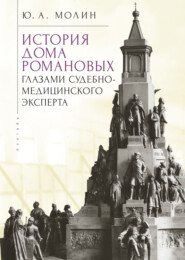скачать книгу бесплатно
Иноземцы-врачи известили бояр, что внутренние органы государя, по причине «накопившихся в них слизей» функционируют ненормально, что ведет к образованию отеков, мокроты, «разжижению крови». Доктора запретили приближенным сообщать царю неприятные известия. На фоне прогрессировавших хронических заболеваний в апреле 1645 года у Михаила Федоровича возникло какое-то острое желудочное расстройство. Врачи пришли к заключению, что «желудок, печень и селезенка по причине накопившихся в них слизей… бессильны от многого сидения, холодных напитков…» (Морозова Л.Е., 1992). Царь Михаил никогда не отличался крепким здоровьем, а вторую половину жизни так «скорбел ножками», что часто не мог ходить, и его возили в возке…организм слабел, нарастала лимфатическая вялость. По конец жизни царя врачи отмечали в нем «меланхолию» (Пресняков А.Е., 1990).
В конце мая врачи «смотрели воду» (мочу) и отметили ее повышенную бледность. Наступило 12 июля, день Ангела государя. Пересиливая слабость после бессонной ночи, царь вышел к боярам, чтобы вместе с ними идти к заутрене. Тихо дойдя до церкви, поддерживаемый под руки, он начал молиться. Внезапно страшная боль возникла в сердце, разлилась по соответствующей половине груди, переместилась в левую руку. Государь упал, потеряв сознание, ударившись головой о резную решетку царского места. Михаила Федоровича осторожно перенесли в опочивальню. Врачи делали ему холодные примочки, окуривали дымом резко пахнущих трав[11 - С позиций современной медицины, эти примитивные «реанимационные» мероприятия были правильными, направленными на стимулирование дыхательного и сосудодвигательного центров путем раздражения периферических рецепторов.]. Царь очнулся, пожаловался, что ему нечем дышать, выпил успокоительный отвар. У постели остался лишь Венделин Сибелиста. Государь заснул… Около 20 часов, на закате солнца, Михаил проснулся и застонал. Отказавшись из-за тошноты принимать лекарства, он потребовал прибытия Патриарха, царицы и наследника, поговорил с ними, затем вновь впал в полузабытье. Около двух часов ночи царь выразил желание исповедаться и приобщиться Святых Тайн. Патриарх тотчас исполнил его желание. Смерть последовала в третьем часу ночи. Академик С.Ф. Платонов (1913), обобщая данные немногочисленных исторических источников (подлинные медицинские сведения не сохранились), сформулировал причину смерти царя как цингу и «меланхолию, сиречь кручину». Поверхностно обобщая разрозненные факты о последних днях жизни Михаила Федоровича, некоторые историки пишут о смерти царя «от болезни желудка», другие связывают его гибель с «водяной болезнью» (Яшлавский А., Дробязко С., 1998), патологией почек (Герман Ф.Л., 1895).
Как оценить эти предположения историков с позиций медицины? Цингу впервые описал еще Гиппократ как состояние, при котором «илеос кровавый… изо рта плохо пахнет, десны отделяются от зубов, из ноздрей течет кровь, язвы на ногах, цвет кожи становится гранитным». В XV–XVIII вв. в Европе наблюдалась высокая заболеваемость цингой. Истинные причины цинги (авитаминоз С) были неизвестны вплоть до XX века. На Руси эту болезнь эмпирически пытались лечить отварами из растений, при этом в зимний период хороший эффект отмечался от применения хвои сосны, ели, кислой капусты, позже, с появлением «заморской торговли», лимонов.
В настоящее время под цингой понимают заболевание, специфические проявления которой: кровоизлияния, анемия, отек и воспаление слизистой оболочки десен и желудочно-кишечного тракта, изменения в костях, изменения зубов обусловлены выпадением участия витамина С в процессах формирования структурных элементов соединительной ткани и кроветворения. Характерный для цинги симптом выраженной слабости связан, как полагают, с дефицитом нескольких витаминов (С, Р, фолиевой кислоты), а также стероидных гормонов коры надпочечников, для синтеза которых требуется аскорбиновая кислота (Рысс С.М., 1963; Адо А.Д., Ишимова Л.М., 1973 и др.).
Возможно, в год смерти с учетом сезона (конец весны – начало лета), Михаил Федорович действительно перенес декомпенсацию хронически протекавшей цинги. Не исключено, что вышеописанная юношеская травма ноги государя осложнилась так называемым гемартрозом – кровоизлиянием в полость коленного сустава, с последующим развитием его тугоподвижности. Такие состояния были специфическими для нелеченной должным образом цинги. Возможно и присоединение к ней каких-то других заболеваний, в том числе, инфекционных, что является очень характерным для этой патологии вследствие снижения выработки в организме антител (вспомним ознобы, т. е. подъемы температуры тела, беспокоившие государя). Вспомним и интересную гипотезу профессора В.Н. Звягина… Все это резко ослабило организм царя и привело к развитию сердечной недостаточности (симптомы которой, в том числе отеки, четко описаны свидетелями), что обусловило непосредственную причину смерти.
* * *
Хоронили царей в кремлевском Архангельском соборе. Ныне вдоль стен Архангельского собора, примыкая к граненым столбам, расположены 46 орнаментированных надгробий с надписями на церковнославянском языке. Над ними, в нижнем ярусе росписей – изображения покоящихся здесь царей, великих князей, военачальников. Все надгробия были накрыты в 1903 году бронзовыми остекленными футлярами. Первым похороненным здесь Великим князем стал Иван Калита. До эпохи Петра I, когда столица была перенесена в Санкт-Петербург, почти все правители Руси были погребены в этом храме. К исключениям относятся первый московский князь Даниил (святые мощи которого покоятся в одноименном московском монастыре), царь Борис Годунов (после ряда перезахоронений погребен в Троице-Сергиевой Лавре). В послепетровскую эпоху из Романовых в Архангельском соборе был похоронен лишь Петр II (1730).
По всей Москве раздавались из царской казны поминальные средства. Деньги щедро жертвовали монастырям, храмам, богадельням – на помин царской души. Раздачи шли и в других городах – здесь они были скромнее московских. По оценкам приказных дьяков на царские похороны уходил годовой доход казны – десятки тысяч рублей серебром. В день похорон пустели московские тюрьмы – всех освобождали без наказания. Вырвавшаяся на волю разбойная братия устраивала царю свои «поминки». «Горе тогда людям, будучим при этом погребении, – писал один из московских жителей в середине XVII века, – потому что погребение бывает в ночи, а народу бывает многое множество, и московских и приезжих из городов и из уездов. А московских людей натура не Богобоязливая – мужеска пола и женского по улицам грабят платье и убивают до смерти. И сыщется в те дни, как бывает царю погребение, мертвых людей убитых и зарезанных больше 100 человек» (Дегтярев А.Я., 1988). Имя усопшего царя заносили в церковные и монастырские Синодики для вечного поминания.
18 августа, пережив мужа лишь на несколько недель, после непродолжительной болезни скончалась вдовствующая царица Евдокия Лукьяновна. Полагают, что помимо смерти Михаила Федоровича, подкосило ее и расстройство свадьбы старшей дочери Ирины Михайловны с принцем датским Вальдемаром; теперь царевне оставалась лишь одна дорога – в монастырь… Умирая, царь не оставил официального завещания. Земский собор 1613 года избрал на престол Михаила Романова, но не соответствующую династию. Это дало основание части бояр поставить под сомнение право на царствование Алексея, сына умершего государя. Только твердая и последовательная позиция родственников и сподвижников Патриарха Филарета и покойного царя – Н.И. Романова, Б.И. Морозова, С.И. Шаховского, Д.М. и Я.К. Черкасских, Ф.И. Шереметева обеспечила преемственность и возможность передачи престола от отца к сыну. Чин венчания на царство Алексея Михайловича 28 сентября 1645 года совершил Патриарх Иосиф в Успенском соборе Московского Кремля.
Вернемся в годы детства второго государя из Дома Романовых… 19 марта 1629 года у царя Михаила Федоровича появился на свет долгожданный наследник, нареченный Алексеем. Таинство Святого Крещения младенца состоялось в Троице-Сергиевом монастыре. По этому случаю во вкладной книге самой чтимой на Руси обители можно прочесть запись от 18 апреля: «Крест золот с мощми и с каменьем с яхонты и лалы, и с жемчюги за 200 рублев… Келарь старец Александр положил на государя царевича князя Алексея Михайловича всеа Русии в его, государево, крещение» (Преображенский А., 1997).
В Теремном дворце Московского Кремля сохранились пять мемориальных палат, служивших жилыми покоями сначала Михаилу Федоровичу, затем его сыну Алексею. Первая из комнат называется Передней, или Проходными сенями. Здесь, под сводчатыми потолками с росписями, изображающими Иисуса Христа в окружении апостолов и архангелов, бояре ожидали выхода царя. В назначенный для начала заседания час они переходили в Крестовую палату, где был установлен трон, и под руководством государя начинали работу. В этой же комнате хранились документы об избрании М.Ф. Романова на царство и Акты об утверждении Патриаршества престола в России. Третья комната – Престольная – была рабочим кабинетом царя, где он просматривал государственные бумаги и челобитные из специального ящика, который был доступен любому простолюдину. Последние комнаты – опочивальня и молельня, были открыты лишь для членов царской семьи и духовных лиц. Винтовая лестница рядом с Престольной палатой вела вниз, где размещалась баня, и вверх, где находилась детская сыновей царя, в Златоверхий теремок. Отсюда и возникло название всего дворца.
Алексей был третьим ребенком в семье, первым из сыновей, и рос здоровым мальчиком. Он прошел полный курс древнерусского образования, или словесного учения, как тогда говорили. По заведенному порядку тогдашней педагогики на шестом году его посадили за книгу, нарочно для него составленную по заказу дедушки, Патриарха Филарета, – известный древнерусский букварь с титлами, заповедями, кратким Катехизисом. Учил царевича, как это было принято при дворе, дьяк одного из московских приказов. Через год перешли от азбуки к чтению Часовника, месяцев через пять – к Псалтыри, еще через три принялись изучать Деяния апостолов, через полгода стали учить писать, на девятом году регент дворцового хора начал разучивать Октоих, нотную богослужебную книгу, от которой месяцев через восемь перешли к изучению «страшного пения», т. е. церковных песнопений Страстной Седмицы, особенно трудных по своему напеву (Ключевский В.О., 1957).
Научившись чтению, письму, счету, основам богословия и церковной истории, Алексей изучил географию, историю, начала ратного дела. К двенадцати годам у царевича была маленькая библиотека. С пяти лет его дядькой-воспитателем стал боярин Борис Иванович Морозов – сорокачетырехлетний царедворец, сосредоточивший в своих руках многие нити государственного управления. Он был просвещенным человеком, общался с европейцами, наряжал своего воспитанника в немецкое платье. После того как умерли отец и мать Алексея, шестнадцатилетний царь всецело доверился своему дядьке, который сразу же возглавил руководство четырьмя важнейшими приказами.
Через два года после восшествия на престол Алексей Михайлович решил жениться и, действуя, как отец, велел привезти в Москву знатных красивых девушек. Выбор из нескольких сотен соискательниц короны «одной, единственной», в сравнении с женитьбой Михаила Федоровича, стал сложным, проходил в несколько этапов. После первых собеседований с ближними боярами из тысячной толпы красавиц осталась едва половина. Одни безжалостно отбраковывались «по скудоумию», другие – потому что «руки были весьма худы», иные ростом не вышли. Имущественный ценз невест в расчет не принимался. Известно, что Мария Ильинична Милославская, первая супруга Алексея Михайловича, была из бедного дворянского рода. Наталья Кирилловна Нарышкина, вторая жена Тишайшего царя, – та вообще, по свидетельству ее заклятого недруга Шакловитого, «по Смоленску в лаптях ходила». Достоинства будущей царицы определялись другими категориями. Прежде всего она должна была быть «женщиной доброй ростом, красотой и разумом исполненной». Поскольку оценить достоинства царской невесты при пышных одеждах, в которые она облачалась, было затруднительно, то на определенном этапе действа, кроме «дохтуров», привлекались особо доверенные боярыни и повивальные бабки, чтобы «самые сокровенные части тела не остались без подробного рассмотрения». Боярыни и бабки должны были высказать и предварительное заключение о способности невесты к «чадородию». «Дать наследника царю» было главным предназначением цариц, их государственной обязанностью.
Наконец наступил день, когда из тщательно профильтрованного контингента осталось лишь несколько девушек. Пробившихся в финал этого смотра представили непосредственно царю-жениху. Происходило это в специально отведенном доме. Царь подолгу беседовал с каждой и «после многих испытаний» принимал окончательное решение. Для его объявления вновь собирались девушки, и царь вручил одной из них кольцо и ширинку (расшитый золотом и унизанный жемчугом платок) – знаки того, что она становится невестой.
Царская женитьба обычно совершалась в обстановке придворных интриг и заговоров: те, кого данный брак не устраивал, стремились всеми способами его расстроить и иногда добивались этого. Так случилось и на сей раз. Первая невеста Алексея Михайловича была выбрана обычным путем: сначала из числа 200 свезенных в Москву кандидаток специальная комиссия отобрала шестерых, а из них сам царь избрал одну – Евфимию Всеволожскую, дочь касимовского помещика. Готовя ее к церемонии наречения царевной, ей нарочно (?) так туго стянули волосы (или головной убор – венец), что во время самой церемонии с ней случился обморок. Сразу же был распространен слух, что у невесты царя «падучая болезнь». И хотя обморок потом не повторялся, она была признана негодной к роли царицы и выслана с родителями в Тюмень (а не умерла, как можно понять из текста Г. Котошихина (1983)). Здесь видна рука всесильного временщика Б.И. Морозова, который намеревался жениться сам таким образом, чтобы, породнившись с государем, обезопасить себя от соперничества с новыми царскими родственниками. Так и случилось 16 января 1648 года, когда царь вступил в брак с М.И. Милославской, а десять дней спустя Морозов женился на ее сестре. Мария Ильинична, став царицей, за двадцать лет родила тринадцать детей – восемь девочек и пять мальчиков. Из них впоследствии только трое сыграют свою роль в истории – царевна Софья и царевичи Федор и Иван.
Все, кто знал Алексея Михайловича и писал о нем, единодушно утверждали, что он отличался искренним благочестием и глубокой нравственностью. Царь, любивший умную беседу за столом, пробовавший писать стихи, интересовавшийся архитектурой и живописью, быстро почувствовал вкус к зарубежным новшествам. Когда в России появился кофе – сказать сложно. Многие связывают его появление с Петром I, который ввел в быт традицию послеобеденной чашечки кофе и требовал употребления этого напитка на своих ассамблеях. Но уже во времена Алексея Михайловича придворный лекарь Самюэль Коллинс прописывал царю рецепт: «Вареное кофе, персиянами и турками знаемое, […] изрядное есть лекарство против надмений, насморков и главоболений» (Романов П.В., 2000). Случилось так, что ближе прочих стал Алексею Михайловичу Артамон Сергеевич Матвеев – глава Малороссийского приказа. Его дом украшали венецианские зеркала и картины западных мастеров; оригинальности его часов, изысканности посуды и богатству библиотеки дивились иноземные послы. Царь часто навещал Матвеева, приводя тем в недоумение многих своих родных.
В семейной жизни Алексея Михайловича конца 60
– начала 70
годов XVII века произошли печальные перемены. Один за другим ушли из жизни сыновья Симеон (1665–1669) и Алексей (1654–1670). Рождение в царской семье 27 февраля 1669 года восьмой дочери, Евдокии, стало прологом семейной трагедии Алексея Михайловича. Младенец скончался через сутки, а родильница занемогла. Хлопотавшие возле нее лекари Даниил фон Гаден и Давид Берлов не могли остановить послеродовое маточное кровотечение. Черты смуглого, «кровь с молоком», полного лица царицы заострились, смертная белизна покрыла щеки, синева залегла вокруг глаз. Вскоре к кровотечению присоединилась лихорадка – Марию Ильинишну бил озноб, «палил нутряной жар». Заключение врачей гласило – «огневица». Были назначены лед на живот, кровоостанавливающие средства – отвар корня барбариса, настои кровохлебки и зверобоя. Однако лечение не помогало, жизнь медленно покидала тело государыни вместе с утекавшей кровью. Тяжелый запах гнойных выделений заполнил спальню. Отчаявшийся Алексей Михайлович, после окропления больной святой крещенской водой, дал разрешение на применение официально запрещенных средств. Были призваны знахарки, которые шептали заклинания над мисками, наполненными горячими углями, бросали туда щепотки соли, вкладывали в ладони царицы лечебные «кровоостанавливающие» камни – египетскую серо-зеленую яшму. Все было тщетно. 3 марта 1669 года Мария Ильинишна скончалась.
Посмертный эпикриз, говоря языком современной медицины, может быть сформулирован следующим образом: смерть последовала от послеродового атонического кровотечения, обусловленного слабым сокращением матки, с присоединением инфекции, вызвавшей гнойный метроэндометрит (воспаление матки), и, наиболее вероятно, сепсис (или, как говорят в быту, «заражение крови»). Усопшую погребли в Вознесенском девичьем монастыре. Алексей Михайлович тяжело переживал смерть жены, с которой прожил двадцать лет. Несколько месяцев он постился, пребывая в глубоком трауре, подолгу молился за упокой души рабы Божией Марии.
Однажды, заехав к боярину Матвееву, обратил он внимание на красивую молодую девушку, жившую у своего богатого родственника. Ее звали Натальей Кирилловной. Так же, как и первый тесть царя – Илья Данилович Милославский, отец девушки, Кирилл Полиевктович Нарышкин, был бедным дворянином. Однако благодаря протекции Матвеева он стал полковником стрелецкого полка. Девушка была не только красива и хорошо воспитана, но и умна, добра. Все это сокрушило сердце сорокалетнего вдовца, и он решил на ней жениться. Чтобы соблюсти обычаи старины, царь, объявив о своем намерении, имени невесты не назвал, а назначил сбор кандидаток для смотрин. На сей раз они продолжались семь месяцев – с ноября 1669 по май 1670 года. Пересмотрев десятки претенденток, царь остался верен своему выбору, и 22 января 1671 года состоялось венчание Алексея Михайловича и Натальи Кирилловны.
Через семь месяцев после свадьбы, в ночь на 29 августа 1671 года, астроном и монах Симеон Полоцкий заметил недалеко от планеты Марс новую, не виданную им звезду. Симеон был первым в России придворным стихотворцем и главным воспитателем детей Алексея Михайловича. Кроме того, он считался авторитетнейшим богословом, чьи книги высоко ценились иерархами Русской Православной Церкви. Симеон имел свободный доступ к царю и на следующее утро явился к Алексею Михайловичу, чтобы сообщить ему о новой звезде. Беря на себя изрядную смелость, звездочет объявил царю, что его жена зачала в эту ночь сына и родит его 30 мая 1672 года. Симеон не ограничился этим, а высказал и пророчество о царевиче: «Он будет знаменит на весь мир и заслужит славу, какой не имел никто из русских царей. Он будет великим воином и победит многих врагов. Он будет встречать сопротивление своих подданных и в борьбе с ними укротит много беспорядков и смут. Искореняя злодеев, он будет поощрять и любить трудолюбивых, сохранит веру и совершит много славных дел, о чем непреложно свидетельствуют и предсказывают небесные светила» (Балязин В.Н., 1995). С этой минуты осторожный Алексей Михайлович приставил к дому ученого монаха караул и снял его только тогда, когда убедился, что его жена действительно забеременела. 28 мая у царицы начались предродовые схватки, и царь призвал Симеона к себе. Роды были трудными. Однако инок уверил царя, что все окончится благополучно, а новорожденного следует наречь Петром.
Вот как об этом эпизоде писал историк М.П. Погодин (1854): «При начале родильных скорбей Симеон Полоцкий пришел во дворец и сказал, что царица будет мучиться трое суток. Он остался в покоях с царем Алексеем Михайловичем. Они плакали и молились. Царица изнемогала так, что на третий день сочли нужным приобщить ее Святых Тайн; но Симеон Полоцкий ободрил всех, сказав, что она родит благополучно через пять часов. Когда наступил пятый час, он пал на колени и начал молиться о том, чтоб царица помучилась еще час. Царь с гневом рек: “Что вредно просишь?” – “Если царевич родится в первом получасе, – отвечал Симеон, – то веку его будет пятьдесят лет, а если во втором, то доживет до семидесяти”. И в эту минуту принесли царю известие, что царица разрешилась от бремени и Бог дал ему сына…». Это случилось в Кремлевском дворце 30 мая 1672 года, в день Святого Преподобного Исаакия Далматского, в четверг. Ребенок был длиной в одиннадцать, а шириной в три вершка, то есть длиной в пятьдесят, а шириной – в четырнадцать сантиметров. Младенца крестили в Кремлевском Чудовом монастыре, в храме Чуда Михаила Архангела. Крестным отцом был царевич Федор, а крестной матерью старшая сестра государя Ирина Михайловна.
Алексей Михайлович до конца своих дней остался прекрасным семьянином, и его новое супружество было благополучным. При жизни царя не возникало серьезных проблем в семье государя. Однако подспудно зрел конфликт между родственниками первой и второй жены царя. Алексей Михайлович, видимо, не изменил своего отношения к Милославским, но, естественно, в гору пошли представители рода Нарышкиных. Главная схватка соперничавших кланов была впереди…
* * *
Каким же был Алексей Михайлович по внешности, характеру, что любил носить, чем занимался в свободное от государственных дел время? Попытаемся реконструировать «исторически верный» образ этого государя. Для этого имеются многие объективные данные: прижизненные портреты, свидетельства современников, собственноручные письма. Довольно устойчиво в исторической литературе Алексею Михайловичу ставят в вину податливость на влияния его окружения. Сначала все определял Б.И. Морозов, затем Патриарх Никон, А.Л. Ордин-Нащокин и, наконец, А.С. Матвеев. Не отрицая роли этих выдающихся деятелей в принятии важных решений, можно заметить, что Алексей Михайлович позволял собой «руководить» не по слабости характера или недостатку ума, а лишь тогда, когда это влияние соответствовало его внутренним побуждениям.
Всего больше оставил он писем к разным лицам. В этих записях много простодушия, веселости, задушевной грусти, просвечивает понимание людских отношений, меткая оценка житейских мелочей, но не заметно ни смелых оборотов мысли, ни злой иронии – ничего, чем так обильны послания Грозного. У царя Алексея все мило, многоречиво, живо, но сдержанно, мягко. «Автор, очевидно, человек порядка, а не идеи и увлечения, готового расстроить порядок во имя идеи; он готов был увлекаться всем хорошим, но ничем исключительно, чтобы ни в себе, ни вокруг себя не разрушить спокойного равновесия. Склад его ума и сердца с удивительной точностью отражался в его полной, даже тучной фигуре, с низким лбом, белым лицом, обрамленным красивой бородой, с пухлыми румяными щеками, русыми волосами, с кроткими чертами лица и мягкими глазами» (Ключевский В.О., 1963).
Современники рисуют привлекательный внешний облик Алексея Михайловича. Царь был достаточно высокого роста, белолицый, румяный, русоволосый. Голубые глаза смотрели внимательно и нередко кротко. Вероятно, у государя были свои «парикмахеры». 21 января 1675 года по царскому указу было дано стремянному конюху Михаилу Ерофееву пятнадцать рублей за то, что он «в навечерии Рождества Христова у великого государя власы легчил против прежнего». Он держался величаво, но не производил впечатления недоступного для общения. Вспыльчивость и быструю отходчивость царя приписывают доброте его нрава. Вот как описывал одеяние Алексея Михайловича крупнейший знаток нравов и быта Руси XVII века А.П. Чапыгин (1986): «одет был царь в бархатный серый кафтан с короткими рукавами… Запястья шиты золотом, немецкого дела на голове соболиная шапка, воротник и наушники на отворотах низаны жемчугом, полы кафтана вышиты золотом, кушак рудо-желтый… на нем кривой нож в серебряных ножнах, ножны и рукоятка украшены красными лалами и голубыми сапфирами, в руке царя черный посох, на рукоятке золотой шарик с крестом».
Этот же писатель привел колоритную, исторически верную картину царского дворца второй половины XVII века: «В царской палате, у окна в углу, – узорчатая круглая печь; дальше, под окнами – гладкие лавки… на точеных ножках; у лавок спереди деревянные узоры, похожие на кружево. Потолок палаты золоченый, своды расписные. На потолке писаны Угодники; иные в схимах… На стенах по тусклому золоту – темные головы львов и орлов с крыльями. Выше царского места, за столом, крытым красным сукном с золоченой бахромой, на стене образа с кругом венцов в жемчугах и алмазах. От зажженных лампад пахнет деревянным маслом и гарью. Из крестовой тянет ладаном: царь молится. На царском столе часы фряжские: рыцарь в серебряном шлеме, в латах. Тут же серебряная чернильница, песочница такая же и лебяжьи очиненные перья да вместо колокольчика позывного золотой свисток. В стороне по левую стол, покрытый черным. Над столом согнулись к бумагам дьяки… Дьяк думный в шапке, похожей на стрелецкую, с красным верхом, верх в жемчугах, шапка опушена куницей. У дьяка на шее жемчужная тесьма с золотой печатью… На лавках, ближе к царскому месту, два боярина в атласных ферязях с парчовыми вошвами на рукавах узорчатых, шитых в клопец…».
Рассказывая об особенностях быта первых Романовых, нельзя обойти и тему организации питания, в первую очередь, его безопасности для государей. Вот как описывает этот процесс П.В. Романов (2000): «перед столовой располагался так называемый “кормовой поставец” – стол, на который ставились подносы с яствами для государя, которые внимательно осматривал дворецкий. Существовал порядок, по которому любая еда для монарха проходила строжайшую апробацию. В поварне его пробовал на глазах стряпчего повар, готовивший это блюдо. Затем охрана блюда возлагалась на самого стряпчего, который надзирал за ключниками, несшими поднос. Еда расставлялась на кормовом поставце, где каждое блюдо отведывал ключник, что принес его. Затем пробу снимал дворецкий и лично передавал миски стольникам. Стольники стояли с блюдами у входа в столовую, ожидая, когда их вызовут. Из их рук кушанья принимал охранитель стола. Только ему доверялось подавать еду государю. Причем он также на глазах у правителя пробовал с каждого блюда и именно с того места, на которое указывал государь. Аналогичная ситуация происходила с напитками. Прежде чем вина доходили до чашника и попадали на питейный поставец, их опробовали ровно столько раз, в скольких руках они побывали. Последним, на глазах царя, пробовал вино чашник, отливая себе из кубка в специальный ковш».
Сохранилась весьма характерная в своем роде записочка царя Алексея, коротенький конспект того, о чем предполагалось говорить на заседании Боярской думы. «Этот документ показывает, как царь готовился к думским заседаниям: он не только записал, какие вопросы предложить на обсуждение бояр, но и наметил, о чем говорить самому, как решить тот или другой вопрос. Кое о чем навел справки, записал цифры; об ином он еще не составил мнения и не знает, как выскажутся бояре; о другом он имеет нерешительное мнение, от которого откажется, если станут возражать. Зато по некоторым вопросам он составил твердое суждение и будет упорно за него стоять в совете: это именно вопросы простой справедливости и служебной добросовестности» (Ключевский В.О., 1957).
В зрелые годы царь Алексей представлял в высшей степени привлекательное сочетание добрых свойств верного старине русского человека с наклонностью к полезным новшествам. Он был образцом набожности, того точно размеренного и твердо разученного благочестия, над которым долго работало религиозное чувство древней Руси. С любым иноком мог он поспорить в искусстве молиться и поститься: в Великий и Успенский пост по воскресеньям, вторникам, четвергам и субботам царь кушал раз в день, и кушанье его состояло из капусты, груздей и ягод – все без масла; по понедельникам, средам и пятницам во все посты он не ел ничего. В церкви он стоял иногда часов по пяти и по шести сряду, клал по тысяче земных поклонов, а в иные дни и по полторы тысячи. Это был истовый древнерусский богомолец. «В продолжение службы царь ходил среди монахов и учил их читать то-то, петь так-то; если они ошибались, поправлял их, вел себя уставщиком и церковным старостой, зажигал и гасил свечи, снимал с них нагар, во время службы не переставал разговаривать со стоявшим рядом приезжим Патриархом, был в храме, как дома» (Ключевский В.О., 1957).
Алексей Михайлович «в Верху» кормил до ста нищих, оделяя каждого сверх того деньгами. По улицам велел развозить продукты, предназначенные в качестве милостыни – иногда до тысячи «двуденежных» хлебов. Достаточно часто царь ходил по московским богадельням, раздавал деньги и харчи. Таких богаделен действовало несколько: Ильинская, Моисеевская, «на Кулишках», у Боровицкого моста, Покровская и др. Особое внимание обращалось на увечных и больных. Как могли, их лечили за казенный счет.
Дурные поступки других тяжело действовали на царя всего более потому, что возлагали на него противную ему обязанность наказывать за них. Гнев его был отходчив, проходил минутной вспышкой. Царь первый шел навстречу к потерпевшему с прощением, стараясь приласкать его, чтобы не сердился. Страдая тучностью, Алексей Михайлович раз позвал немецкого «дохтура» открыть себе кровь; почувствовав облегчение, он по привычке делиться всяким удовольствием с другими предложил и своим вельможам сделать ту же операцию. Не согласился на это один боярин Родион Стрешнев, его родственник по матери, ссылаясь на свою старость. Царь вспылил и прибил старика, приговаривая: «Твоя кровь дороже что ли моей? Или ты считаешь себя лучше всех?». Но скоро государь и не знал, как задобрить обиженного, чтобы не сердился, забыл обиду… «На хвастуна или озорника царь вспылит, пожалуй, даже пустит в дело кулаки, если виноватый под руками, и уж непременно обругает вволю: Алексей был мастер браниться тою изысканною бранью, какой умеет браниться только негодующее и незлопамятное русское добродушие» (Ключевский В.О., 1957).
Как писал С.М. Соловьев (1963), «для человека, замкнутого постоянно среди немногих явлений бедной жизни, обыкновенно является стремление искусственными средствами, вином и опиумом или чем-нибудь другим переходить в иное, возбужденное состояние, производить искусственно веселое состояние духа, переноситься в другой, фантастический мир, “забываться”. Сам благочестивый и нравственный Алексей Михайлович любил иногда “забываться”. В 1674 году 21 октября было у государя вечернее кушанье в потешных хоромах, ели бояре “все без мест”, думные дьяки и духовник. После кушанья изволил себя тешить всякими играми, играл в немчин, и в сурну, и в трубы трубили, и в суренки играли, и по накрам, и по литаврам били; жаловал духовника, бояр и дьяков думных, напоил их всех пьяных, поехали в двенадцатом часу ночи…». Здесь следует заметить, что в 1652 году по совету Патриарха Никона было поставлено на Соборе: «…продавать по одной чарке человеку, и больше той чарки одному человеку не продавать, и на кружечных дворах и близко от двора питухам (т. е. пьяницам) ожидать и пить давать им не велено… Ни в долг, ни под заклад вина не отпускать». Во время постов, по воскресеньям, средам и пятницам вино совсем не отпускалось, а в остальные дни продажа вина начиналась только «после обедни и прекращалась за один час до вечерни». Эти правила просуществовали недолго, и во времена Петра были отменены. Именно в годы правления Алексея Михайловича сложилась технология тончайшей очистки монопольной русской водки, не имевшая аналогов в винокурении Европы. Сначала хлебное вино отстаивали, затем подвергали резкому охлаждению на морозе. Водку большими партиями замораживали в бочонках с отверстиями, через которые затем сливали незамерзавший спирт, а воду с фиксированными в ней сивушными маслами выбрасывали. Затем проходил процесс фильтрации (через сукно, войлок, полотно, речной песок, золу, древесный уголь). После этого применялись биокоагулянты – молоко, яичный белок, ржаной свежеиспеченный хлеб…
Одновременно царю было свойственно художественно-эстетическое восприятие окружающего. Заказы на иконы и картины царь поручал наиболее одаренным и опытным мастерам из соотечественников и иностранцев. Алексей Михайлович высоко ценил искусство Ушакова, который много лет руководил живописными работами в царских покоях. В связи с новосельем князей Юрия Алексеевича и Михаила Юрьевича Долгоруких (1674 год) царь торжественно преподнес им образ Покрова Пресвятой Богородицы работы Симона Ушакова. Алексей Михайлович не отказывался от позирования художникам, писавшим его портреты. В 1669 году С. Ушаков на полотне изобразил портрет царя, подаренный затем Патриарху Александрийскому Паисию. Художник С. Лопуцкий писал портреты с «живства», т. е. с натуры. Хорошо известен портрет Алексея Михайловича его работы. После смерти царя Федора Алексеевича в его покоях были найдены портреты его отца, брата Алексея, царицы Марии Ильиничны. Иван Салтанов, известный художник того времени, в 1671 году поднес царю на Пасху «5 персон разными статьями». Он же изобразил царя Алексея Михайловича «в успении» (посмертный портрет).
В круг интересов государя входила и охота. Он не жалел средств на содержание слуг, которые обеспечивали царю «потеху», а также на уход за птицами. Одних сокольников у Алексея Михайловича считалось до двухсот человек. Соколов, кречетов, ястребов надо было кормить свежим мясом – для этого держали тысячи голубей. Судя по письму Алексея Михайловича А.И. Матюшкину, царю также доставляло удовольствие купать в пруду стольников, опоздавших на ежедневный смотр. После водных процедур провинившихся усаживали за стол и подавали горячительное с закуской. Некоторые нарочно опаздывали, чтобы таким способом попасть в поле зрения государя (Преображенский А., 1997).
Алексей Михайлович вошел, с легкой руки В.О. Ключевского, в историю с прозвищем «Тишайший». Оно, верно характеризуя личность и методы правления этого государя, особенно в сравнении с последними Рюриковичами, тем не менее, имеет иной смысловой источник. «Тишайший» – один из вариантов перевода с латинского на русский язык традиционного титула западноевропейских государей – «Clementissimus» (милостивейший).
Бросим беглый взгляд на основные события этого царствования. Отличительная особенность правления Алексея Михайловича – размах народных выступлений, принимавших нередко форму открытых восстаний. Современники назвали время первых Романовых «бунташным веком». Крестьянская война 1667–1670 гг. (под руководством Разина), серия городских восстаний середины столетия, знаменитые «Соляной» и «Медный» бунты[12 - «Соляной бунт» – восстание бедноты в Москве в июне 1648 г. Причиной волнений стало введение налога на соль. Для успокоения народа царь распорядился выдать восставшим одного из инициаторов поборов – судью Земского приказа Л.С. Плещеева, который был убит толпой. «Медный бунт» – народное восстание в Москве в июле 1662 г., связанное с монетарной реформой правительства, испытывавшего финансовые трудности, и последовавшим ростом цен.], стрелецкие волнения 1682 года – вот неполный перечень народных выступлений. Правительство ответило на волнения укреплением законодательной базы. Основным документом в этом плане явилось Соборное уложение 1649 года[13 - Соборное уложение 1649 г. – кодекс законов России – представляет собой столбец (свиток) длиной 309 м, составленный из отдельных листов, подклеенных один к другому; текст писался лишь с одной стороны (на другой свои пометки делали дьяки). Он был случайно обнаружен на Казенном дворе Кремля в 1767 г. при разборе одного из сундуков для хранения документов и торжественно переложен в серебряный позолоченный ларец. В нем он и находится сейчас в РГАДА.]. Преступления против государя Уложение отнесло к числу наиболее тяжких преступлений. Одновременно стало падать значение боярской думы, произошло прекращение с 1653 года созывов земских соборов с одновременным усилением роли Приказов, непосредственно подчинявшихся царю. По стилю своей деятельности Алексей Михайлович стал прямым предшественником Петра I с его стремлением все держать в своих руках, совершенствовать зависимый от монарха бюрократический аппарат. Уложение ограничило и власть Патриарха, запретило духовенству приобретать вотчины. Вновь утвержденный Монастырский приказ урезал привилегии Церкви. Орудием личного контроля монарха над жизнью общества стал Приказ тайных дел. Это была собственная канцелярия царя, в которой решались вопросы, лично его интересовавшие. Он сам нередко посещал Приказ, где работал за столом, для него специально оборудованным. «А устроен тот приказ при нынешнем царе для того, – сообщал подьячий Григорий Котошихин (1983), – чтобы его царская мысль и дела исполнялись все по его хотению, а бояре б и думные люди о том ни о чем не ведали». Через Тайный приказ велась шифрованная переписка по делам особой государственной важности.
Особое место в материалах Приказа, ныне сосредоточенных в двадцать седьмом разряде РГАДА, занимают сыскные дела по подозрению в преступных умыслах против государя. Нередко в посягательстве на царское здоровье обвинялись лица, совершавшие мелкие, незначительные проступки. Однажды жестоким пыткам на дыбе подверглась комнатная бабка, вся вина которой состояла в том, что она украдкой взяла на дворцовой кухне щепотку соли. По Уложению появление на царском дворе с луком или пищалью каралось битьем битогами и тюремным заключением, а обнажение холодного оружия при государе – отрубанием руки. В 1660 году один из придворных был приговорен к отсечению правой ноги и левой руки за то, что выстрелил по галкам на царском дворе. В 1674 году бил челом государю стряпчий Иван Хрущов на стряпчего Александра Протасьева, «что он Александр, на его великаго государя дворе прошиб у него Иван Хрущова кирпичем голову. Государь указал сыскать думному дворянину и ловчему А.И. Матюшкину; а по сыску Протасьев, вместо кнута, бит батоги нещадно, за то, что он ушиб Хрущова на его государеве дворе, перед ним великим государем. Да на нем же Александре велено доправить Хрущову безчестья вчетверо» (Забелин И.Е., 1990).
Тайный приказ занимался делами и куда более серьезными, действительно грозившими безопасности монарха. В бумагах Приказа имеется собственноручная записка царя с перечислением десяти вопросов, которые следственной комиссии надлежало задать Степану Разину. Дознание начиналось вопросом «о князе Иване Прозоровском и о дьяках, за што побил?…». Кстати, Тайный приказ был причастен к устройству семейных дел самого Алексея Михайловича. В фонде учреждения сохранился список девиц, вызванных в 1669 году в Москву на смотрины царских невест (Автократова М.И., Буганов В.И., 1986).
* * *
Рассказывая об Алексее Михайловиче, невозможно не упомянуть о Патриархе Никоне и том трагическом явлении в жизни Русской Православной Церкви, государства, всего народа, которое получило наименование «Раскол». Реформа началась рассылкой Патриархом перед Великим Постом в 1653 году по московским церквам «памяти», в которой указывалось уменьшить число земных поклонов на службе Святого Ефрема Сирина и креститься тремя перстами. Некоторые изменения в Символе Веры – перечне догматов Православия, были внесены реформаторами после сличения с греческим оригиналом, однако, раскольники относились к сакральному тексту как к неизменяемой основе и не вняли аргументам никониан. Объявляя старые обряды «неправильными», реформаторы вольно или невольно должны были усомниться как в истинности Православия древних русских святых, отправлявших службы по старым книгам, так и в решениях Стоглавого собора 1551 года, канонизировавшего «старины».
Некоторые ученые считают, что с точки зрения исторических фактов были правы протоиерей Аввакум и его союзники: не русские, а греки отступили от традиции. Русь приняла христианство по Студийскому уставу (который в Греции был позднее вытеснен Иерусалимским), сохранив старые обряды до середины XVII века. Древней формой было двоение слова «Аллилуйя» (евр. – «хвалите Господа») – церковного славословия. Троеперстному крестному знамению на православным Востоке предшествовало двоеперстие. «Старое» двоеперстие в Византии сохранялось еще в XII веке. Раскол был, однако, вызван не только церковной реформой. Конфессиональные расхождения наложились на социальные. Старообрядцы не принимали «самодержавства» царя в церковных вопросах, падения роли епископов. В «порче» нравов духовенства, в социальном неблагополучии, в росте западного влияния они обнаруживали «знамения прихода Антихриста». Ожидание эсхатологических событий поддерживало раскольников в тюрьмах и на кострах. Однако ни сопротивление духовенства, ни ропот народа не заставили правительство отступить от реформы. В 1652 году, став Патриархом, властолюбивый Никон, «Собинный друг» царя, принял титул «великого государя». Царским именем Патриарха начали называть в год вступления на престол; в 1653 году он уже рассылал от своего «государева» имени грамоты воеводам. Глава Церкви входил в деятельность Приказов, отдавал предписания воеводам, был инициатором военных кампаний. Среди бояр стало расти недовольство «худородным» Никоном, уменьшившим их влияние и узурпировавшим царскую власть. Вмешательство в дела епископий и митрополий восстановило против Патриарха церковных иерархов. Столкновение было неизбежным. В июле 1658 года Никон оставил Москву и удалился в Воскресенский монастырь (Каптерев Н.Ф., 1913). Прощальное письмо Патриарха царю перед оставлением столицы гласило: «Се вижу на мя гнев твой умножен без правды и того ради и Соборов святых во святых церквах лишаешись, аз же пришлец есть на земли и се ныне, дая место гневу твоему, отхожу от града сего… и ты и наши ответ перед Господом Богом о всем дати. Никон». Посланцу царя, князю А.Н. Трубецкому, передавшему Никону царское повеление не покидать Патриаршества, Никон ответил: «И ныне, и присно, и вовеки! Мой государь – Господь Бог! Нет иных государей, чтоб повелеть мне!» – и, сняв патриаршую мантию и клобук, в одной монашеской рясе вышел из Успенского собора (Шушерин И.К., 1908). Потекли годы добровольного затворничества в далеком северном монастыре. Казалось бы, жизненный путь бывшего Патриарха завершится тихо и незаметно, в иноческой келье. Однако Господь судил иное. Судьба Никона в очередной раз совершила неожиданный поворот. Замечательный русский писатель, знаток событий XVII века Д.А. Мордовцев образно рассказал о последних днях жизни Владыки в своем знаменитом романе «Великий раскол»…
Когда в конце января 1676 года умер «тишайший» Алексей Михайлович и преемник его, Федор Алексеевич, послал к Никону с дарами просить у старика прощения и разрешения покойному царю «на бумаге», то Патриарх по обыкновению заупрямился. «Бог его простит, – отвечал он, – ино в страшное пришествие Христово мы будем с ним судиться; я не дам ему прощения на письме!». В Кириллове Никон таял с каждым днем. Он с трудом передвигал от старости свои больные и усталые ноги, посхимился, готовился к смерти. Об этом донесли куда следует: умирает-де старец Никон, как и где похоронить его? И тогда из Москвы пришла милость: порадовать «заточника» свободой. Патриарха отправили в Воскресенский монастырь, любимое его детище. Больного Никона привезли на берег Шексны, посадили в струг и по его желанию поплыли вниз к Ярославлю, а оттуда к Нижнему Новгороду. Хотелось ему перед смертью взглянуть на родное село, потом на любимый Воскресенский монастырь, а там и на Москву, послушать в последний раз звон колоколов всех сорока сороков, вспомнить патриаршество, свое царство, как они делили его с покойным другом Алексеем Михайловичем. Стоял август 1681 года. Дорогой, во время плавания, погода стояла сухая, теплая, ясная. Целые дни сидел он, а больше лежал на своей дорожной постели, кутая холодеющие ноги и глядя на воду, на медленно убегающие берега реки, на рощи, синеющие вправо и влево, на красивые изломы гор, на людей, выбегавших на берег посмотреть на плывущий откуда-то струг, на сумрачное, с усталыми глазами, лицо старого, неведомого монаха…
Чем дальше двигался струг, тем быстрее впереди его бежала весть, что везут Патриарха Никона – имя, тридцать лет гремевшее на Руси, благословляемое и проклинаемое; имя, когда-то возглашавшееся вместе с царским, а потом опозоренное, отверженное. 17 августа струг с «великим заточником» от Толгского монастыря, что против Ярославля, плыл к другому, нагорному берегу и входил в реку Которость. Целая флотилия лодок следовала за ним. На берегу толпились массы народа, светские власти. К стругу пристала большая лодка с московским духовенством, и на борт смиренно, с поникшею головою, взошел архимандрит Сергий, тот самый, который когда-то в Соловках, на Соборе, издевался над Никоном, когда его, свергнутого с патриаршества, везли в ссылку. Сергий, подойдя к ложу Никона, припал головою к днищу струга… «Се Почайна[14 - Приток Днепра, в котором в 988 году произошло крещение киевлян.], а се людие мои, Господи!» – радостно пробормотал Патриарх. Народ, которого увлечения не знают границ, обезумел от умиления. Струг, как щепку, вынесли руки восторженного люда на берег, и все бросились целовать освобожденного узника. При звоне колоколов лицо Никона преобразилось; ему казалось, что под этот священный голос церквей он вступает в Москву со славою, благословляемый народом…Что-то прежнее, величавое блеснуло в чертах лица. Он бодро глянул кругом на небо, на солнце, стал оправлять себе волосы, одежду, как бы готовясь в дорогу. Стоявшие у его изголовья архимандриты Сергий и Никита поняли, что «великий странник собрался в далекий, неведомый путь», и стали читать отходную. А Никон, сложив на груди руки, вытянулся – вытянулся и глубоко, продолжительно вздохнул, чтоб уже больше не повторять этого вздоха (Мордовцев Д.Л., 1990). Царь Федор Алексеевич распорядился отпеть Никона по архиерейскому чину, и сам нес гроб Никона до могилы, поцеловал руку покойника и за царем все другие, а Митрополит Новгородский Корнилий по просьбе царя поминал Никона Патриархом. Эта смелость государя была вскоре оправдана. В 1682 году Патриархи прислали Разрешительную грамоту.
В ней повелевалось причислить Никона к лику патриархов и поминать в таком звании открыто при богослужениях (Карташев А.В., 1992).
* * *
Прежде чем перейти к описанию истории болезни и смерти Алексея Михайловича, скажем несколько слов о врачах, лечивших государя. Наиболее известным из них был Самуэл Коллинз – англичанин, личный доктор Алексея Михайловича в 1653–1667 гг. Вернувшись в Англию, он опубликовал в 1671 году книгу «Нынешнее состояние России, изложенное в письме к другу, жительствующему в Лондоне». Не менее известным специалистом, лечившим царскую семью, был немец Лаврентий Блументрост (царский врач в 1668–1678 гг.), основатель династии врачей, многие годы работавших затем в России. Еще один иностранец, служивший при дворе – Давид Берлов, известный тем, что широко назначал больным диетическое лечение. Он, как и все иноземные врачи, работавшие в Москве, имел дом в Немецкой слободе[15 - Немецкая слобода располагалась на северо-востоке, на берегу Яузы. К концу царствования Алексея Михайловича здесь проживало около 30 тысяч выходцев из стран Западной Европы, которых на Руси называли “немцами”, то есть не говорящими по-русски. Большинство в слободе составляли англичане, шотландцы и голландцы. Именно в этой слободе в 1701 году Я.Г. Грегори открыл первую в России частную аптеку (отсюда название нынешнего Аптекарского переулка).] («Кукуй»). Многократно в документах того времени упоминается и польский еврей Даниил фон Гаден, взятый в плен русскими войсками в 1656 году. В Москве он стал лекарем Аптекарского приказа, с 1672 года – придворным врачом. Во время стрелецкого бунта 1682 года фон Гаден был убит по обвинению в «злоумышлении» на царское здоровье. Все медики и фармацевты находились в подчинении Аптекарского приказа. Вот как характеризует его тогдашнюю деятельность один из современников царя Алексея Михайловича: «Аптекарский приказ… А в нем сидит боярин тот же, что и в Стрелецком приказе, да дьяк. А ведомо в том Приказе Аптека, и докторы, и лекари, иных государств люди, да для учения Русских людей с 20 человек. А будет тех докторов и лекарей с 30 человек, и жалованье идет им – годовое и месячное, погодно, по зговору» (Котошихин Г., 1983). Представление о доходах иноземных врачей, работавших в Москве, можно составить (на примере лейб-медика Г. Грамана) из знаменитой книги А. Олеария (1906): «…он получает правильное денежное содержание в 62 рубля или 124 талера и кроме того ежегодно 300 рублей, что составляет в общем 2088 талеров, помимо хлеба в зерне и в печеном виде, солоду, меду и других вещей для домашнего хозяйства. Когда нужно отворять жилу или давать лекарство, доктору дается еще особая награда в 100 талеров наличными деньгами, а также кусок атласа или дамаста, сорок соболей и т. п. От бояр и других вельмож врачи редко получают за лечение деньги, но лишь соболей, куски копченого сала, водку или иную провизию». Описывая государственное управление России, А. Олеарий называл и Аптекарский приказ, «где находится царская аптека. Лейб-медики, цирюльники, аптекари, дистилляторы и все, кто к этим делам прикосновенен, должны ежедневно являться сюда и спрашивать, не требуется ли чего-либо по их части. При этом они должны быть челом патрону, стоящему во главе этого учреждения, Илье Даниловичу Милославскому». Указом Алексея Михайловича в 1670 году Аптекарскому приказу была вменена в обязанность и организация борьбы с «прилипчивыми» (инфекционными) заболеваниями. Представление о лечебных препаратах, применявшихся при царском дворе, дает рукописный лечебник XVII века, ныне хранящийся в РГАДА, с подробными советами, какие принимать меры, «аще у которого человека болит» голова, сердце или живот. Помимо растительных средств, указанных выше, широко использовались такие экзотические вещества, как жемчужный и ингридов песок (измельченная слоновая кость), сахар «сереборинный», спирт из ягод можжевельника и даже…раковые глаза (Преображенский А., 1997).
Как судебному эксперту, мне интересно отметить, что врачи того времени выполняли и другие, помимо осмотров трупов, судебно-медицинские исследования. Так, в одном из столбцов середины XVII века из фонда Поместного приказа (РГАДА) обнаружено «вещественное доказательство» – мумифицированный палец женщины, потерявшей его в драке с соперницей, с соответствующим врачебным описанием. Штат царских докторов стоял на страже здоровья государя и следующим образом. При подозрении на заболевание придворные немедленно направлялись к врачам для освидетельствования (своеобразной экспертизы состояния здоровья) на предмет годности к несению службы и оценки опасности их болезни для царя. Некоторые подобные протоколы сохранились до наших дней. Так, лекарь Даниил фон Гаден в 1664 году осмотрел стольника М. Морозова и певчего К. Федорова. Заключения гласили, что «болезни внутри и наружи никакой нет и язв и знаков наружных нигде нет же и весь он здоров». В результате первому разрешили быть при дворе, а второму – «ходить к пению» (Новомбергский Н.Я., 1906). Боязнь «порчи», колдовства вызывала чрезвычайные предосторожности. Приближенные, особенно женщины, обязаны были под присягой обещать «лихих волшебных слов не наговаривати над государевым и над царициным платьем, и над сорочками, и над портами, и над полотенцами, и над постелями» (Шульгин В.С., 1983).
Вернемся, однако, к состоянию здоровья государя. После сорока лет, работая с документами, Алексей Михайлович стал пользоваться специальными хрустальными очками, привезенными ему западноевропейскими докторами. В последние годы жизни царь стал меньше двигаться, заметно пополнел. Его тучность не позволяла садиться на коня, все чаще государь «шел в карете». За месяц до кончины для него в Тележном ряду была куплена «избушка, обита кожею». Это был, видимо, последний «выход» царя. Решать дела он любил, лежа в кровати. Особенно тучным был живот царя[16 - Такой мужской тип ожирения рядом специалистов считается фактором риска в развитии осложнений атеросклероза и гипертонической болезни.]. Опухшие веки, красное лицо царя выдавали в нем гипертоника. Большой любитель париться в бане, он стал плохо чувствовать себя после этой процедуры – все чаще требовал от докторов «кидать кровь». Кровопускания[17 - Кровопускание – удаление с лечебной целью определенного количества крови из кровеносной системы методом венопункции (или веносекции), иногда – пункции артерии (БМЭ, том 12, с.86). В XVII–XVIII вв. существовало мнение, что кровопускание способствует выведению из организма «ядовитых» веществ, вызвавших заболевание. На самом деле, лечебный эффект этой процедуры связан с уменьшением количества циркулирующей крови, снижением артериального и венозного давления, что имеет положительное значение при венозной гипертензии, в частности, в связи с правожелудочной сердечной недостаточностью.] приносили временное облегчение. Затем голова вновь наливалась тяжестью, кружилась, тянуло лечь. Тревожные вести, расстраивая государя, утяжеляли его самочувствие. Все чаще государь страдал «расстройством желудка» (Нахапетов Б.А., 2005). Какого характера были эти приступы? Возможно предположить, с учетом малой подвижности и ожирения, что Алексея Михайловича мучили запоры, тягостно отражавшиеся и на деятельности сердца. Со времени правления этого государя в практику лечения вошли консилиумы. При этом особое значение придавалось согласию между врачами. Так, сохранился документ об участии в осмотре Алексея Михайловича докторов Ягана Розенбурха, Стефана Фунгадина, Лаврентия Блюментроста, Симона Зомера и аптекаря Крестьяна Энглера, в котором указывалось, что «между ними никакова несогласия и недружбы нет и имеют между себя любовь» (Нахапетов Б.А., 2005).
В исторической литературе имеются указания (А. Богданов, 1997), что Алексей Михайлович простудился 6 января 1676 года во время Водосвятия на Москве-реке в Праздник Крещения Господня. Переохлаждение вызвало длительный кашель и лихорадку. Был ли это лишь бронхит или врачи не сумели диагностировать более грозную болезнь – воспаление легких? Считают, что предсмертное заболевание государя развивалось на фоне длительно, многие годы протекавшей цинги. Была ли у Алексея Михайловича эта патология? Этому диагнозу противоречат: “свежий” вид кожных покровов тела и розовый (красный) цвет лица (для цинги более характерны бледность кожи лица, темные пигментные пятна); несомненное наличие повышенного артериального давления, в то время как у больных цингой оно понижено (А.А. Кедров и соавт., 1986), отсутствие истощения (государь всю жизнь выглядел упитанным, полным).
Читателю, в контексте излагаемых материалов, небезинтересно будет узнать современные медицинские воззрения на проблему ожирения (ввиду ее актуальности для обеспеченных категорий населения). В основном причинами ожирения в пожилом возрасте являются: избыточное питание, неактивная жизнедеятельность, ослабленная без достаточных оснований, как это наблюдается иногда при праздном образе жизни людей, способных к труду. Необходимо учитывать функциональное предрасположение к ожирению, обусловленное обменными и эндокринными сдвигами. Из сказанного следует, что в проблеме ожирения немалую роль играет поведение человека, а не просто жизнь, управляемая фатальными законами. Другими словами, ожирение организма в значительной мере возникает в результате попустительства человека к своей личности, его малой культуры, в частности физической (Давыдовский И.В., 1966). По данным американских авторов (Gount, 1960), лица с превышением веса на 5–14 % дают рост смертности на 22 %; превышение веса на 15–24 % и более увеличивает смертность на 44–74 %. Ожирение не только ускоряет наступление признаков старости, но и утяжеляет ее недуги; оно увеличивает шансы на возникновение осложнений возрастных процессов, способствуя развитию тех или иных форм недостаточности (коронарной, мозговой и т. п.). Грозными спутниками общего ожирения являются жировая дистрофия миокарда и перерождение печени (стеатоз), с которыми связаны многие осложнения у тучных больных.
Более 60 % случаев ожирения относится к алиментарному, или экзогенному типу, связанному с избыточным питанием, превышающем энергетические затраты организма. В случаях конституционального ожирения некоторые авторы придают значение дисфункции гипоталамуса, центров, регулирующих аппетит. Таким образом, «алиментарный» тип приобретает гормональную окраску и приближается к нейроэндокринным расстройствам, которые занимают второе место среди причин ожирения, особенно у женщин.
Ожирение часто сочетается со многими заболеваниями. Так, более чем в 1/3 случаев у тучных бывает сахарный диабет, в 25 % – артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца, часто встречается желчнокаменная болезнь, артрозы. Примерно 30 % тучных погибает от сердечно-сосудистых заболеваний. Легочная гиповентиляция сопровождается сгущением крови, синюшностью, сонливостью. Этот синдром может привести к смерти в результате декомпенсации легочного сердца (Калитиевский П.Ф., 1987). Лечение складывается из диетотерапии, физиотерапии и медикаментозных средств. При назначении лечебной гимнастики, массажа, водных процедур необходимо учитывать состояние сердечно-сосудистой системы (Кочергин И.Г. и соавт., 1967). Медикаментозное лечение предусматривает назначение препаратов, регулирующих деятельность щитовидной железы, мочегонных (при наклонности к отекам), средств, подавляющих чувство голода (при повышенном аппетите). Естественно, в России конца XVII века врачи ни в плане теоретической подготовки, ни в порядке обеспеченности соответствующими препаратами не располагали реальными возможностями оказания адекватной помощи больным…
22 января 1676 года дежурный врач произвел государю очередное кровопускание. Темная густая кровь медленно стекала по ноге в специальный серебряный тазик, который держал ассистент врача. Алексею Михайловичу стало легче дышать, медленно уходила тяжесть, сдавившая сердце. Государь сильно зяб, его посадили (сидя дышалось легче), к ногам приложили полый серебряный шар, наполненный горячей водой, накрыли горностаевым одеялом. Приехавший Патриарх Иоаким поил больного елеем, читал специальные врачевательные молитвы, кадил перед Образом Святителя Николая, Архиепископа Мир Ликийских. Государю полегчало. Он распорядился судьбой престола, передавая его по кончине сыну Федору, назначил опекуном своего друга и сподвижника князя Юрия Долгорукого, сделал другие указания.
В ночь на 29 января 1676 года у Алексея Михайловича развился «приступ». Врач Костериус, в тот день дежуривший в соседнем покое, немедленно был вызван к царю. Все последние недели по рекомендации докторов государь пил отвар боярышника (препараты из плодов боярышника и в современной медицине успешно применяют при различных расстройствах сердечной деятельности: ангионеврозах, мерцательной аритмии, пароксизмальной тахикардии (Машковский М.Д., 1988), уменьшавший одышку и приступы сердцебиения у царя. Здесь уместно рассказать о нелепом, с современной точки зрения, обычае, существовавшем при царском дворе до Петра I. Любое лекарство, даваемое государю, предварительно обязан был пробовать боярин-руководитель Аптекарского приказа. Лекарь, видя ухудшение состояния царя, немедленно послал за А.С. Матвеевым, занимавшим этот пост в 1676 году. А государю становилось все хуже: дыхание стало частым, поверхностным, в груди слышались влажные хрипы. Царь, знавший, что облегчало ранее такие состояния, потребовал «отворить кровь». А Матвеева все не было. Царь стал задыхаться, попросил прибытия Патриарха для проведения Соборования. Приехавший наконец-то боярин произвел пробу и необходимое лекарство было дано царю. Ослабевший государь половину пролил на одеяло, закашлялся, бессильно откинулся на подушки, не реагируя на обращения доктора. Святейший Иоаким прибыл немедленно и начал выполнение Святого Таинства. Спальня опустела, Патриарх и государь, столь долго трудившиеся вместе на благо Руси, остались одни, потрясенные происходившим. В прилежащих покоях стали собираться плачущие сестры и дочери царя. Всех страшила неясность будущего. Кто станет править? Болезненный, добрый и слабовольный Федор? Психически неполноценный десятилетний Иоанн? Общий любимец, крепыш Петр, которому шел 5
год?
Алексей Михайлович предчувствовал приближение смерти и встретил ее спокойно, как веление Свыше. Между 15 и 16 часами 29 января 1676 года царя не стало. Удар Большого колокола Успенского собора известил об этом Москву. Перед смертью Алексей Михайлович распорядился выпустить узников из тюрем, вернуть сосланных, заплатить за должников по частным искам…
Ввиду отсутствия объективных медицинских документов, суждение о причине смерти Алексея Михайловича может быть высказано в вероятностной форме. Сердцебиение, одышка, переросшая во влажные хрипы в груди, положительный эффект от применения препаратов боярышника свидетельствуют, что смерть последовала от хронической сердечной недостаточности, осложнившей запущенную, не леченную должным образом гипертоническую болезнь, протекавшую на фоне общего ожирения.
На наличие гипертонии указывают «красное» лицо государя в последние годы жизни, характерные жалобы на «тяжесть» в голове, головокружение, положительный лечебный эффект кровопусканий. Утяжелению состояния гипертрофированной сердечной мышцы способствовало и ее жировое перерождение (дистрофия), всегда сопровождающее избыточную полноту. Одной из причин обострения болезни и ее декомпенсации, приведшей к сердечной недостаточности, могла быть и сильная «простуда» (острое распираторное заболевание? бронхит? пневмония?), перенесенная царем в январе 1676 года.
В.О. Ключевский (1990) образно охарактеризовал правление этого государя: «Царь Алексей Михайлович принял в преобразовательном движении позу, соответствующую такому взгляду на дело: одной ногой он еще крепко упирался в родную православную старину, а другую уже занес было за ее черту, да так и остался в этом нерешительном переходном положении. Он вырос вместе с поколением, которое нужда впервые заставила заботливо и тревожно посматривать на еретический Запад в чаянии найти там средства для выхода из домашних затруднений, не отрекаясь от понятий, привычек и верований благочестивой старины». Есть все основания говорить, что Алексей Михайлович был не только прямым предшественником своего великого сына Петра, но и оставил свой самобытный след в нашей истории.
* * *
В заключение главы кратко расскажем о третьем государе из Дома Романовых – Федоре Алексеевиче. Когда умиравший Алексей Михайлович исповедовался и причащался из рук Патриарха Иоакима, придворные уже приготовили царское облачение на его старшего сына – превосходившего отца ростом, но более узкоплечего, худощавого юношу, вступившего в пятнадцатое лето своего жития[18 - Федор Алексеевич родился 30 мая 1661 года.]. С первым траурным ударом колокола толпа приближенных вошла в покои царевича.
Федор Алексеевич был сопровожден из теремов вниз, в Грановитую палату, одет в царское облачение и усажен на трон. Начался процесс присяги, наступило новое царствование. Основную роль в организации воцарения Федора сыграли глава Стрелецкого Приказа Ю.А. Долгорукий, дворецкий Б.М. Хитрово, князь И.А. Хованский, дядя нового царя И.М. Милославский. Весь вечер, ночь и утро в полыхавшем огнями светильников дворце присягали новому государю придворные, офицеры, дворяне. К тому времени, когда церемония присяги переместилась из дворца на площади Кремля, в приходские церкви города и стрелецких слобод, а в Приказах начали оформлять крестоцеловальные грамоты для всей страны (они рассылались до 10 февраля), слабый здоровьем царевич был совершенно измучен. Ноги его так отекли, что днем 30 января, на похоронах отца, он совершил краткий путь до Архангельского собора на носилках (Богданов А., 1997). Воспоминания о Смуте заставляли придворных спешить, хотя, казалось бы, не могло быть никаких сомнений в наследовании трона царевичем, еще 1 сентября 1674 года торжественно «объявленным» Церкви, двору и народу в качестве преемника отца. Богатые пожалования дворянству и разосланная по сему случаю грамота помогли запомнить это выражение воли Алексея Михайловича. Публично объявлялось, что царь Алексей завещал страну старшему сыну, но ползли слухи, что боярин А.С. Матвеев пытался посадить на престол малолетнего царевича Петра. Говорили, что канцлер убеждал умиравшего царя и бояр, что Федор Алексеевич болен, и мало надежд на его долгую жизнь. Второй сын царя Алексея – Иван – тоже не способен править, тогда как Петр на диво здоров, крепок, умен.
В этих разговорах был смысл: состояние здоровья Федора вызывало сильное беспокойство. Сестры и тетки его по матери (М.И. Милославской) постоянно находились у постели нового царя. Они питали недоверие к Аптекарскому приказу, с 1672 года возглавлявшемуся А.С. Матвеевым. Уже 1 февраля 1676 года боярин был удален с этой должности, а восьмого числа царскую медицину возглавил представитель высшей родовой знати Никита Иванович Одоевский. Через неделю новый глава Аптекарского Приказа созвал консилиум шести ведущих медиков страны. Обследование Федора Алексеевича показало, что «ево государская болезнь не от внешнего случая и ни от какой порчи, но от его царскаго величества природы… та-де цинга была отца ево государева… в персоне» (Богданов А., 1997). Хроническая болезнь дает сезонные обострения, – заявили доктора, – которые купируются с помощью внутренних и внешних укрепляющих средств, ванн, мазей. Полное излечение возможно «только исподволь, а не скорым времянем». Бояре вздохнули с облегчением, считая, что указанная болезнь при соответствующем уходе несмертельна, Алексей Михайлович жил с ней и царствовал десятки лет. Характеризуя здоровье государя, следует сказать, что, когда Федору исполнился год от роду, «дядьки», взяв его из рук мамок, посадили на игрушечного деревянного коня. С детства страсть к лошадям вошла в кровь царевича, который, вступив на престол, проявил себя как фанатик коннозаводства. Он сменил руководство Конюшенным приказом, приблизив к себе конюшего И.Т. Кондырева с его родней, коннозаводчика В.Д. Долгорукова; выписывал производителей из Западной Европы.
«Как отец сего государя, великой был охотник до ловель зверей и птиц, так сей государь до лошадей великой был охотник. И не токмо предорогих и дивных лошадей в своей конюшне содержал, розным поступкам оных обучал и великие заводы конские по удобным местам завел, но и шляхетство к тому возбуждал. Чрез что в его время всяк наиболее о том прилежал к ничим более, как лошадьми, не хвалитися!» (Татищев В.Н., 1856).
Характерен случай, который некоторые современники считали причиной болезненности Федора Алексеевича: он, будучи на тринадцатом году, однажды собирался прогуливаться со своими тетками и сестрами в санях. Им подведена была ретивая лошадь: Федор сел на нее, желая быть возницей у родственниц. На сани насело их так много, что лошадь не могла тронуться с места, встала на дыбы, сшибла с себя седока и сбила под сани. Они всей тяжестью проехали по спине лежащего на земле Федора и измяли его, после чего он чувствовал периодические боли в груди.
Поездки по Подмосковью верхом царь практиковал постоянно, исключая моменты приступов цинги. Не забывал он и увлечение отца, проявляя большую заботу об увеличении числа ловчих птиц, которые по его указам доставляли даже из Сибири. С раннего детства Федор увлекался стрельбой из лука. Это был настоящий спорт со своими правилами и детально разработанным инвентарем. Документы рассказывают, что для царевича и его товарищей-стольников изготовлялись десятки луков разных типов и многие сотни стрел нескольких разновидностей, мишени для комнатной и полевой стрельбы. Стрельба смыкалась с военными играми вроде перестрелки через Крымский брод на Москве-реке.
Федор по складу характера напоминал отца: был мечтательным, тихим и кротким. Грубые забавы сверстников-родственников из рода Милославских – пьянство, кулачные бои претили ему. Будучи уже царем, Федор Алексеевич с большим знанием дела распорядился об оборудовании Потешной площадки при комнатах своего младшего брата и крестника царевича Петра: с военным шатром, воеводской избой, пахотными рогатками, пушками и прочим воинским снаряжением.
Кремлевский дворец, включая покои членов царской семьи и дворцовые церкви, мастерские палаты, комплекс зданий Приказов – все было перестроено в царствование Федора Алексеевича, соединено переходами, по-новому изукрашено. Пятиглавые каменные храмы на Пресне и в Котельниках, колокольня в Измайлове, ворота в Алексеевском, десятки каменных зданий были результатом забот юного государя. В РГАДА сохранился его собственноручный чертеж церкви Во имя Святителя Алексия, Митрополита Московского и Всея Руси, сооруженной в 1686 году в Чудовом монастыре (Рогожин Н.М., 1986). При всех хоромах были разбиты сады, кроме общего для обитателей царского «Верха» парка у Золотой палаты и висячего Набережного сада со ста девятью окнами по фасаду. Организуя общую систему канализации Кремля, государь позаботился устроить проточный пруд (десять на восемь метров) и запустить туда «потешный» кораблик. При царе Федоре значительно улучшилось санитарное содержание дворцовых помещений, возникли режимы влажной уборки и регулярных проветриваний.
Скажем несколько слов о курениях, применявшихся в то время в жилых хоромах. Обыкновенное курение составляло ячное пиво, которое употребляли «для духу», особенно в мыленках, а также в мастерских палатах, где хранилась одежда и разный «убор постельный». Вероятно, тем же способом, т. е. посредством печей, употребляли и другие, не слишком дорогие, обычные курения. В особенной моде была розовая вода. В царских покоях курили разными составными ароматами из водок и трав, которые заготовлялись Аптекарским Приказом. В. Рихтер в своей «Истории медицины в России» свидетельствовал, что для благовония употребляли тогда для Грановитой палаты – oleum cinnamomi, для Мастерской палаты – oleum caryophyllorum. Из Аптеки часто выписывались другие благовонные составы для курения и разная смесь из редких ароматов, которые клали в платье, чтобы доставить ему хороший запах. Изготовлялись также благовонные свечи, например, в хоромы царевны Софьи в 1686 году было изготовлено 26 таких свечей. Ароматическими составами курили в жаровенках, серебряных и медных (Забелин Н.Е., 1990).
Тетки и сестры Федора, оскорбленные второй женитьбой Алексея Михайловича и поведением мачехи (позволявшей себе даже появляться с открытым лицом перед народом, заведшей театр, танцы и прочие «безобразия»), требовали удалить Наталью Кирилловну и ее отпрыска от двора – ведь именно они ухаживали за больным царем! Любимая мамка, нянчившая Федора с младенчества, боярыня Анна Петровна Хитрово обвиняла перед своим воспитанником в страшных преступлениях и А.С. Матвеева, и Нарышкиных, – а царь знал о ее безусловной преданности и доверил попечению боярыни свою молодую жену. «Дядька» Федора, Иван Хитрово, сын всесильного главы дворцового ведомства боярина Богдана Матвеевича, воспитавший царевича и оставшийся одним из доверенных приближенных царя, поддерживал требование родственницы. Однако государь отклонил предложения сподвижников. А.С. Матвеев 31 января дал послам при царском дворе твердые гарантии, что политика России не меняется. «Все те же господа останутся у власти, кроме разве того, что ввиду малолетства его царского величества четверо знатнейших бояр будут управлять наряду с ним» (Богданов А., 1997).
По мнению царя, укрепление Церкви и борьба с раскольниками требовали расширения церковной иерархии: на необъятное пространство страны приходилось вместе с Патриархом всего семнадцать архиереев (девять митрополитов, шесть архиепископов и один епископ). К осени 1681 года Федор Алексеевич имел тщательно разработанный проект епархиальной реформы. Государь исходил из того, что «заблуждения староверов и иноверцев» коренятся в невежестве, а неспособность и нежелание приходских священников противостоять мнению паствы проистекает от недостатков управления. Обширности и славе государства, его роли оплота христианского благочестия должна соответствовать великая Церковь, в которой Патриарху, как Наместнику Христа, подчиняется двенадцать митрополитов (наподобие апостолов), семьдесят архиепископов и епископов (шестьдесят из последних – через митрополитов). Проект епархиальной реформы предусматривал соответствие административному делению государства, предусматривал источники содержания и подчинение каждой епископии. Однако Патриарх откладывал рассмотрение проекта и только 15 октября, в ответ на письменную просьбу Федора Алексеевича, обещал представить его Церковному Собору.
Федор Алексеевич столкнулся с неприятием своих убеждений. Вместо решения поднятых царем проблем с помощью убеждения, просвещения и благотворительности, ряд архиереев предложил расширить монастырские тюрьмы, ужесточить по духовным делам «градской суд», «прещение и страх по градским законам», действия «караулов» и воинских команд. Затормозив реформу, Патриарх Иоаким постарался новую систему чинов представить как попытку расчленения страны между аристократами в духе Речи Посполитой. Но даже смертельно больной Федор Алексеевич не сдавался. Он убедил духовенство учредить несколько новых епархий и повысить статус старых, считая реформу утвержденной.
Возможно, определенные расхождения с Патриархом Иоакимом коренилось в европейском образовании Федора Алексеевича. Как и его старший, рано умерший брат Алексей, он, помимо воспитания у обычных учителей, приобрел знание европейских языков. В царских покоях появились венецианские зеркала, резная английская мебель, немецкие глобусы и географические карты, книги европейских стран (известно, что в личной библиотеке Федора Алексеевича имелись книги по медицине на русском языке, например, «Книга врачевской анатомии Андрея Весселия (Везалия – Ю.М.) Букселенска» в переводе иеромонаха Епифания (Славинецкого).
Великолепием своего дворца и столицы царь с успехом потрясал воображение иностранцев, что было немаловажно, так же как и организованная им при своем венчании сакрализация самодержавной власти (он даже миропомазался, вопреки традиции, в алтаре, как архиерей). Однако Федор Алексеевич знал меру, как свидетельствует указ от 8 июня 1680 года, интересно раскрывающий характер государя. Царь рассердился, узнав, что придворные в челобитных стали уподоблять его Богу: «И то слово в челобитных писать непристойно… а если кто впредь дерзнет так писать – и тем за то от него… быть в великой опале!». Тут, вполне в духе Петра, мысль его перескочила на иную тему: являются к нему во дворец из домов, где есть заразные больные, – «сие есть безстрашная дерзость… и неостерегательство его, государева, здоровья». Лучше бы поздравляли с праздником и здоровья желали, а не Богу уподобляли (Татищев В.Н., 1856).
В 1679 году на крестном ходе он углядел в толпе зрителей девушку, был «сражен наповал», по привычке к быстрым решениям реагировал мгновенно: велел постельничему И.М. Языкову узнать, кто такова. Придворный доложил: дочь смоленского дворянина Агафья Симеоновна Грушевская, живет в доме тетки, жены окольничего С.И. Заборовского. Царь послал Языкова в дом познакомиться с семьей, а вскоре велел объявить Заборовскому, «чтоб он ту свою племянницу хранил и без указа замуж не выдавал». Намерение государя жениться вопреки вековечным правилам повергло родню в шок, И.М. Милославский прямо заявил: «Мать ея и она в некоторых непристойностях известны!» (Татищев В.Н., 1856). Федор поверил, впал в тоску, но преданные слуги уговорили его проверить информацию. И.М. Языков и А.Т. Лихачев (воспитатель царевича Алексея Алексеевича) поехали к Заборовскому и, смущаясь, вопросили «о состоянии» невесты. Агафья Симеоновна вышла к гостям сама и сказала напрямик, «чтоб оне о ея чести ни коего сомнения не имели, и она их в том под потерянием живота своего утверждает!». Царь 18 июля 1680 года отпраздновал свадьбу. Царица простила И.М. Милославского, «разсудя слабость человеческую», но царь, встретив его как-то в темном закутке дворца с подарками Агафье Симеоновне, разъярился: «Ты прежде непотребною ея поносил, а ныне хочешь дарами свои плутни закрыть!» – и вытолкал боярина в шею. Государя еле успокоили (Богданов А., 1997). Здоровье царицы оказалось слабым. Все чаще в ее покоях появлялись различные снадобья. Л.Ф. Змеев (1889) привел описание следующего случая. Доктор Розенбург прописал царице лекарство. Аптекарь не совсем точно приготовил его. Боярыне, отведывавшей лекарство, сделалось «тошно». Тогда заставили самого Розенбурга выпить все лекарство зараз. «Все это черты страшного поголовного суеверия и боязни отрав, – писал Л.Ф. Змеев, – характерные для той эпохи. Если виновный служил при дворе, то в этом, кроме того, усматривалось laesio majestatis (государственный вред. – Ю.М.) и наказание сильно увеличивалось».
Счастье Федора Алексеевича длилось недолго. 11 июля 1681 года он объявил стране о рождении царевича Илии, но 14 числа скончалась царица, а утром в четверг 21 июля – и младенец. Неизвестно, влюбившись или по настоянию приближенных, обеспокоенных отсутствием наследника, царь 12 февраля 1682 года объявил о выборе второй супруги – Марфы Матвеевны Апраксиной, дочери незнатного дворянина (свойственника И.М. Языкова). 15 февраля была скромно сыграна свадьба. Супружество, вдобавок к бремени реформ и государственного управления, оказалось непосильной ношей. Царь слег, и только 21
сумел принять придворных с поздравлениями, а 23
царь и царица дали свадебные «столы».
Отход царя от непосредственного управления взволновал столицу. На посаде, особенно в стрелецких полках, ширился ропот против «начальнических и неправедных обид», против «временщиков», с которыми столкнулось мелкое начальство. Федору так и не удалось наладить государственную машину, способную четко действовать со справедливостью и правосудием без бдительного ока самодержца. Даже больной, царь продолжал принимать важные решения. Так, получив известия об опасности, угрожавшей русским поселениям в Приамурье со стороны Цинской империи, он потребовал от Патриарха назначить епископов в Даурские, Нерчинские и Албазинские остроги «для исправления и спасения людей, пребывающих в тех градех». Однако царь не знал, что совсем рядом, в кольце слобод вокруг Москвы, закипает гнев на «бояр и думных людей», приказавших высечь челобитчика, обратившегося в Стрелецкий приказ с жалобой на особенно свирепого полковника. В этой «неправде» многие обвиняли И.М. Языкова – слабого политика, с 1680 года возглавившего Оружейную, Золотую и Серебряную палаты, значение которого увеличилось при болезни государя. Говорили также, что Языков, Лихачевы и Апраксины объединились со сторонниками царевича Петра и именно они уговорили Федора облегчить ссылку Матвеева и Нарышкиных. Предвидя кончину государя, многие видные роды готовили переворот с целью отстранения от наследства шестнадцатилетнего царевича Ивана в пользу десятилетнего Петра.
23 апреля знать пировала в палатах Патриарха. А на окраинах Москвы полки русской армии, собравшись «в круги» по казачьему обычаю, приняли решение о совместном выступлении против офицеров. В тот же день два десятка стрелецких полков направили во дворец представителей с жалобой на одного полковника – Семена Грибоедова. Ни Языков, никто другой не посмели отказать в передаче этой челобитной царю, который сразу понял значение объединения всей армии против одного начальника. 24 апреля 1682 года Федор Алексеевич указал: «Семена послать в Тотьму, и вотчины отнять, и ис полковников отставить». Это был самый последний указ государя, лишившегося сил и неотвратимо близившегося к могиле (Погодин М.П., 1875). Вечером 27 апреля он исповедался, приобщился Святых Тайн. Врачи информировали царя, что надежд на выздоровление нет и необходимо распорядиться судьбой престола. Ложе Федора окружили близкие. Патриарх начал чтение отходной молитвы. Государь до последних минут жизни находился в сознании. Родные, державшие его руки в своих ладонях, почувствовав, что кисти начали холодеть, поняли, что близится конец…
Известие о смерти Федора, «ихе име леты довольны, и разум совершен, и бе милосерд», и воцарении Петра, «иже млад сый и Российскаго царствия на управление не доволен», означало для подданных, что бояре и приказные люди, «не имея над собою довольнаго… правителя и от неправды воздержателя, яко волки имут нас, бедных овец, по своей воли во свое насыщение и утешение пожирати». Это известие означало также, что подданные «лучше избрали смерть, нежели бедственный живот», и что те, кто в эти дни беспечно плетет интриги во дворце, вскоре полетят на копья и будут «в мелочь» изрублены восставшими (Богданов А., 1997). Стрельцы, на несколько месяцев захватившие власть в Москве и успевшие даже поставить памятник своей победе над «изменниками-боярами и думными людьми», декларировали те же идеи, что и царь Федор: общей правды, равного правосудия, уважения государственных функций всех сословий и т. п. Поражение, нанесенное им «мужеумной» правительницей Софьей, на долгое время определило трагическую судьбу русского либерализма.
Завершить эту главу уместно кратким рассказом о судьбе вдовы Федора Алексеевича, царицы Марфы Матвеевны. Она жила тихо и скромно, запросами Петра I не тревожила, к новациям его относилась положительно. Ее ровный и приветливый характер всегда благотворно действовал на царя, вызывая равновесие в многочисленной родне Романовых. Когда ему понадобилось ее участие в «Машкерадах», Марфа Матвеевна, уважая шурина, не отказалась от участия в увеселениях. Иностранные дипломаты в своих воспоминаниях запечатлели эту, уже немолодую, но еще прекрасную статную женщину… В 1715 году, когда царица Марфа Матвеевна скончалась, Петр I лично принял участие во вскрытии ее тела. Оно честно сказало ему ту правду, о которой он догадывался: жена его брата Федора умерла девственницей. Царь, пораженный высочайшей нравственностью покойной, пережившей его брата на 33 года, распорядился об организации наиболее грандиозных похорон за все свое царствование (Васильева Л.Н., 1999). Ее девство стало своеобразным вызовом воцарившемуся открытому разврату царского двора. Тихим, бессмысленным, но все же вызовом и уроком другим: сумела – устояла…
ЛИТЕРАТУРА
Автократова М.И., Буганов В.И. Сокровищница документов прошлого. – М., 1986.
Байбурова Р. У истоков царского Дома Романовых // Наука и жизнь. – 1999. – № 5. – С. 107–111.
Балязин В.Н. Сокровенные истории Дома Романовых. – М., 1995.
Богданов А. Федор Алексеевич // Романовы. Исторические портреты. – М., 1997. – кн.1. – С. 156–197.
Большая медицинская энциклопедия. – Т. 12. – М., 1988.
Буганов В.И. Россия в XVII столетии. – М., 1989.
Буганов В. Михаил Федорович // Романовы. Исторические портреты. – М., 1997. – кн. 1. – С. 13–70.
Бунташный век. Серия «История отечества в романах, повестях, документах» / Сост. В.С. Шульгин. – М., 1983.
Васильева Л.Н. Жены русской короны. – Кн. 2. – М., 1999.
Гиббенет Н.А. Историческое исследование дела Патриарха Никона. – Т. 1–2. – СПб., 1882–1884.
Глинский Б.Б. Царские дети и их наставники. – СПб., М., 1912.
Гребельский П., Мирвис А. Дом Романовых. – СПб., 1992.
Давыдовский И.В. Геронтология. – М., 1966.