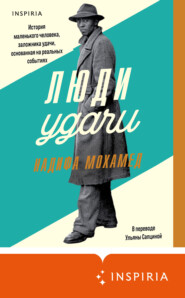скачать книгу бесплатно
Дрожа, Вайолет цепляется за Дайану и пытается собраться с духом; дело не только в этом взломе, или предыдущем, или в том, который случился до того, но и в письмах, которые кладут на коврик у двери, в письмах с перечислением родственников, убитых в Восточной Европе. Имена из ее детства, которые она едва помнит, образы, которые она с трудом может отождествить с черно-белыми семейными фотографиями, всплывающими в ее снах, – они окружают ее обеденный стол, просят еще еды, еще воды, приютить их – очень, очень просят, – умоляют ее по-польски, кузин, очал мнье, кузина, спаси меня. Нигде уже не возникает чувства защищенности, словно мир пытается разделаться с ней, с ней и с подобными ей, прокрадывается через запертые двери и окна, чтобы похитить жизнь из их легких. Аврам мертв, Хая мертва, Шмуэль мертв. В Литве, в Польше, в Германии. Все больше и больше имен появляется на памятной табличке в храме. Во все это не верится до сих пор. Как могло случиться, что их всех не стало? Писем от Волацки из Нью-Йорка и Лондона накапливалось все больше, но смысла в них оставалось все меньше – слухи о том, кто погиб, где, когда и как, непрекращающийся ручеек смертей и совсем немного радостных вестей, втиснутых в самом конце, – кто-то родился в Степни, кто-то закончил учебу в Бруклине.
– Которое окно? – наконец спрашивает она.
– То маленькое сзади. Утром мы позовем Дэниела, пусть заложит его кирпичами. А пока я придвину к нему ящики. Ну же, иди к Грейси, а я тут покараулю.
Послушно кивнув, Вайолет прокрадывается в спальню племянницы и ложится к ней в постель; обнимая спящего ребенка, она чувствует себя даже меньше и уязвимее, чем Грейс. На полу возле кровати валяется географический атлас, Вайолет дотягивается до него, листает; мелькают страницы, расцвеченные краснотой Британской империи. В последнее время ей пришлось так много узнать о мире, выучить названия мест, которые казались вымышленными: Узбекистан, Кыргызстан, Маньчжурия. Сильные молодые мужчины и женщины, скрывшиеся в лесах и пережившие Гитлера, рассеялись и бежали, бежали, бежали от катастрофы, все дальше и дальше на восток, словно намереваясь спрыгнуть с края земли. Работой старых дев, не имеющих таких оправданий, как мужья и семьи, было собирать этих неприкаянных и заплутавших, общих детей, не доверяющих никому, но берущих все, что дают. Она отправляет деньги этим дальним родственникам и даже их нуждающимся друзьям через банки в Амстердаме, Франкфурте, Стамбуле, Шанхае, никогда не зная, дойдут ли эти деньги до них вовремя и образумятся ли эти люди и вернутся ли в лоно цивилизации, если таковая еще осталась. Вайолет роняет атлас на пол. Ритм дыхания Грейс успокаивает ее, но не настолько, чтобы усыпить; она чутко прислушивается к тому, как Дайана внизу заметает битое стекло, как ступают по половицам ее ноги, крепкие и бесстрашные, пока наконец она не поднимается по лестнице, когда уже начинается утренний щебет птиц.
Дэниел приходит, пока они завтракают, и ночные ужасы скрадываются домашними уютными запахами кофе и тостов. Вайолет краснеет, когда он тянется, чтобы схватить корочку от тоста с ее тарелки, его голос с иностранным акцентом приводит ее в трепет, медвежье тело заполняет столовую. Она украдкой бросает взгляд на его бледное лицо с широко расставленными глазами, теряющееся в черной шерсти бороды и под каракулевой шапкой; в усах застряли крошки. Мускусный запах одеколона исходит от его сырого овчинного тулупа, когда он стаскивает его с плеч и вешает в коридоре. Дэниел – собственность Мэгги, их средней сестры, но вожделение и зависть прокрались в сердце Вайолет. Ее тело охватывают желания такой силы, каких она раньше никогда не испытывала, и Дэниел – их средоточие, его рослая и широкоплечая фигура словно склеп для ее надежды когда-нибудь выносить детей. Им полны ее грезы наяву – его губами, его руками, его розовыми сосками, похотливыми, похожими на малину на фоне белоснежной кожи. Жар в ее чреве вдруг вспыхивает, прежде чем перемены успевают увести его еще куда-нибудь. Она с нетерпением ждет, когда все кончится, – что угодно лучше этой безнадежной, девчоночьей влюбленности в человека, который видит в ней только сестру.
– Мэгги беспокоится за вас, девочки, – думает, улица чем дальше, тем больше портится. Сколько ни твердил ей – ничего, это издержки дела, – а она, как клуша, раскудахталась сегодня утром и все ходит, ходит из угла в угол. Хочет, чтобы я раздобыл вам ружье! – Дэниел придвигает стремянку и вынимает остатки стекла из оконной рамы. – Мелкий, должно быть, он был, если думал, что пролезет в такое окошко.
Он стоит спиной к Вайолет, и она не может не глазеть на его ягодицы, напряженные под брюками. Но быстро отводит взгляд, заметив, что Дайана улыбается ей.
– Это ни к чему, – отвечает Дэниелу Дайана. – Мы с Вай сошлись во мнении, что пырнуть ножом грабителя не смогли бы, но уж оглушить чем-нибудь – наверняка. Прошлой ночью Вай появилась из своей комнаты, вооруженная подсвечником, и наверняка сделала бы из него котлету.
Дэниел разражается гулким смехом, а дальше слышится только шорох замешиваемого раствора, скрежет металла по камню и постукивание кирпичей, которые подгоняют, укладывая один на другой. Освещенный прямоугольник быстро исчезает, воздвигается еще одна преграда между миром и Вайолет.
После того как Дэниел удаляется к себе в магазин мужской одежды, который он держит вместе с братьями на Черч-стрит, Грейс целует их на прощание и уходит в начальную школу Святой Марии, до которой несколько минут пешком – она находится рядом с церковью, где крестят, сочетают браком и отпевают большинство местных жителей. Дайана в качестве местного букмекера ставит свой стол в маленьком и сыром флигеле во дворе, включает радио, чтобы следить за главными событиями дня на бегах. Ее ногти, покрытые таким толстым слоем алого лака, будто их обмакнули в винил, – единственное яркое пятно в помещении. Лицо в течение дня будет постепенно становиться накрашенным все ярче, как снимок проявляется в темной комнате, пока к пяти вечера вид у нее не окажется таким, что хоть сейчас на красную ковровую дорожку; преображение из молодой вдовы в престарелую кинозвездульку завершено. А Вайолет обычно вообще не делает макияж, и не красит ногти, и носит простое темно-синее платье длиной до икр и серебряный армейский значок отца, приколотый к лифчику для храбрости.
Одна из витрин по-прежнему сохраняет такой же вид, как при их отце; ее заполняют дорогие готовальни и плоские фляжки, инкрустированные слоновой костью, которые их покупателям не по карману, но все же отличают их магазин от других на той же улице. Остальное пространство в заведении Волацки забито дешевым и ходовым товаром: висящими на крюках высокими резиновыми сапогами, черными школьными парусиновыми туфлями на резиновом ходу, втиснутыми в тесные гнезда деревянных полок, воздушными ситцевыми платьями на вешалке у самой двери кладовой, шерстяными одеялами, завернутыми в папиросную бумагу и хранящимися на верхних полках. В глазах Дайаны эта лавка – «дурдом», место безумия, система которого известна лишь Вайолет, вокруг которой товар громоздится небольшими и неустойчивыми стопками. Она продает ножи, бритвы, веревки, непромокаемые кепки и плащи, добротные, прочные рабочие ботинки, матросские вещмешки, трубки, табак курительный и нюхательный, но основной доход приносит обналичивание авансовых платежных расписок отплывающих матросов. В глубоких лотках массивной ручной кассы за день скапливается больше сотни фунтов – и к ним прикасается только Вайолет, – не говоря уже о сейфе и ящике, где она держит крупные купюры. Последние покупатели прибегают уже после официального часа закрытия, негромко, но нетерпеливо стучат в стеклянные панели, чтобы купить срочно понадобившуюся коробку спичек или сигареты; если все по мелочи обходят закон, жить становится проще.
2. Лаба
Рассыпчатый, мраморный от жира кошерный фарш начинает шипеть и подрумяниваться на сковороде, и Махмуд всыпает в масло чайную ложку порошка чили. В Восточном Лондоне он постоянно покупал кошерное мясо, потому что хороший мясник нашелся прямо по соседству, через несколько дверей, а кошер в религиозном отношении ничем не хуже халяля, но теперь почему-то он и на вкус нравится Махмуду больше. Поднося к носу специи с загадочными этикетками на хинди, он выбирает зиру, куркуму и имбирь – неплохо – и посыпает баранину чайной ложкой этой смеси. Часть фарша он съест на обед с гарниром из сладкой консервированной кукурузы, а другую часть смешает вечером с остатками риса. Поесть получше сейчас ему все равно не удастся, хоть он и научился варить, жарить и парить, пока был помощником корабельного буфетчика, а печь – за время мелкой кухонной работы в сомалийской ночлежке, где снимал комнату в прошлом году.
Махмуд до сих пор не может смириться с тем, что он всего-навсего еще один никому не нужный неухоженный мужчина, которому приходится есть, поставив тарелку на колени, в одиночестве холодной съемной комнаты. Он всегда помогал Лоре на кухне – кто еще из мужей согласился бы на такое? А ему пришлось, потому что она понятия не имела, какой должна быть по-настоящему вкусная еда; и он сумел обучить ее пользоваться травами и специями, но морковь у нее по-прежнему получалась недоваренной, пюре?– жидким, мясо – сухим и жестким. И вот теперь еда стала еще одним делом, с которым ему приходится справляться самому, своими силами. Все сам, своей проклятой рукой.
Махмуд вынужден напомнить себе, что ненависти к Лоре он не испытывает. Что без нее ему не было бы лучше. Что красным от ярости мыслям, которые всплывают у него в голове, когда он бродит по улицам, – и твердят, что сиськи у нее слишком маленькие, задница слишком плоская, лицо слишком вытянутое, – он на самом деле не верит.
Лора посадила его на якорь в точке с этой долготой и широтой. В этом доме – с чернокожими мужчинами, с которыми его не объединяет ни язык, ни культура, ни религия, – он живет лишь для того, чтобы приглядывать за ней, поддерживать с ней отношения, пока она не образумится. Он следит, с кем она водит компанию, и каждые несколько дней переходит через дорогу, чтобы проведать сыновей. Во многих отношениях это шаг вверх по сравнению с той паршивой сомалийской ночлежкой, откуда его прогнали после случая в мечети. Здесь у него своя комната с замком на двери вместо общего чердака, заставленного походными койками. И ему не надо целыми ночами терпеть кашель, разговоры и слушать, как капает с мокрого белья, развешанного на веревках под потолком. Все остальные моряки там были лентяями и по утрам валялись в постели, ожидая, когда кто-нибудь другой жарко растопит печку. Махмуд помнит пожелтевший список правил, приколотый высоко к стене, – их Варсаме зачитал ему, а потом велел собирать манатки.
«1. Смотритель ночлежного дома для моряков не должен продавать спиртные напитки, или принимать участие в торговле ими, или же участвовать или быть заинтересованным в делах кастеляна, экипировщика или лиц, ведающих прочим довольствием матроса.
2. Санитарный врач, представители торговой палаты и полиция имеют право доступа и инспектирования его помещений в любое время.
3. В спальнях он должен предоставлять каждому лицу не меньше 30 кубических футов пространства и ни в коем случае не размещать больше жильцов, чем разрешено Советом.
4. Он обязан следовать определенным правилам, касающимся санитарных условий, ватерклозетов и умывальников, а также общей гигиены. На видном месте он обязан вывесить копию городских постановлений, имеющих отношение к вышесказанному, а также свою тарифную сетку и не запрашивать плату, превышающую указанную в этой сетке.
5. Он обязан не селить в своем ночлежном доме или своевременно выселять из него любого вора, человека с репутацией вора, проститутку или человека с репутацией проститутки, а также любое безнравственное или непорядочное лицо».
Когда Варсаме дошел до этого последнего правила, Махмуд рассмеялся. Стало быть, он ничем не лучше проститутки? Аджиб[2 - Чудно?, странно (ар.). (Прим. пер.)]. Он уложил вещи, покинул свои тридцать кубических футов пространства и в тот же день перебрался к Доку.
Красный кирпич и стекло в свинцовых переплетах, вонь хлорки и крушения надежд. Бирже труда присуща атмосфера церкви; объявления о вакансиях подрагивают на стене, как бумажные молитвы, и скаредные муниципальные служащие выдают государственные пособия с надменностью священников, вкладывающих облатки в рот нуждающимся. Оставшиеся не у дел горняки, докеры, шоферы, разнорабочие, грузчики, слесари и заводские рабочие беспорядочно толпятся, стараясь не смотреть друг на друга. Сосновые половицы все в выбоинах от тяжелых рабочих ботинок, особенно рядом со стойкой, и усеяны спичками и окурками.
«Требуется сварщик»
«Не менее чем десятилетний опыт обязателен»
«Не достиг 21 года?»
«Профессиональное обучение»
«Требуются плотники»
«Работа могильщика»
Сунув руки поглубже в карманы спортивного пиджака, Махмуд переходит от одного объявления к другому, ищет, не нужен ли кому-нибудь рабочий в котельную или на литейный завод. В кармане у него одна мелочь, остальное просадил в покер. Ничего стоящего, не за что даже браться; ни одна компания, обычно с гарантией нанимающая цветных, не объявила о вакансиях. Он еще раз смотрит на объявление, в котором ищут могильщика. Это на Западном кладбище, жалованье вполне сносное, но, едва подумав, как будет ворочать лопатой тяжелую сырую землю и фаршировать ее окоченевшими трупами, он качает головой и бормочет: «Астагхфируллах»[3 - Дословно «ищу прощения у Аллаха». (Прим. пер.)].
Надвинув пониже на лоб хомбург, он берет желтый талон с отштампованной на нем цифрой «девять» и ждет своей очереди к стойке рядом с толстыми витками радиатора. Жар от раскаленного чугуна прожигает тонкие брюки и раздражает кожу, ощущения – нечто среднее между удовольствием и болью, и он раскачивается телом туда-сюда, чтобы тепло шло вверх и рассеивалось. Хозяева трампа, на который он нанялся в прошлый раз, установили новые котлы, и в белом свете топок все медные фитинги сияли, как золотые. Он отступал на шаг, чтобы полюбоваться разгоревшимся пламенем, потом подбрасывал еще угля и делал из белого света чуть ли не мыслящий бесцветный газ, который устремлялся вглубь и вверх по дымоходу, как джинн, удирающий из лампы. А сам он порождал этот огонь и растил его от желтого до оранжевого, потом до белого и голубого, пока наконец он не приобретал цвет, не имеющий названия, только энергию в чистом виде. Он гадал, каково было бы сделать вперед шаг, отделяющий его от этой энергии, и не спадет ли его кожа с плоти целиком, как в аду – кадаабка. Этот огонь воспитал его, сделал из хилого помощника буфетчика оплетенного мускулами кочегара, с опаленным и почерневшим от угольной пыли лицом, способного часами напролет нести вахту у адских врат.
– Вызывается талон номер девять.
Махмуд занимает стул перед четвертым окошком стойки, кладет шляпу на колено и протягивает серое удостоверение личности.
Женщина перед ним одета в коричневый твидовый костюм, губы накрашены темно-бордовой помадой, волосы собраны в большой пучок под сетку. Она смотрит на Махмуда поверх очочков в проволочной оправе.
– Чем могу помочь, мистер Маттан? – осведомляется она, изучая его удостоверение.
– Мне нужна помощь от государства, для меня нет хорошей работы.
– Какую работу вы умеете делать? – спрашивает она, растягивая каждое слово.
– Работу кочегара. В каменоломне.
– Посмотрим, не найдется ли у нас объявлений, которые мы еще не успели вывесить.
Она просматривает папки сбоку на перегородке; держится она вежливо, уж получше других служащих, которых он, похоже, раздражает, о чем бы ни просил – о работе или пособии по безработице.
– Есть тут одно место в литейной мастерской, но вряд ли вы подойдете, – говорит она, умалчивая об остальном.
Он встречается с ней взглядом и подавляет горькую улыбку.
Женщина ставит штампы в его удостоверении там, где надо, и отсчитывает два фунта и шесть шиллингов.
– Хорошего вам дня, мистер Маттан.
– И вам, мадам.
Махмуд встает, убирает фунтовые купюры в бумажник, надевает шляпу и покидает меланхоличную атмосферу биржи ради взбудораженного топота и гула над скаковым кругом.
Дерн в Чепстоу здорово взрыт; под моросящим дождем в воздух поднимаются запахи земли, травы и конского навоза. У Махмуда на собачьих бегах выдалось напряженное утро, но полегчало теперь, когда он переключился на лошадей. Копыта грохочут, земля трясется, его сердце колотится, другие игроки вопят или шепчут: «Давай же, давай!» Он ахает, едва какой-то всадник вылетает из седла, а потом – ни единого вздоха, когда его лошадь вырывается из волны перекатывающихся мускулов и грив и мчит, мчит, мчит, кинжально выставив вперед голову, пока не пересекает финишную черту. Изорванные корешки билетиков на ставки, пущенные по ветру, как конфетти, подтверждают, что он в числе немногих, кто догадался рискнуть и поставить на этого жеребца; выигрыш – больше десятка фунтов на лошадь с вероятностью двадцать к одному. Махмуд поменял ставку в последний момент, мельком увидев того коня на площадке перед стартом: животинка была красивая, вороная, и Махмуд готов был поклясться, что кивнула ему, пока конюх проводил ее мимо. И кличка удачная – Абиссинец. С кличками на «а» ему всегда везло, вдобавок в Абиссинии он бывал – еще один знак. Надо почаще налегать на «а», думает он. До сих пор он выигрывал, делая ставки на:
Ахтунга
Амбициозную Дэйзи
Апача
Артиста
Ангельскую Песнь
Артуа
Арканзасскую Гордость
Атлантическую Пирушку
Надо бы ему поскорее отдать пять фунтов Доку Мэдисону за жилье, комнатушку на Дэвис-стрит, пока деньги не утекли между пальцами и старый скряга не прицепился к нему. Остальное он потратит на мальчишек и Лору, побалует их теперь, когда судебный штраф он уже выплатил. Тот прошлый раз был ошибкой, в протокол вписали не только воровство, но и святотатство, слишком уж далеко он зашел, настроил всех против себя. Обувь, куча которой валялась по пятницам у порога завии, казалась легкой добычей – можно прийти в одной паре, уйти в другой, проще простого, – но деньги из закята – это уж точно харам. И не попросишь теперь ни о чем ни одного из них, кроме разве что Берлина.
Проходя мимо кинотеатра, он вскидывает голову посмотреть, какие фильмы крутят: «Двойной динамит». До сих пор. А из новинок – «Камо грядеши» и «Африканскую королеву». «Камо грядеши» он глянет, а от «Королевы» воротит нос. Слишком уж много он тратит на кино; это его главная слабость, но не только – еще и школа. Где еще он мог столько разузнать об этом месте, которое решил называть домом? Здешние мечты, историю и мифы? В темном, кишащем блохами зале он учился ухлестывать за девчонками, говорить как настоящий англичанин, выяснял, какими соседи видят самих себя и его. Кино заставило его осознать: на то, что бабье из Адамсдауна станет вести себя иначе, нет никакой надежды, – для них он навсегда останется кем-то вроде грязных кули в набедренных повязках или дикарей из джунглей, которые визжат перед тем, как быстро умереть, никого этим не огорчив, или в лучшем случае безмолвного мальчишки-прислужника, с гордостью принимающего наказания вместо своего белого господина. Удивительно, что Лора плюнула на всю эту хрень и увидела, что он такой же мужчина, как любой другой. Может, потому, что ее семья – голодная, сквернословящая, с выстраданной мудростью – была не похожа на те богатые и болтливые, какие показывали в кино? Теперь-то он знает, что она из сословия прислуги, из тех, кто с одинаковой легкостью и втопчет чернокожего в грязь, и по-братски протянет ему руку. Так или иначе, заработанные на флоте деньги в его карманах определенно помогли.
Махмуд спотыкается на расшатанном булыжнике и восстанавливает равновесие, смущенно оглядываясь по сторонам. Ему не дает покоя мысль, что его походка смотрится слишком странно, враскачку; обувь велика ему на целый размер, чтобы поместились болезненные мозоли на ступнях. Здесь нельзя выглядеть легкой добычей. Нельзя выказывать слабость, а то проживешь недолго, как те надравшиеся сомалийцы, которых полицейские забили насмерть в прошлом году. Походке чернокожего Махмуд научился сразу же, как прибыл в Кардифф: стал ходить, высоко подняв плечи, выставив локти, медленно скользя ступнями по земле, уткнув подбородок поглубже в воротник и надвинув шляпу на лицо, чтобы не выдать ничего, кроме своей принадлежности к мужчинам, – человеческий силуэт в движении. Даже теперь он передергивается, проходя мимо орав валлийцев, когда те в дни регбийных матчей возвращаются из кабаков; вроде бы все спокойно и нормально, как вдруг ему в лицо прилетает твердый, как бетон, кулак и от неожиданности из головы вышибает все слова. Гогот, пока они проходят мимо, шумный и упоенный самодовольством, напавший на него, стыд жарче топки. Другие черные матросы носят в кармане нож или бритву, но для него риск слишком велик. В полиции знают его как облупленного, могут обыскать из-за краденых часов, найдут бритву или нож – и что тогда? Два года за оружие для целей нападения. Вот он и отточил искусство быть незаметным. Ему известно, что его прозвали «Призраком», и это его устраивает, помогает в работе и напоминает героев американских комиксов, которые он выбирает старшему сыну:
Поглотителя
Черного Грома
Хрономанта
К тому времени как Махмуд входит в заведение Берлина, уже поздно; он заходил домой переодеться, пропустил мимо ушей требование платы за жилье от Дока и поспешно ушел в костюме-тройке и темном плаще. Берлин вечно вгоняет его в самокритику, у него-то вид всегда холеный, как у Кэри Гранта или еще какой звезды. Приглаживая усы, Махмуд толкает тяжелую черную дверь. Звуки калипсо заполняют зал, и от этого почему-то кажется, что в нем полно народу. Но в этот вечер понедельника клиентов здесь всего несколько: студенты в черных водолазках на барных табуретах, белая парочка, неуклюже танцующая у музыкального автомата, – их бедра движутся не в лад, рывками. Берлин застыл неподвижно за стойкой бара, вытянув руки по обе стороны, сжав кулаки на стойке и склонив голову. Задумавшись, он не сразу замечает, что напротив него на табурете устраивается Махмуд; наконец поднимает голову и устремляет на него далекий и неопределенный взгляд ореховых глаз. Лицо у него как у акулы, акулы-молота, с плоским черепом и широкими темными губами. Он хорош собой, но это опасная, холодная красота. Никогда не забываясь, он никому не дает забыться, углубившись в него. Махмуд знает, что он бросил дочь в Нью-Йорке и сына в Бораме; о детях он говорит легко, явно не испытывая ни чувства вины, ни сожалений. Эта бесстрастность Берлина нравится Махмуду. Она означает, что рассказать ему можно что угодно, и это все равно что говорить со стеной: ни потрясений, ни нравоучений, ни жалости или презрения. Берлин не ждет от жизни ничего хорошего и по-житейски мудро принимает даже худшие из трагедий. Его отца убили у него на глазах во время нападения дервишей на их клан, и, должно быть, Берлин, увидев, как перерезают горло его родному отцу, отучился цепляться за жизнь.
– Значит, опять тебя ветром сюда занесло? – спрашивает он на сомали.
– Тем же самым, которым надуло деньжат в мои карманы, сахиб. – Махмуд высыпает на стойку пригоршню монет. – Дай-ка мне пирог с черным кофе.
– Хороший день выдался на скачках?
– Очень даже недурной.
– Ты сегодня вечером кое-что пропустил. Полиция накрыла парочку китайских моряков с контрабандным опиумом, из ночлежки на Анджелина-стрит. Сами они тоже своим товаром не брезговали, так что в полицейскую тачку плелись на ватных ногах – они и тот любитель бибопа из университета. Здорово повеселили ребят, которые толкают травку, – еще бы, видеть, как полиция занята кем-то другим.
– Китайцы умеют хранить секреты. Должно быть, кто-то их сдал.
– Как говаривали в войну, у стен есть уши. Надолго в этом сучьем порту ничего не скроешь.
Махмуд в два укуса приканчивает свой пирог, жирный и черствый, но, к счастью, его скукоженный желудок легко удовлетворить. На кораблях он заглатывал все, что давали, и шел за добавкой, а теперь ест ровно столько, чтобы обмануть собственный мозг, заставить его поверить, будто бы он уже подкрепился.
– Как думаешь, это не тот новичок-сомалиец из Габилеи наушничает легавым? Не нравится он мне что-то.
– Кто? Саматар? Вот на его счет ты зря. У него же коленки трясутся, едва он завидит полицейскую машину. Не тот он человек, чтобы быть осведомителем.
– Стукач, – заявляет так и не переубежденный Махмуд, перекатывая это слово во рту, словно выпавший зуб. Стукачей он ненавидит еще сильнее, чем легавых. Сидишь себе с человеком, играешь в покер или греешь руки, обхватив кружку с чаем, и опомниться не успеваешь, как в полиции тебе повторяют все до последнего слова, что ты сказал, и, какую бы чушь ты ни нес, в каком бы подпитии ни был, все сказанное оборачивается против тебя. Начинаешь отпираться, а полицейские берут тебя за горло и говорят, что точно знают – все так и было.
– Осведомителя я сразу чую, а он не из таких, – упорствует Берлин. В разговорах один на один он ведет себя тише, ему незачем влезать на стремянку и изображать начальство, того, кто добился, кто всем показал. Дело к вечеру, и он угасает, как старый фитиль; протирает стойку нарочито медленно, кругами, проводит ладонью по глазам. Хоть волосы у него блестящие и черные, а спина прямая, ему уже за пятьдесят, и возраст начинает сказываться на нем; он уже не ходит по вечеринкам, которые только для того и устраивают, чтобы собрать денег на оплату жилья, и пользуется любым предлогом, лишь бы на выходных посидеть дома.
Его взгляд устремлен поверх плеча Махмуда, он следит за кем-то или чем-то.
– Что там? – спрашивает Махмуд и оборачивается.
– Да тот мерзавец с Ямайки, Кавер. Ну, плотник, который порезал в прошлом году Хэрси, – вон только что был возле музыкального автомата. Если кто здесь и осведомитель, так точно он.
Махмуд прищуривается, разглядывая фигурку, шагающую по противоположной стороне София-стрит. С виду вроде не тот человек, с которым хлопот не оберешься; при ходьбе размахивает руками, трубка у него в зубах попыхивает дымом в холодном воздухе.
– С чего ты взял?
– Хэрси он три раза полоснул бритвой, а потом еще ударил разбитой бутылкой.
– За что?
Берлин воздевает руки к потолку.
– Может, ненавидит сомалийцев – кто знает? Хэрси еле выкарабкался, провалялся в больнице, кровь ему переливали раз за разом, а ямаец, слышь-ка, попал под суд, его признали невиновным, похлопали по плечу и отпустили спать домой. И сюда он носа не кажет. Осведомитель. – Последнее слово Берлин произносит так, точно сплевывает.
– Эти вест-индийцы ненавидят нас просто так, ни за что. Вот и этот змей, мой домовладелец, вечно желает мне зла.
– На кораблях – вот где начинаются все беды, а потом перебираются вслед за нами на сушу. Все мы деремся за крохи. Дурака ты свалял, если решил жить здесь. Надо было остаться со своими. Этот Кавер рано или поздно угодит за решетку, но раньше кого-нибудь прикончит.
Плотник скрывается из виду.
– Ты по-прежнему решительно против того, чтобы вернуться в море? – вдруг спрашивает Берлин. – Может, тебе пошло бы на пользу – улеглась бы вся эта шумиха из-за завии, шейх забыл бы о том, что случилось.
– С какой стати? Я хочу видеть сыновей.
– В бинокль с другой стороны улицы?
– Все лучше, чем из-за океана или даже двух, – завернув губу, огрызается Махмуд.
– Ей что, не нужно, чтобы ты деньги приносил, или как? Не принимай ты всерьез этих девчонок. Насмотрятся кино и думают, что семейная жизнь будет как длинный номер с песнями и танцами. Сплошные сюси-пуси и ути-пути. Сколько ей – двадцать? Двадцать один? Откуда ей знать, что такое отцовский долг? Ты же не хочешь, чтобы твои сыновья видели, как ты сидишь без работы и вечно на мели.
– С чего ты взял, что я на мели? – Махмуд вскакивает с табурета и хлопает о стойку бумажником. – А ну, загляни внутрь – и это, по-твоему, на мели? Да мне живется лучше, чем каким-нибудь морякам в пальто из Армии спасения и перчатках без пальцев.
Берлин закатывает глаза и подталкивает бумажник к Махмуду.
– Да сиди в Кардиффе хоть до последней трубы. Какое мне дело. Еще кофе хочешь, босс?
Махмуд кивает и отирает ладонью лоб. У него колотится сердце, он не может объяснить, почему так боится, что в конце концов взойдет на борт какого-нибудь судна и не сумеет сдержать обещание, данное сыновьям. Поведет себя, как все остальные, словно плавучий мусор, который ничто и нигде не держит.
– Ты же игрок, тебе известно, что порой просто надо дать судьбе одержать верх. – Кофеварка шипит и выпускает пар, роняя последние капли в белую чашку. – Я не рассказывал тебе, что со мной случилось, когда я ездил в Нью-Йорк в 1919 году? – с улыбкой спрашивает Берлин.
Махмуд пожимает плечами.
– Я попал туда из доков Барри, славно послужил в торговом флоте в Первую мировую и был еще юнцом, но считал себя вроде как героем, пыжился, как раз начал отпускать усы. Судно разгрузилось в Нью-Йорке и ушло в сухой док, ну, я и сошел на берег вместе с жалованьем, которое так и норовило прожечь дыру у меня в кармане. Схожу и встречаю цветных красоток в мехах, чулках с вырезами чуть ли не до икр, с лентами в гладких волосах, и говорю себе: что?! Что я делал в кочегарке среди вонючих мужиков? Чуть ли не целую жизнь даром потратил! А девчонки эти были с юга, они и посоветовали мне поехать в Харлем, мол, самые шикарные и заводные места все там, и вообще для негра прямо рай. Говорю, везите меня туда сейчас же. Едем мы на такси, потому что я хочу покрасоваться, и останавливаемся у какой-то закусочной, чтобы подзаправиться. Еда как вся еда у них, и тут свинина, и там, но я нахожу что пожевать, а одна из девчонок ну прямо куколка, так бы и расцеловал, и вот она льнет ко мне и смеется, и я к ней, и тоже смеюсь – хе-хе-хе, все зубы наружу, и напрочь забыл про корабль, про увольнительную и про все на свете. Я ведь месяцами к женщине не подходил… а эти девчонки и поют для меня, и заказывают еще и еще, видят проходящих подружек и зазывают их к нам, и я все жмусь к ним да хохочу. Мы доедаем, а они и говорят: а вот там-то вечеринка! Едем! И Луи там будет, и Фэтс, и белые богачи с хорошим контрабандным виски. Плачу за всех, снова берем такси, а то моя девчонка говорит, что у нее ноги болят, и едем мы на эту вечеринку на Лексингтон-авеню, и не вижу я там ни Луи, ни Фэтса – только приглушенный свет, потрясающая музыка и крепкое пойло. И я плыву, теряю в толпе мою девчонку, и опомниться не успел, как по мне уже топчутся, танцуют вовсю, а я валяюсь на полу. Пить я умею, ты же знаешь, и я задумался, что же это за американская выпивка такая, если от нее меня так развезло. Хочу найти свою девчонку и схватиться за ее ноги, вот и ползу через толпу, думая, что узнаю ее красные туфли. Но их я так и не нашел, в итоге меня выкинули с вечеринки. Просыпаюсь на улице, и знаешь, что? Девчонки эти обобрали меня дочиста, в бумажнике осталась только карточка моряка, напоили, а потом обчистили. Поплелся я в центр, поближе к порту, но показываться капитану было стыдно, так что пристроился в одном из котлованов, где строили новый квартал и новый небоскреб. Сижу я, значит, жалею себя, смотрю на воду и держусь за голову, и вдруг кто-то как толкнет меня сзади. Вскакиваю, думаю, сейчас будет драка. А тот человек смеется, я и говорю: чего скалишься-то? И кулаки заношу. Не признал? А с какой стати мне тебя признавать? Гамбург, пятый год, говорит он. Я так и попятился, думаю, не может быть, а он изображает, как достает стрелу и стреляет в меня, и тут-то я вспомнил его имя. Тайайаке.
Махмуду кажется, будто он вернулся в дугси – в школу и учитель Корана расхаживает туда-сюда, и рассказы омывают его высокими волнами.
– И кто это был?