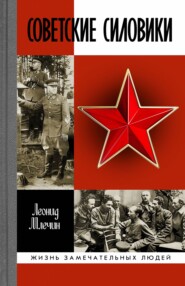скачать книгу бесплатно
Фрунзе много лет страдал от болей в желудке, у него диагностировали язвенную болезнь двенадцатиперстной кишки. Потом у него начались опасные кишечные кровотечения, которые надолго укладывали его в постель.
В годы Гражданской войны ему иной раз приходилось руководить боевыми действиями не вставая с постели. Лечиться он не любил. Когда мучили боли, глотал разведенную в воде пищевую соду. В 1922 году его хотели отправить пить лечебные воды на знаменитый курорт Карлсбад (ныне Карловы Вары), что помогает многим язвенникам.
Высших советских чиновников тогда часто отправляли лечиться за границу, не доверяя отечественной медицине. Большевистские лидеры, компенсируя себе трудности и неудобства былой, подпольной или эмигрантской жизни, быстро освоили преимущества своего нового высокого положения. Они не спорили, когда врачи, тонко чувствовавшие настроение своих высокопоставленных пациентов, предписывали им длительный отдых в комфортных условиях. Лечились за границей, в основном в Германии.
Михаил Васильевич наотрез отказался.
В 1925 году ко всем прочим неприятностям он трижды попадал в автомобильные аварии, что при скромном состоянии автопарка того времени представляется невероятным. Правда, и характер дорожно-транспортных происшествий был иным, нежели ныне. В начале сентября он выпал из машины на полном ходу и сильно ушибся.
Он взял отпуск. 7 сентября уехал в Крым. В Мухолатке отдыхали Сталин и командующий войсками Московского военного округа Климент Ефремович Ворошилов. Фрунзе намеревался ездить с ними на охоту. Надеялся, что на свежем воздухе все пройдет. Но у него открылось кровотечение. Врачи, боясь за жизнь высокопоставленного пациента, почти насильно уложили его в постель.
29 сентября все трое уехали в Москву. По дороге Михаил Васильевич еще и простудился. В Москве его сразу же отправили в Кремлевскую больницу.
8 октября под руководством наркома здравоохранения РСФСР Николая Александровича Семашко дюжина врачей осмотрела Фрунзе. Консилиум пришел к выводу, что существует опасность прободения язвы, поэтому показана хирургическая операция. Это мнение не было единодушным. Некоторые врачи высказывались за консервативное лечение. В необходимости операции сомневался и Владимир Николаевич Розанов.
Фрунзе не только не сопротивлялся операции, а, напротив, просил о ней. Об этом свидетельствуют письма жене, Софии Алексеевне, которая лечилась в Ялте от туберкулеза. По совету врачей Фрунзе отправлял ее и в Финляндию, и в Крым, но ничего не помогало. София Алексеевна чувствовала себя плохо, не вставала. Врачи рекомендовали ей с сыном Тимуром и дочкой Татьяной провести в Ялте всю зиму. Она тревожилась: хватит ли им денег?
Фрунзе старался ее успокоить:
«Советы врачей относительно Ялты считаю правильными. Попробуйте провести зиму там. С деньгами как-нибудь справлюсь. При условии, конечно, что ты не будешь оплачивать из своих средств все визиты врачей. На это никаких заработков не хватит. В последний раз взял из ЦК денег. Думаю, что зиму проживем. Лишь бы только ты прочно стала на ноги. Посылаю своего порученца – устроить все для жительства в Ялте».
20 октября 1925 года Фрунзе написал жене:
«От тебя что-то долго нет сообщений. Если верить телеграммам, то как будто бы температура нормальная и сон у тебя лучше. Ну, а как со всем остальным? Я все еще в больнице. В субботу будет новый консилиум. Я сейчас совсем здоров. Боюсь, как бы не отказались от операции».
В следующем консилиуме 24 октября приняли участие уже семнадцать специалистов. Они пришли к прежнему выводу: «Давность заболевания и наклонность к кровотечению, могущему оказаться жизненно опасным, не дают права рисковать дальнейшим выжидательным лечением».
Врачи предупредили Фрунзе, что операция может оказаться трудной и серьезной и не гарантирует стопроцентного излечения. Тем не менее Михаил Васильевич, как рассказывал впоследствии профессор Иван Иванович Греков, «пожелал подвергнуться операции, так как считал, что его состояние лишает его возможности продолжать ответственную работу».
Работавший тогда в «Известиях» Иван Михайлович Гронский встретил Фрунзе в Кремлевской больнице, которая располагалась в Потешном дворце:
«Больница, несмотря на ее громкое название, была более чем маленькой. Да и больных в ней, как я узнал, было немного: всего лишь человек десять-пятнадцать. В небольшой чистенькой комнате – палате на втором этаже, куда меня поместили, не было ничего примечательного: простая металлическая кровать, два или три венских стула, тумбочка и простой стол, вот, пожалуй, и вся обстановка. Поразили меня только, пожалуй, толстенные стены Потешного дворца…»
Сначала в Кремле установили два зубоврачебных кресла. Когда в 1918 году началась эпидемия сыпного тифа, нарком здравоохранения Николай Семашко и управляющий делами Совнаркома Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич подписали «План организации санитарного надзора Кремля», чтобы позаботиться о здоровье наркомов и членов ЦК.
Сразу после смерти Ленина, буквально через неделю, 31 января 1924 года на пленуме ЦК Климент Ефремович Ворошилов сделал доклад «О здоровье партверхушки». После этого началось создание особой, разветвленной системы медицины для высшей номенклатуры. Но к моменту операции Фрунзе Кремлевская больница пребывала еще в зачаточном состоянии.
Накануне операции Михаил Васильевич написал последнее письмо жене в Ялту:
«Ну вот, наконец, подошел и конец моим испытаниям! Завтра утром я переезжаю в Солдатенковскую больницу, а послезавтра (в четверг) будет и операция. Когда ты получишь это письмо, вероятно, в твоих руках уже будет телеграмма, извещающая о ее результатах.
Я сейчас чувствую себя абсолютно здоровым и даже как-то смешно не только идти, а даже думать об операции. Тем не менее оба консилиума постановили ее делать. Лично я этим решением удовлетворен. Пусть уж раз навсегда разглядят хорошенько, что там есть, и попытаются наметить настоящее лечение.
У меня самого все чаще и чаще мелькает мысль, что ничего серьезного нет, ибо, в противном случае, как-то трудно объяснять факты моей быстрой поправки после отдыха и лечения. Ну, уж теперь недолго ждать…»
Он был очень огорчен тяжелым состоянием жены:
«Твои письма получил. Читал их прямо с мукой. Что это, действительно, навалились на тебя все болезни! Их так много, что прямо не верится в возможность выздоровления. Ты даже и не ходишь. Никуда не годится, синьора дорогая.
Надо попробовать тебе серьезно взяться за лечение. Для этого надо прежде всего взять себя в руки. А то у нас все как-то идет хуже и хуже. От твоих забот о детях выходит хуже тебе, а в конечном счете и им. Мне как-то пришлось услышать про нас такую фразу: “Семья Фрунзе какая-то трагическая… Все больны, и на всех сыпятся все несчастья!..” И правда, мы представляем какой-то непрерывный, сплошной лазарет. Надо попытаться изменить это все решительно. Я за это дело взялся. Надо сделать и тебе…»
Это письмо объясняет, почему Фрунзе сам хотел операции. Ему надоело числиться среди хворых и слабых. Он надеялся разом избавиться от своих недугов. Предсмертное письмо жена не успела получить. Быстрее пришла телеграмма о смерти Михаила Васильевича…
Оперировал наркома Розанов, ассистировали известнейшие хирурги Иван Иванович Греков и Алексей Васильевич Мартынов, наркоз давал Алексей Дмитриевич Очкин. За ходом операции наблюдали сотрудники Лечебно-санитарного управления Кремля.
Фрунзе с трудом засыпал, поэтому операцию начали с получасовым опозданием, пишет доцент Московской медицинской академии имени И. М. Сеченова Виктор Давидович Тополянский, предпринявший детальное медико-историческое исследование этой загадочной смерти. Вся операция продолжалась тридцать пять минут, а наркоз больному давали больше часа.
Судя по всему, сначала использовали эфир, но поскольку Фрунзе не засыпал, наркоз изменили. Прибегли к хлороформу – это очень сильное и опасное средство. Передозировка хлороформа смертельно опасна. Во время операции использовали шестьдесят граммов хлороформа и сто сорок граммов эфира. Это значительно больше, чем можно было давать Михаилу Васильевичу.
Выступая перед правлением общества старых большевиков, нарком здравоохранения Семашко прямо говорил, что причиной смерти Фрунзе стало неправильное проведение наркоза, и добавил, что если бы он присутствовал на операции, то, конечно же, прекратил бы наркоз…
Во время операции у Фрунзе стал падать пульс, ему начали вводить препараты, стимулирующие сердечную деятельность. В те годы таким средством считался адреналин. Кардиологам еще не было известно, что сочетание хлороформа и адреналина приводит к нарушению сердечного ритма. Сразу после операции сердце стало отказывать. Попытки восстановить сердечную деятельность не дали успеха.
Через тридцать девять часов, в пять тридцать утра 31 октября 1925 года, Фрунзе скончался от сердечной недостаточности.
Лучшие хирурги страны, оперировавшие Фрунзе, похоже, действительно допустили роковую ошибку, стоившую ему жизни. Но эта ошибка была следствием роковой случайности, врачебного недосмотра.
В семье Фрунзе мужчины как-то очень рано уходили из жизни. Отец будущего военного министра умер, когда ему было сорок с небольшим. Самому Михаилу Васильевичу исполнилось всего сорок. Его сын лейтенант Тимур Фрунзе 19 февраля 1942 года погиб в воздушном бою под Москвой – в районе Старой Руссы. Посмертно удостоен звания Героя Советского Союза… В этой семье мужчины себя не жалели. И потому остались в памяти благодарных потомков. За готовность жертвовать собой. За бескорыстие. И служение людям.
А новым военным министром стал глубоко преданный лично Сталину будущий маршал Климент Ефремович Ворошилов. Впрочем, и он находился под постоянным контролем других силовиков.
Дзержинский. «Нет имени страшнее моего»
Дзержинский и по сей день остается демонической фигурой, окутанной множеством мифов и слухов. В чем только его не подозревают! Даже в инцесте, запрещенной любви к самым близким родственникам.
Феликс Эдмундович родился 30 августа 1877 года в имении Дзержиново Ошмянского уезда Виленской губернии (ныне Столбцовский район Минской области) в семье мелкопоместного дворянина. У его матери Хелены было восемь детей – Альдона, Станислав, Казимир, Ядвига, Игнатий, Владислав, Феликс, Ванда.
Говорят, будто юный Феликс безумно влюбился в сестру Ванду, а девочка не отвечала ему взаимностью. Охваченный безумной ревностью, Феликс, страстный и импульсивный от рождения, застрелил ее из отцовского ружья. Есть и другая, не менее ужасная версия смерти девочки. Братья Феликс и Станислав решили пострелять по мишени. Вдруг на линии огня появилась сестренка Ванда… Ей было всего четырнадцать лет. Чья именно пуля ее убила – Феликса или Станислава, – осталось неизвестным.
Вот что точно известно, так это трагическая история Станислава Дзержинского. Он работал в банке, и в 1917 году его убили. Феликс Дзержинский, побывав в родных местах, писал о судьбе брата:
«Бедный Стась пал жертвой трусости других. Ему давали на сохранение деньги. Грабители знали об этом, знали также, что у него есть оружие и собака и что он отбил бы всякое открытое нападение. Но они обманули его. Они попросились, чтобы он предоставил им ужин и ночлег, и убили его. Им не удалось ничего украсть, так как служанка выскочила в окно, и ее брат пришел на помощь».
Дзержинский выкопал коробку с семейными ценностями, спрятанную старшей сестрой Альдоной, но оставить их у себя не решился, сдал в банк и вернулся в Петроград, чтобы принять участие в Октябрьской революции.
Теперь подозревают, что и к Альдоне Дзержинской Феликс относился подозрительно нежно, о чем вроде как свидетельствуют его письма, заботливо хранимые в партийном архиве. Старшая сестра была его наперсницей все предреволюционные годы, когда его сажали то в одну тюрьму, то в другую.
Вот одно из таких посланий, адресованных Альдоне:
«Я хотел бы увидеть тебя, и, может быть, лишь тогда ты почувствовала бы, что я остался таким же, каким был в те времена, когда я был тебе близок не только по крови…»
Впрочем, этим словам есть иное объяснение. Альдона, как старшая из детей, раньше всех стала самостоятельной, вышла замуж и заботилась о Феликсе, когда он находился в заключении. И близки брат с сестрой были не в интимном смысле, а в духовном.
Это письмо Дзержинский отправил сестре уже в роли председателя ВЧК, наводившего страх на всю Россию:
«Я остался таким же, каким и был, хотя для многих нет имени страшнее моего. И я чувствую, что ты не можешь примириться с мыслью, что я – это я, – и не можешь меня понять, зная меня в прошлом…
Ты видишь лишь то, что доходит до тебя, быть может, в сгущенных красках. Ты свидетель и жертва молоха войны, а теперь разрухи. Из-под твоих ног ускользает почва, на которой ты жила. Я же – вечный скиталец – нахожусь в гуще перемен и создания новой жизни. Ты обращаешься своей мыслью и душой к прошлому. Я вижу будущее и хочу и должен сам быть участником его создания…»
Письмо-оправдание. Руководитель карательного ведомства пытался объяснить сестре, почему он так жесток. И в самом деле: как идеалист и романтик, ненавидевший жандармов, провокаторов, фабрикацию дел, неоправданно суровые приговоры, пытки, тюрьмы, смертную казнь, как такой человек мог стать председателем ВЧК?
Непросто понять характер этого человека. Милый мальчик с тонкими чертами лица, натура открытая и благородная. Из хорошей дворянской семьи, очень любил своих братьев и сестер. И вдруг этот милый мальчик превращается в палача, которого ненавидит половина России.
Феликс учился в гимназии, но учебу не закончил. И на работу устраиваться не стал. В восемнадцать лет вступил в социал-демократический кружок, затем в партию «Социал-демократия Королевства Польского и Литвы». С этого момента и до 1917 года Дзержинский занимался партийной работой. Профессиональный революционер – так это тогда называлось. Для него существовала лишь революция, одна только революция и ничего кроме революции.
С того момента, как в семнадцать лет он пришел в революционную деятельность, на свободе он почти не был. Шесть лет провел на каторге и пять – в ссылке. Иногда в кандалах. Иногда в одиночке. Иногда в лазарете. Жандармы предлагали ему свободу в обмен на сотрудничество. Отказывался. Готов был к худшему. Явно не отрекся бы от своей веры и перед эшафотом.
«Как я хотел бы, чтобы меня никто не любил, – писал экзальтированный юноша сестре Альдоне, – чтобы моя гибель ни в ком не вызвала боли; тогда я мог бы полностью распоряжаться самим собой…»
Его единомышленников пороли розгами, приговаривали к смертной казни и вешали. Они умирали от туберкулеза или в порыве отчаяния кончали жизнь самоубийством. Разве мог он об этом забыть? Или простить палачей?
«В ночной тиши я отчетливо слышу, как пилят, обтесывают доски, – записывал он в дневнике 7 мая 1908 года. – “Это готовят виселицу”, – мелькает в голове. Я ложусь, натягиваю одеяло на голову. Это уже не помогает. Сегодня кто-нибудь будет повешен. Он знает об этом. К нему приходят, набрасываются на него, вяжут, затыкают ему рот, чтобы не кричал. А может быть, он не сопротивляется, позволяет связать себе руки и надеть рубаху смерти. И ведут его и смотрят, как его хватает палач, смотрят на его предсмертные судороги и, может быть, циническими словами провожают его, когда зарывают труп, как зарывают падаль…»
Он полагал, что нет оснований быть снисходительным к тем, кто держал его и его единомышленников на каторге. Тем более в годы Гражданской войны. В борьбе не на жизнь, а на смерть он не считал себя связанным какими-то нормами морали. Это одна из причин, объясняющих, почему на посту главы ведомства госбезопасности Дзержинский был жесток и беспощаден.
Он сидел бы в тюрьмах вечно, но его, как и других политических заключенных, освободила Февральская революция. 18 марта 1917 года он писал жене из Москвы:
«Уже несколько дней я отдыхаю почти в деревне, в Сокольниках, так как впечатления и горячка первых дней свободы и революции были слишком сильны, и мои нервы, ослабленные столькими годами тюремной тишины, не выдержали возложенной на них нагрузки. Я немного захворал, но сейчас, после нескольких дней отдыха в постели, лихорадка совершенно прошла, и я чувствую себя вполне хорошо. Врач также не нашел ничего опасного, и, вероятно, не позже чем через неделю я вернусь опять к жизни…»
Дзержинский участвовал в историческом заседании ЦК партии большевиков 10 октября 1917 года в Петрограде, где было принято решение о подготовке вооруженного восстания. Он предложил «создать для политического руководства на ближайшее время политическое бюро из членов ЦК». Идея Дзержинского понравилась: политбюро существовало до августа 1991 года. А в декабре Дзержинский получил свое главное задание – сформировать и возглавить ВЧК.
Почему выбрали именно его?
Наверное, исходили из того, что он человек надежный, неподкупный, равнодушный к материальным благам. Его считали аскетом, поражались его целеустремленности и принципиальности. При всей его порывистости и эмоциональности он старался обуздывать свою натуру.
После побега из ссылки записал в дневнике: «Жизнь такова, что требует, чтобы мы преодолели наши чувства и подчинили их холодному рассудку».
Были у него очевидный интерес к следственной работе и испепеляющая ненависть к предателям. В тюремной камере пометил в дневнике:
«Все сидящие рядом со мной попались из-за предательства… Шпионов действительно много. Здесь так часто сменяют товарищей по камере (редко кто сидит один, большинство сидят по два человека, а есть камеры, в которых сидят по трое и больше), что цель этого становится очевидной: дать возможность неразоблаченным шпикам узнать как можно больше. Несколько дней тому назад я увидел в окно бесспорно уличенного в провокации на прогулке с вновь прибывшим из провинции. Я крикнул в окно: “Товарищ! Гуляющий с тобой – известный мерзавец, провокатор!”».
Еще в дореволюционные годы Дзержинскому товарищи по партии доверяли выявлять среди большевиков провокаторов, внедренных полицией. Он вел следствие методично и почти профессионально.
«На третий или четвертый день после Февральской революции на трибуну пробрался исхудалый, бледный человек, – вспоминал Вацлав Сольский, член Минского Совета рабочих и солдатских депутатов. – Он сказал: “Моя фамилия Дзержинский. Я только что из тюрьмы”… Дзержинский говорил, что для революционера не существует вообще объективной честности: революция исключает всякий объективизм. То, что в одних условиях считается честным, – нечестно в других, а для революционеров честно только то, что ведет к цели».
Кожаные люди
С началом Первой мировой войны в Российской империи ввели сухой закон – императорским указом от 18 июля 1914 года. Временное правительство 27 марта 1917 года подтвердило запрет на «продажу для питьевого употребления крепких напитков и спиртосодержащих веществ». Но в Гражданскую войну недостатка в спиртном не было. Помимо шустовского коньяка пили политуру, кишмишевку, самогонку, вообще всё, что попадалось под руку. Алкоголем – единственный доступный в ту пору транквилизатор – снимали тревогу и беспокойство, говоря современным языком, стресс. Не помогало!
Множество людей не желали успокоения и замирения. Напротив, поднимали градус противостояния. Переговоры, компромиссы, взаимовыгодные договоренности – все это даже не обсуждалось. Уничтожить врага под корень! Не надо было приказывать убивать. Убивали по собственному желанию.
Масштабы террора в Гражданскую войну трудно установить. Своими подвигами все хвастались, но расстрельно-вешательной статистики не вели. Однако же разница между тем, что творилось при белых и при красных, конечно, была – в масштабе террора и в отношении к нему.
Белый террор – самодеятельность отдельных военачальников и ожесточившихся офицеров. Для советской власти уничтожение врагов – государственная политика.
Вот в чем было новаторство большевиков: обезличенное уничтожение целых социальных групп и классов. Через десять дней после октябрьского переворота в «Известиях ЦИК» появилась статья «Террор и гражданская война». В ней говорилось: «Странны, если не сказать более, требования о прекращении террора, о восстановлении гражданских свобод». Это была принципиальная позиция советской власти: переустройство жизни требует террора и бесправия.
Гражданская война не пугала.
«Был американский журналист, – записала в дневнике член ЦК партии Александра Михайловна Коллонтай. – Спрашивал: неужели я сторонница гражданской войны? Ответила ему напоминанием о лютой, жестокой, кровавой, беспощадной гражданской войне на его родине в 1862 году между северными, прогрессивными, и южными – хозяйственно-реакционными штатами. В глазах нынешних американцев “разбойники” того времени – истые “национальные герои”. Слушал, но, кажется, аналогия его не убедила».
На заседании ЦК Ленин недовольно заметил:
– Большевики часто чересчур добродушны. Мы должны применить силу.
14 ноября Ленин выступал на заседании столичного комитета партии:
– Когда нам необходимо арестовывать – мы будем… Когда кричали об арестах, то тверской мужичок пришел и сказал: “всех их арестуйте”. Вот это я понимаю. Вот он имеет понимание, что такое диктатура пролетариата.
На третьем съезде Советов Ленин объявил:
– Ни один еще вопрос классовой борьбы не решался в истории иначе, как насилием. Насилие, когда оно происходит со стороны трудящихся, эксплуатируемых масс против эксплуататоров, – да, мы за такое насилие!
22 ноября Ленин подписал декрет № 1 о суде, который отменял все (!) старые законы и разгонял старый суд. Готовили его под руководством латышского революционера Петра Ивановича Стучки, который окончил юридический факультет Петербургского университета и до первого ареста работал помощником присяжного поверенного.
«Наш проект декрета, – вспоминал Стучка, – встретил во Владимире Ильиче восторженного сторонника. Суть декрета заключалась в двух положениях: 1) разогнать старый суд и 2) отменить все старые законы».
Заодно отменили институт судебных следователей, прокурорского надзора и адвокатуру. Восьмая статья декрета учреждала «рабочие и крестьянские революционные трибуналы» – «для борьбы против контрреволюционных сил».
В написанном Петром Стучкой «Руководстве для устройства революционных трибуналов» говорилось: «В своих решениях революционные трибуналы свободны в выборе средств и мер борьбы с нарушителями революционного порядка».
Трибуналы руководствовались революционным чутьем и социалистическим правосознанием. Если председатель трибунала считал, что перед ним преступник, значит, так и есть. Соратники и подчиненные Ленина по всей стране охотно ставили к стенке «врагов народа и революции».
Страна вступила в эпоху беззакония – в прямом и переносном смысле.
«В Интимном театре, – пометила в дневнике известная писательница Зинаида Николаевна Гиппиус, – на благотворительном концерте, исполнялся романс Рахманинова на (старые) слова Мережковского “Христос Воскрес”. Матросу из публики не понравился смысл слов (Христос зарыдал бы, увидев землю в крови ненависти наших дней). Ну, матрос и пальнул в певца, чуть не убил».
Ленинцы исходили из того, что правосудие служит государству. Политическая целесообразность важнее норм права. Власть не правосудие осуществляет, а устраняет политических врагов.
В сентябре 1918 года представители дипломатического корпуса заявили протест против красного террора. Ответ наркома по иностранным делам Георгия Чичерина заложил традицию дипломатии – соединять лицемерие с бравадой:
«Нота, врученная нам, представляет собою акт грубого вмешательства во внутренние дела России. Во всем капиталистическом мире господствует режим белого террора против рабочего класса. Никакие лицемерные протесты и просьбы не удержат руку, которая будет карать тех, кто поднимает оружие против рабочих и беднейших крестьян России».
Приказом Наркомата просвещения закрыли все юридические факультеты. Приказ вошел в историю. «В бесправной стране права знать не нужно», – горько констатировал профессор-историк Юрий Владимирович Готье, запечатлевший в своем дневнике революционную эпоху.
Большевики не сомневались в том, что они умеют управлять и наукой, и просвещением. Вслед за юридическими факультетами ликвидировали и историко-филологические факультеты. Не то преподают! Отменили все ученые степени и звания. Произошло резкое падение уровня преподавания.
Ректор Московского университета известный биолог Михаил Михайлович Новиков, бывший депутат Государственной думы, поинтересовался у руководителей Наркомата просвещения, почему одного за другим арестовывают преподавателей, чего в истории России никогда не происходило.
– Вы как биолог должны знать, сколько крови и грязи бывает при рождении человека. А мы рождаем целый мир, – последовал хладнокровный ответ.
Михаил Новиков отказался от поста ректора МГУ.
1 февраля 1922 года Московский университет прекратил занятия. Это была своего рода забастовка профессоров. Они составили петицию в правительство:
«После разрушения средней школы теперь гибнет и высшая, почти лишенная материальных средств и отрезанная от мировой науки. Провинциальные университеты, десятки лет служившие с честью народу и науке, закрываются или превращаются в средние школы. Огонек науки едва теплится в столичных университетах…
Страна, раньше бедная научными силами, теперь ими обнищала. Московский университет не хочет вводить в обман ни представителей власти, ни учащуюся молодежь, ни народ. Надо решиться на одно из двух: или высшие учебные заведения закрыть, или прямо и решительно покончить с бывшим до сих пор отношением к высшей школе и преподавателям».