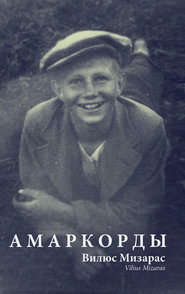скачать книгу бесплатно
Амаркорды (сборник)
Вилюс Мизарас
Книга кратких рассказов для неторопливого и вдумчивого читателя. Сюжеты в основном автобиографичны, о чем свидетельствует и название, одолженное у известного кинофильма Федерико Феллини “Амаркорд”.
Проза литовского автора, местами затрагивает жестокие перипетии людских отношений после Второй мировой войны, психологически сильно действовавшие на ребенка и подростка и незабываемые до сих пор. Но и во все времена при смене экономических и политических систем человек остается довольно слабым существом с хрупкой оболочкой цивилизации, о чем не стоит забывать при оценке окружающих и самого себя.
Вилюс Мизарас
Амаркорды (сборник)
© Вилюс Мизарас, текст
* * *
Сыну Мантвидасу и невестке Марине посвящается
Мои корни в Литве, на кладбищах деревушек Бяржиняй и Мялайшяй Биржайского района. Неподалеку рос и я сам, в речке Апащя ловил плотву и раков, только никак не мог научиться плавать. Но однажды мой сосед Юозас Лукше, желая помочь, бросил меня в омут около усадьбы Тункунаса, и я, нахлебавшись воды, выкарабкался. Этот случай стал эталоном всей дальнейшей моей жизни.
Взрослые вокруг меня трудились, пели, плакали, и, в жерновах смен политических систем стерев оболочку цивилизации, в более спокойные времена покрывающую инстинкты, убивали друг друга и умирали сами. Отражения событий этих послевоенных лет и другие блуждающие огоньки прошлого периодически встают у меня перед глазами. Некоторые из них решился показать и любезному русскому читателю. Если они у него вызовут какие-нибудь эмоции, не так важно – положительные или отрицательные, буду польщен.
Предложенные тексты – почти половина из книжки “Kirminas” (“Червь”), изданной в 1991 г. Другая половина разонравилась самому.
Прошу прощения у глубокоуважаемого мною Федерико Феллини, что, не согласовав с ним, его название приспособил и к своим эскизам. Сам подходящего не придумал.
Автор
Ливерпуль
Когда в нагих ветвях кленов начинают выть осенние ветры, моей бабушке становится тревожно. Она знает – скоро пойдет дождь, стекая с камня, вода просочится сквозь землю и доберется до ее головы. Это ей напомнит избушку с соломенной крышей, эта крыша давно нештопана и, как только начинается дождь, крупные бурые капли, похожие на клопов, сперва появляются на газетах, которыми обклеян потолок, потом, тоже как клопы, внезапно падают вниз на ее деревянную, накрытую полотнищем, кровать, а позже – со стуком на земляной пол у печки и, наконец, начинают литься струей. Тогда моя бабушка хватает корыто, тазы, ведра и ставит туда, где капает или еще будет капать вода.
Сюда моя бабушка корыто с собой не захватила.
Но она верит, потому что читала в единственной книге, которая у нее была, что у всего, кроме Господа Бога, есть начало и конец, значит придет конец и дождю, землю скует мороз, от проходящих ног и проезжающих колес машин она начнет звенеть, будут слышны и приглушенные голоса людей, что говорят – не поймешь, но моя бабушка будет слушать их и другие звуки как музыку и не соскучится.
А ночью ярко-ярко, как некогда в молодости, будет светить луна, мимо нее поплывут облака, но будет казаться, что облака стоят на месте, а плывет луна, и тогда она, луна, у нее в мыслях превратится в огромный пароход, который давным-давно вез ее в невиданный, неслышанный город Ливерпуль.
Сперва, конечно, было письмо. Обещал написать, как только туда приедет, но она ждала-ждала, как потом рассказывала, глаза прождала, и лишь когда ждать уже перестала, пришло не только письмо, но и шипкарта[1 - Шипкарта – от слов ship carard (англ.) – билет на пароход.], она побежала к аптекарю и просила прочесть, ибо моя бабушка сама написанного от руки читать не умела, потом просила, чтоб читал еще и еще, слушая, совсем растерялась, комкала уголок косынки и им же вытирала слезы и не знала, что делать, и жалела, что сердилась на него, пропавшего, и было стыдно, что потеряла надежду. А писал он, что в той Америке все не так, как здесь им рассказывали, что золото и там с неба не падает, его надо потом зарабатывать в каменноугольных копях, что сначала было очень трудно, думал, что не выдержит, еще труднее, не зная языка, но теперь самые большие трудности позади, он накопил немного денег и купил ей шипкарту, ждет ее, как солнца восходящего, целует ее руки и ноги и снова ждет.
Потом моя бабушка с агентом ехала в Ригу, а Рига – очень большой город, будет больше Папилиса и Биржая в кучу сложеных, там очень много фабрик с высокими дымящимися трубами, а дома каменные и очень похожие друг на друга, среди этих домов она заблудилась, агент ее еле нашел и накричал, что шляется одна где не надо.
В Рижском порту агент посадил ее на пароход, длинный-длинный, как от хаты до гумна, и она дни и ночи плыла в невиданный, неслышанный город Ливерпуль, где, как ей объяснили, пересядет на другой пароход и уже без пересадок доплывет до Америки, а там ее встретит тот, который ее ждет как солнца восходящего.
И моя бабушка плыла, и думала про чудесный город Ливерпуль, чудесный край Америку и особенно про того, который ее ждет, и не думала, что она будет моей бабушкой или что будет бабушкой вообще.
Теперь время ветров уже прошло, землю, как моя бабушка и надеялась, сковал мороз, и над нагими ветвями кленов белеют облака, моя бабушка смотрит на них и не может насмотреться, смотрит потому, что они очень похожи на морские волны, а среди этих волн плывет лунный пароход и моей бабушке начинает казаться, что на том пароходе сидит она сама и плывет, плывет, плывет в свой город Ливерпуль.
И моей бабушке даже на ум не приходит, что парохода, который ее вез, наверно, давно нет, ведь с того времени уже прошли две мировые войны, нет и того, который ее ждал и не дождался, нет наконец и ее самой. Есть где-то чудесный город Луверпуль и чудесный край Америка, чудесны они для тех, кто их не видел и потому, что не видел, как чудесно многое, чего не знаем или что не сбывается.
В Ливерпуле, перед пересадкой на другой пароход, у моей бабушки проверяли здоровье, сказали, что у нее что-то с глазами, наверно, слишком пристально она смотрела в сторону Ливерпуля и Америки, сказали, что с такими глазами Америке она не нужна, а с какими нужна, не сказали, и моя бабушка никогда этого не узнала. И возвращалась моя бабушка назад, и возвращаясь никуда не смотрела и ничего не видела, ибо из ее негодных Америке глаз беспрерывно катились слезы.
Лунный пароход шумит, прорываясь сквозь волны облаков, как шумел тот, настоящий, шумел всю жизнь, и своими негодными Америке глазами, которые до восьмидесяти лет верно помогали рукам вдевать в иголку нитку, моя бабушка видела не свои нескончаемые заботы, а чудесный город Ливерпуль. А когда эти негодные Америке глаза стали негодные ей самой, чудесный город Ливерпуль из них переселился в рот, и все, кто собирался навестить мою бабушку, знали, что услышат давно знакомую историю о ее путешествии.
Теперь моя бабушка уже не имеет ни глаз, ни рта, не имеет и себя саму и даже не знает, была ли она когда-то вообще, может была только ее поездка в Ливерпуль, которая продолжалась всю ее жизнь, продолжается и сейчас, потому что она ей верней и значительней, чем жизнь, и не могли ее уничтожить никакие смерти, отделить никакие слои земли и куски камней, а может и лежит здесь не она, а длинный-длинный, как от хаты до гумна, пароход, и везет, везет, везет ее в невиданный, неслышанный город Ливерпуль.
Времена года меняются, замерзшую землю покрывает снег, мягкий-мягкий, как одеяло, по ночам от лунного света он так нежно блестит, а днем поглощает звуки, для моей бабушки они сливаются с шумом волн и кажется, что эти волны становятся все спокойней, пароход меньше качает, от вечного путешествия она начинает чувствовать усталость и засыпает.
А когда просыпается, уже шелестит зазеленевший клен, в его листьях играет ветер, а на ветку иногда садится скворец и начинает свистеть, а может и просыпается моя бабушка от его свиста, ибо он напоминает ей звуки невиданного, неслышанного порта, звуки того далекого путешествия. А может просыпается моя бабушка от самой весны, ведь говорят, что весной просыпается все, если это правда, значит, просыпаются и мертвые, просыпаются и слушают все весенние звуки, а тех звуков много и здесь, они возникают не только от ветра и от птиц, но и от людей, которые проходят и проезжают, топают ногами, шумят и разговаривают, и смеются, и поют, и часто совсем недалеко от нее, за каменной оградой, стучат автомобильными дверцами, курят, плюются, ругаются и, снова стукнув дверцами, удаляются в свои коммунальные квартиры, в свои коллективные сады, к своим кофейным чашкам и к своим телевизорам. И пусть удаляются, пусть дымятся, пусть пылятся – как однодневные мотыльки, как кофейный пар, как сигаретный дым. И пусть будет благословенен желанный-желанный, далекий-далекий город моей бабушки Ливерпуль.
Экран
И я смотрю на него и вспоминаю то, что хотел бы забыть.
Тот экран не белый. Белеет он тогда, когда начинают падать крупные хлопья снега, стараясь спрятать от меня деревья, сани с укутавшимися крестьянами и саму дорогу, наконец, и окно хаты, ибо может от этого снега, а может от вечера начинает темнеть и белизна превращается в легкую, приятную серость, не мешающую в ней представить, что хочешь.
Когда за окном такая серость, на печке хорошо, на старой шубе можешь согреть спину, если хочешь больше согреть ноги, можешь их засунуть под эту шубу, и пальцами начнешь чувствовать зерна, ибо там сушится солод. И больше никого нет, все ушли кормить скот, я один в этом сером, темном, уютном мире, я буду в нем все время, со мной будут и мама, и папа, и бабушка, бабушка, правда говорит, что она скоро умрет, то же самое грозится сделать и мама, если я не буду ее слушаться, а какую-то книгу о смерти читает и папа. Если умрет бабушка, будет очень жаль, но у меня еще останутся мама и папа, если еще умрет и мама, мы будем с папой. А если умрет и папа? Тогда я останусь совсем один, по вечерам придут Рупленас и Грубинскас, зажгут лампу и будут пить пиво, и курить, а мне закурить не дадут, так как у них табак не детский, если я хочу, чтоб у меня был свой, детский, летом должен нарвать листьев вербы и высушить, но когда придет лето, мне будет не до табака, и в следующую зиму я снова буду грустно смотреть, как Рупленас с Грубинскасом курят одни и усмехаются надо мной.
Стоп, стоп! А если умрут и Рупленас с Грубинскасом? То кто тогда ко мне придет?
Тогда я останусь совсем один.
И от этой мысли мне становится страшно. Я не плачу, нет, просто эта мысль для меня такая новая и неожиданная, и я хочу все выяснить. Я уже знаю, что все люди живут и через некоторое время умирают, значит, все, которые к нам приходят, умрут, а мне, наверно, придется жить с другими, незнакомыми, и я не буду знать, о чем с ними говорить.
Мысль, что близких мне людей не будет, начинает ко мне приходить каждый день под вечер, когда мама, папа и бабушка еще возятся со скотом, когда в комнате еще не горит лампа, а на печке уже темно. Она такая длинная, эта мысль, продолжается много вечеров, и, наконец, подсовывает мне другую мысль, что и я ведь все время не буду жить, что и мне, как и всем, придется умереть.
О том мне еще никто не сказал, все говорили лишь о своей смерти или о смерти какого-нибудь знакомого, и мне казалось, что эти разговоры меня не касаются. И вот теперь внезапно мне стукнула в голову эта жестокая ясность, долго не дававшая с ней свыкнуться, эта первая из жестоких вещей, к которым привыкнуть трудно, но необходимо, ибо другого выхода нет. И, наверно, потому, что на теплой печке в деревенской хате, в уютных сумерках снежного вечера, я впервые задумался о своем бытие и своей похожести на других, что, наверно, значило начало созревания, – может быть потому эта вечерняя пора мне стала экраном, на котором проекцируются все более важные события моей жизни.
Тот экран не белый. Иногда даже не серый, а совсем черный, и поэтому в нем хорошо видны вспышки света. Но так бывает, когда я уже не на печке, а в подпечке, когда слышно, как в бревна стены вонзаются пули, а издалека, приглушенные стеной и кирпичами печки, отзываются звуки выстрелов, автоматы тарахтят часто и звонко, пулеметы стучат более глухо, оба сливаются в одну мелодию, как трели соловья весной, довольно красивые и привлекательные звуки, и хочется вылезть посмотреть, как стреляют, только папа с мамой не пускают, еще велят и бабушке прятать меня в самый угол, ибо через окно могут бросить гранату, а граната уже не шутка, разбирая ее, подорвался Юргис, лежал весь в крови у сарая, а потом в хате, такой спокойный и одетый во все новое, и было совсем непривычно, что он, всегда озорной и склонный меня побить, теперь совсем не шевелится, и его руки совсем другие, не в грязи и не в чернилах, как-то странно сложены одна на другую.
Позже так сложенные руки меня уже не удивляли, так их сложили и Стасису с Альфредасом, несколько дней после того, как они не пришли к мосту, как мы договаривались, ловить рыбу, ибо ночью какие-то пришедшие из леса их расстреляли в хлеву, и вообще кругом было много похорон, они стали такими же частыми, как толоки уборки картофеля или молотьбы, на них люди точно также ели и пили, только вместо веселых песен пели длинные и скучные религиозные, и все казались грустными, только тем, которые лежали со сложенными руками, было очень хорошо, ибо их где-то высоко, над потолком, над крышей и даже над облаками, ждал Бог, а там у него очень тепло и красиво, можно яблок есть сколько хочешь и учиться читать необязательно, там и окуни, наверно, хорошо клюют, Юргис, наверно, их ловит каждый день, только неизвестно, куда их девает, сам то он их не жарит и коту не отдает, ибо его кот остался здесь – на земле. И меня охватывает зависть, и хочется скорее попасть туда, где Юргис и Стасис с Альфредасом, хочется и полежать так, как они лежали, все вокруг собрались бы и смотрели только на меня, пришла бы и Миля, только за уши дергать меня не смела бы, не пугал бы и Владас, что застрелит меня своей деревянной винтовкой, если эту коробочку ему не отдам, я бы себе лежал и всех видел и слышал, а потом с песней несли бы меня в телегу, и моя душа поднималась бы вверх, в небо, и я бы чувствовал, как меня опускают в яму и засыпают землей.
Но внезапно мои мысли переносятся туда, в землю, где меня закапывают, и я представляю, как мне там темно и холодно, как все, проводив меня, расходятся, и я остаюсь один, и тогда все мысли вдруг прекращаются и на их месте возникает ужас. Нет, нет! Не хочу больше к Юргису! Оставьте меня здесь, где мама, папа и бабушка, где Рупленас с Грубинскасом, и не полезу я из под печки смотреть, как стреляют, и вообще больше не хочу, чтоб стреляли, и Владас пусть приходит без своей деревянной винтовки, лучше я ему отдам эту коробочку и оба будем гонять деревянную шайбу.
Тот экран не белый. Днем он голубой, а вечером, в той стороне, где садится солнце, иногда сначала бывает красным, потом белеет и темнеет, и на нем появляются звезды. А там далеко и высоко, за тем солнцем, за тем закатом и за теми звездами, живет Тот, у которого теперь Юргис, Стасис, Альфредас и много других соседей постарше, я его вспоминаю только тогда, когда кого-нибудь хоронят и иногда по воскресеньям, когда бабушка читает книгу, в которой написано, что без Него и волос не упадет, а волосы у меня падают тоже только по воскресеньям, когда папа гонит их всех машинкой и клочьями бросает на траву, я сижу во дворе на табуретке прикрыв глаза и не шевелясь, ибо знаю, что с неба меня видят как нагого и могут наказать за то, что я, наловив с Повиласом вьюнов, при разделе добычи тех, которые побольше, хотел забрать себе, мы подрались, но он ничего не добился, так как я был постарше и посильнее, но действительно поступил некрасиво, в другой раз я ему отдам самого большого вьюна, только пусть Тот, который видит все мои падающие волосы, меня не наказывает и не посылает к Юргису, ибо я еще хочу, хочу, хочу ловить рыбу с Повиласом и нырять в речке, хочу грызть только-что завязавшиеся яблочки, когда мама не видит, знаю, что это тоже нехорошо, и яблокам не даю вырасти, и понос может схватить, но больно уж вкусно. Да эту вкусность, конечно, понимает и Тот, который живет там, за облаками и за солнцем, у Него самого есть сад, правда, Он когда-то разозлился на мужчину и женщину, что они из этого сада сорвали яблоко, но это было давно, когда Его сад был, наверно, еще очень молодой и яблок было мало, теперь он наверняка уже вырос и большой-большой, может даже больше, чем у Мацияускаса, и Ему этих яблок совсем не жаль, а тех, которые растут здесь, на земле, тем более. Поэтому завтра как только покушаю, а мама уйдет на огород, я нарву их полные карманы, залезу на иву за гумном и съем.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: