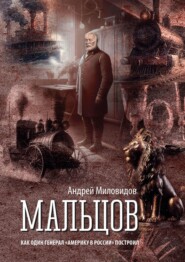скачать книгу бесплатно
И таких случаев было немало. Со всем этим кавалергарды могли составить достойную конкуренцию гусарам, чья бесшабашность вошла в анекдоты. Таким был полк, где предстояло служить Мальцову!
Но для начала нужно было предварительно пройти курс военной подготовки в Школе гвардейских подпрапорщиков и юнкеров (Николаевском кавалерийском училище) или просто, как её называли, – Школе.
Это учебное заведение открылось в 1823 году по инициативе всё того же Николая Павловича. На тот момент он ещё не был императором, но уже видел, что русским офицерам не хватает дисциплины, крепкой выучки и теоретической подготовки.
Школа должна была отчасти восполнить эти пробелы. При поступлении дворянские недоросли сдавали экзамены: русский язык, иностранный язык (по выбору), арифметика, алгебра, геометрия и тригонометрия, история, география.
Двухлетний (впоследствии четырёхлетний) курс предусматривал изучение таких дисциплин, как тактика, артиллерия, фортификация, рисование ситуации и глазомерная съёмка, военно-административное дело, военное и гражданское законодательство, военная география и военная история.
Школа была известна тем, что из неё вышло немало блестящих военных, которые впоследствии не раз отличились на поле боя – в русско-турецкой войне, Первой мировой, гражданской… Были выпускники, больше прославившиеся на другом поприще – в их числе поэт Михаил Лермонтов, композитор Модест Мусоргский, педагог и музыкант Александр Слепушкин.
Как и в любом другом элитном заведении, здесь имелись свои традиции. Помимо официальных установлений, существовал негласный устав. Юнкера-первогодки обязаны были беспрекословно подчиняться своим старшим товарищам – так, старший мог задать младшему любой вопрос в любое время суток, например: «Молодой, пулей назовите имя моей любимой женщины». И тот должен был безошибочно ответить. Представляете, сколько всего (помимо учебной программы) нужно было знать начинающим кавалергардам?
Также обычным делом для учеников Школы были приседания и повороты при любом удобном случае – так они развивали гибкость как необходимое качество для будущих кавалергардов. Дошли сведения и о других множественных ритуалах, которые, при их внешней нелепости, были частью особой атмосферы Николаевской Школы.
Как же здесь учился Сергей Мальцов? Весьма неплохо – окончил курс первым, показав настолько выдающиеся результаты по итогам экзаменов, что его имя выбили на мраморной доске на стене Школы.
Интересен и другой факт, о котором вспоминает один из мальцовских однокашников Е. П. Самсонов. Ещё во время учёбы Мальцова, как одного из самых благонадёжных юнкеров, определили в товарищи к цесаревичу Александру Николаевичу (будущему императору Александру II).
А в архивах, относящихся к Кавалергардскому полку, сохранилась запись, что «За время службы въ полку, въ 1831 г., съ 29 Іюня по 14 Ноября, Мальцовъ находился въ командировка для покупки ремонтныхъ лошадей для 2-го дивизiона, что и исполнилъ съ отличнымъ усердiемъ».
Как видно, Сергей Иванович уже с самого начала службы следовал правилу «Береги платье снову, а честь смолоду». При том, что у него вокруг было много соблазнов, Мальцов им не поддавался, помня о главном. А главное было, прежде всего, – дело.
Начальство всё это видело и не могло не оценить. Карьера молодого дворянина шла ввысь.
1 июля 1830 года его произвели в корнеты Кавалергардского полка.
10 апреля 1832 года – в поручики.
В 1833 году С. И. Мальцов уволился со службы «по состоянию здоровья». Что именно с ним тогда случилось, точно неизвестно. Но это, в общем-то, и неважно. Болезнь, какой бы она ни была, не помешала новоиспечённому поручику отправиться в путешествие по Европе.
Там он, верный себе, не просто гулял, любуясь красотами Лондона или Берлина, а изучал, как поставлено заводское дело, что нового придумали иностранные промышленники, какие технологии входят в обиход. Всё это он «брал на карандаш», не без оснований полагая, что эти знания ему пригодятся в скором будущем. Также он продолжил там своё образование в области химии и механики.
15 июня 1834 года С. И. Мальцов восстановился на службе. Одновременно с этим его назначили адъютантом принца Петра Ольденбургского – человека неординарного и замечательного, о чём мы скажем далее.
Адъютант
Принц Пётр Георгиевич Ольденбургский родился 14 августа 1812 года, чуть меньше, чем за две недели до Бородинского сражения. Так, с самого начала своей жизни он оказался сопричастен к величайшим событиям российской истории.
И это притом, что по своему происхождению он был русским почти что номинально. Его родителями были великая княжна Екатерина Павловна, дочь императора Павла I, и принц Пётр Фридрих Георг (в русском варианте – Георгий Петрович) Ольденбургский, который при Павле состоял генерал-губернатором ряда областей Российской империи и главным министром путей сообщения.
Вы можете заметить, что здесь слишком много иностранных имён. Не стоит этому сильно удивляться. Вспомним, что значительную часть правящей династии Романовых составляли этнические немцы. Взять хотя бы Екатерину Великую, которая при рождении звалась Софией Августой Фредерикой Ангальт-Цербстской… А жена Николая I Фридерика Луиза Шарлотта Вильгельмина Прусская, известная нам больше как православная императрица Александра Фёдоровна?
Но ладно, не будем здесь погружаться в генеалогические и династические тонкости – не это цель нашей книги. Вернёмся к принцу Петру Ольденбургскому.
Лишившись в детстве отца, а затем и матери, осиротевший принц какое-то время жил в семье своего деда, герцога Петра-Фридриха-Людвига в нижнесаксонском Ольденбурге. Изучал древние и новые языки, геометрию, географию, русский язык. Особенно усердно занимался юридическими науками и логикой.
В 1830 году, когда принцу исполнилось 18 лет, он получил приглашение от Николая I (своего дяди) вернуться из Германии в Россию и поступить здесь на службу.
1 декабря того же года Ольденбургского ждал очень тёплый приём в Петербурге. Император зачислил племянника на действительную службу в лейб-гвардии Преображенский полк и подарил ему имение в Петергофе. Как показало время, эти монаршие милости не были просто какой-то родственной прихотью или «блатом».
Принц сначала командовал батальоном, затем полком, и 6 августа 1832 года получил повышение до генерал-майора. По его же инициативе в Преображенском полку была организована школа, где будущих гвардейцев не только учили грамоте, но и воспитывали в них людей нравственных и набожных.
Но, несмотря на все высокие звания, военная служба принца тяготила. Ему чужда была муштра и жестокость, которую порой проявляли солдаты. В 1834 году произошёл случай, о котором впоследствии рассказывал сам Пётр Георгиевич. Однажды, по служебной обязанности, ему довелось присутствовать в Преображенском полку при экзекуции. Гвардейцы за что-то наказывали женщину – палками били по её обнажённым плечам. В тот же день принц, возмущённый до глубины души, поехал к министру внутренних дел Блудову и попросил доложить императору, что он хочет подать в отставку, ибо не желает в дальнейшем принимать участия в чём-то подобном.
Прошение удовлетворили. Ольденбургский вышел в отставку и тут же был назначен сенатором. Это произошло 23 апреля 1834 года. А парой месяцев позже, 15 июня, как мы сказали выше, судьба свела вместе Петра Георгиевича и Сергея Ивановича Мальцова.
Их объединяло не только то, что они были практически ровесниками с разницей в два года, людьми, которые уже имели опыт военной службы и занимали при этом высокое положение в обществе. У них во многом были общие взгляды на государственное устройство. И, в первую очередь, убеждение, что империи нужно дать образованных людей.
Так, будучи на службе в России, принц очень быстро убедился, что здесь на всех уровнях власти не хватает грамотных чиновников, которые бы решали насущные вопросы в соответствии с законами империи. Тогда у Петра Георгиевича родилась идея открыть Училище правоведения, где бы готовили будущих государевых людей. Как пишет С. А. Панчулидзев в своей «Истории кавалергардов», составить Устав этого будущего заведения Ольденбургский доверил своему адъютанту. Сергей Иванович с задачей справился, и более того – он детально продумал, какой должна быть программа и организация Училища.
Этот проект одобрили на высочайшем уровне, и после этого принц принялся хлопотать о дальнейшем устройстве Училища. На свои деньги он приобрёл и переоборудовал здание на углу Фонтанки и Сергиевской улицы (ныне ул. Чайковского). На это Пётр Георгиевич потратил более миллиона рублей – громадные средства! 5 декабря 1835 года Императорское Училище правоведения торжественно распахнуло свои двери в присутствии Николая I и множества высоких гостей. Ольденбургского назначили его попечителем.
А для С. И. Мальцова, кстати, история с Училищем на этом не закончилась. В 1849—50 гг. он некоторое время исполнял обязанности директора этого учреждения после князя Н. С. Голицына и до назначения на этот пост генерал-майора А. П. Языкова.
Девизом училища было латинское изречение: Respice finem («Предусматривай цель»). Это было одинаково близко как П. Г. Ольденбургскому, так и С. И. Мальцову, который всю свою жизнь работал на результат.
Что же ещё общего было у этих двоих людей? Без сомнения, то, что оба они мыслили в государственных масштабах, не ограничиваясь пределами села, города или губернии, но имея в виду целую империю, причём в перспективе многих десятилетий.
Это важное обстоятельство, о котором стоит помнить, если мы хотим понимать мотивы действий Сергея Ивановича Мальцова в будущем.
От Манчестера до Павловска
Служба у принца была для Сергея Ивановича не особенно обременительной; она давала возможность периодически выезжать за границу, где молодой адъютант знакомился с техническими новшествами. В 1835 году, как сам Мальцов полвека спустя вспоминал в письме к инженеру путей сообщения П. Е. Гронскому, он отправился в Англию, где проехал по железной дороге от Манчестера до Ливерпуля. Эта первая в мире ж/д линия регулярного сообщения была открыта всего за пять лет до этого, и воспринималась простыми европейцами как нечто небывалое. Но Мальцов сразу понял, что это не просто диковинный аттракцион – он верно решил, что железная дорога может стать величайшим благом для России с её бескрайними пространствами.
Домой он возвращался через Германию, где, воодушевлённый новой идеей, специально заехал посмотреть на конно-железную дорогу, соединявшую чешский Будеёвице и австрийский Линц. Строителем её был чех-инженер Франц Герстнер, с которым Мальцов встретился в Австрии.
Из письма П. Е. Гронскому: «…оказалось, что он знал моё имя, потому что я был единственным из России подписчиком на издание отцом Герстнера замечательного изложения механики. Благодаря этому обстоятельству я встретил в семействе Герстнеров весьма дружеский приём…»
Отца и сына Герстнеров можно по праву считать одними из первопроходцев-железнодорожностроителей в Европе. Они вкладывались в строительство ж/д линий и уже успели зарекомендовать себя как крупные специалисты в этом деле. Неудивительно, что эта встреча Мальцова, человека с острым чутьём на всё новое, весьма вдохновила. Он заручился согласием Франца Герстнера, что тот непременно приедет в Россию.
Вернувшись ко двору, адъютант Ольденбургского встретился с императором и начал его убеждать в пользе железных дорог для нашей страны. Что же на это отвечал Николай Павлович? О его реакции мы узнаём из того же мальцовского письма:
«Государь упомянул об опасности железных дорог, указав, что в Англии при открытии какой-то дороги задавили лорда. Против этого я старался выставить, какими опасностям подвергаются у нас при езде на лошадях. Тогда государь сказал: „А снега? Ты забыл, что у нас шесть месяцев нельзя ездить будет“. На этот вопрос я доложил, что можно будет расчищать. Государь ещё что-то пошутил, но мой рассказ произвёл на него впечатление…»
В другой раз при встрече «государь спросил меня, куда бы я повёл дорогу. Я отвечал: „Из Москвы одну в Китай, другую в Индию“. Государь, обратясь к Канкрину (министр финансов – прим. авт.): „Отправь его в сумасшедший дом!“ Засмеялся и пошёл».
Чем же руководствовался Сергей Иванович, представляя столь масштабный проект? В его идее было гораздо более здравого, чем показалось императору и министрам. На строительстве протяжённых веток длиной в несколько тысяч вёрст можно было бы занять заключённых из острогов, а также крепостных, которые бы получили работу как минимум на 2—3 года вперёд. Вместе с тем, по мере того, как росла бы железная дорога, вдоль неё обязательно начали бы появляться рабочие посёлки – вот вам и освоение новых территорий от центральной России до азиатской границы…
Интересно, что шестьдесят лет спустя, при последних русских императорах Александре III и Николае II, этот проект отчасти был реализован в виде Транссибирской магистрали.
Но до этого, видимо, нужно было ещё дозреть. Высшая знать 30-х годов была крайне далека от идеи железных дорог – министры и управляющие, окружавшие царя, откровенно насмехались над Мальцовым. Глядя из сегодняшнего дня, невольно думаешь – а не был ли это с их стороны сознательный саботаж в пользу той же Англии или Германии, например? Или просто всё дело в излишней консервативности, которая не позволяла взглянуть на дело чуть шире?..
Так или иначе, но Сергей Иванович от своего не отступал. Раз за разом, при любом удобном случае, он заговаривал с императором, министрами и высшими сановниками о железной дороге.
Что было дальше? Пожалуйста:
«Когда приехал Герстнер, я уже потерял ту веру, которую прежде имел, что нам не откажут начать дело первой важности. Всё-таки, несмотря на то, что граф Канкрин сердился на меня, я не отставал от него и представил Герстнера, который легче мирился с положением, соглашаясь выстроить маленькую Царскосельскую дорогу. Дабы на ней могли убедиться в возможности существования железных дорог в России. Это положение понравилось графу Канкрину, объявившему: «Ну что ж, можно. Вот в Павловске кабак (!!!), к нему и дорога. Это полезно».
Так, убедив, в конце концов, непреклонного министра финансов, Герстнер получил разрешение на строительство первой в России железной дороги от Санкт-Петербурга до Царского села общей протяженностью в 23 километра. Для финансирования этого проекта было специально создано акционерное общество. Интересно, что Герстнер просил Мальцова уговорить на должность председателя общества принца Ольденбургского, но Сергей Иванович счёл, что с этим лучше справится граф А. А. Бобринский, которого он знал ещё по «сахарным» делам своего отца.
Работы на дороге начались 1 мая 1836 года и продолжались до 30 октября следующего года, когда по Царскосельской запустили движение. Это стало событием государственной важности.
Тут люди, более-менее знакомые с отечественной историей, могут заметить: а как же железная дорога с первым русским паровозом, которые появились на нижнетагильском заводе Демидовых благодаря отцу и сыну Черепановым в 1834 году? Да, это факт известный, равно как и то, что посмотреть на эту линию приезжал лично великий князь Александр Николаевич. Однако эта история хоть и сыграла определённую роль в усовершенствовании демидовского заводского хозяйства, в масштабах страны никакого продолжения (увы!) не получила. Совсем другое дело – Царскосельская ветка.
Вскоре после её запуска все, включая императора и министров, убедились, что железная дорога – это, в самом деле, быстро, удобно и безопасно. Аппетит приходит во время еды, и вот уже Николай I вполне закономерно задумался о том, чтобы соединить железнодорожным сообщением Москву и Петербург. И здесь он снова вспомнил о Мальцове… Но прежде чем перейти к этой главе нашей истории, отвлечёмся немного на дела сердечные. Как раз в это время в жизни Сергея Ивановича произошла большая перемена.
Княжна-чаровница
Зимой 1836 года 26-летний Сергей Мальцов обвенчался с восемнадцатилетней княжной Анастасией Николаевной Урусовой, дочерью покойного князя Н. Ю. Урусова. Выросшая в знатной семье, княжна с раннего детства усвоила великосветские манеры. Как вспоминали современники, она хорошо умела поддержать разговор, буквально очаровывала собеседников. Её даже сравнивали с Натальей Пушкиной-Гончаровой, причём не всегда в пользу последней. Можно сказать, как и его отец когда-то, Сергей Иванович пленил первую красавицу в свете…
И сначала казалось, что всё идёт лучше некуда. У четы один за другим рождались дети: Капитолина (1839), Иван (1840, умер в младенчестве), Мария (1843), Сергей (1845), Иван (1847), Николай (1849), Анастасия (1850), Ирина (1852).
Придворный художник В. И. Гау, создавший целую галерею портретов высшей знати, в начале 50-х годов XIX века запечатлел в акварели и Анастасию Николаевну Мальцову с детьми Капитолиной, Марией, Сергеем, Николаем и Иваном. Получилась настоящая семейная идиллия – красавица-мать, дети-ангелочки, и всё это на фоне условного деревенского пейзажа. Но, что характерно, главе семьи места на полотне не нашлось…