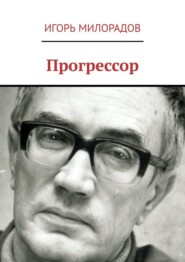скачать книгу бесплатно
Прогрессор
Игорь Милорадов
Прогрессоры в научно-фантастической литературе – представители высокоразвитых разумных рас, в чьи обязанности входит содействие историческому прогрессу цивилизаций, находящихся на более низком уровне общественного развития. Термин «прогрессор» был изобретен братьями Стругацкими и первоначально использовался лишь применительно к миру Полудня.
Прогрессор
Игорь Милорадов
Редактор Вячеслав Смирнов
© Игорь Милорадов, 2021
ISBN 978-5-0055-3134-6
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Теория поколений
Теория поколений
Теория поколений создана в 1991 году американскими учеными Нейлом Хоувом и Вильямом Штраусом. Они одновременно и независимо друг от друга решили подробно изучить такое понятие, как «поколение».
Их внимание привлек известный «конфликт поколений», который не связан с возрастными противоречиями. В основу данной теории лег тот факт, что системы ценностей у людей, выросших в разные исторические периоды, различаются. Это связано с тем, что ценности человека формируются не только в результате семейного воспитания, но и под влиянием общественных событий, всего контекста, в котором он находится в период взросления. Значение имеет все: экономические, социальные, технологические, политические факторы. Формирование ценностей происходит согласно данной теории примерно до 12—14 лет.
Сейчас в России живут представители следующих поколений (в скобках указаны годы рождений).
Величайшее поколение (1900—1923).
Молчаливое поколение (1923—1943).
Поколение беби-бумеров (1943—1963).
Поколение Х («Икс») (1963—1984).
Поколение Y («Игрек») (1984—2000).
Поколение Z «Зэд» (c 2000).
Молчаливое поколение (1923—1943)
Ценности этих людей формировались до середины 50-х годов. В этот интервал времени входят: Великая Отечественная война, сталинские репрессии, сначала разрушение страны, потом восстановление, открытие антибиотиков.
Понятие «семья» для них – святое понятие. Только в семье он может говорить на любые темы, обсуждать проблемы, потому что родные точно не предадут и не подведут. В остальных же местах они будут контролировать себя. Отсюда и название поколения – молчаливое. То, что в это время были открыты антибиотики, которые перевернули всю мировую медицину, внушило им безоговорочное уважение к врачам. Слова докторов – это закон, который не поддается обсуждению. Люди, принадлежащие к данному поколению, уважают законы, должности и статусы других людей, они очень законопослушны. Отдых у них часто связан с пополнением запасов, в шкафах соленья, варенья и консервы.
Это военное и послевоенное поколение, им сейчас восемьдесят. Возможно, единственное поколение, прожившее без войны или пережившее ее в младенческом возрасте.
Поколение, не знавшее тоталитаризма, заставшее в ранней юности оттепель при оттянутом за кулисы железном занавесе.
Поколение, родившееся в коммуналках, многие с печками в своих домах, с замерзающими газом и водопроводом, если они были, помнящее керосинки и керогазы, общие бани раз в неделю и тазики в комнате.
Поколение, росшее без мультиков и с диафильмами, двумя каналами черно-белого телевизора с крохотным экраном, опять же, если был телевизор.
Поколение, росшее под пионерские горны и рассказы о героизме.
Поколение, читавшее всегда, всюду и все подряд – в своих домах, в домах друзей и в районных библиотеках.
Поколение, писавшее переписанные от руки в читальных залах библиотек стихи поэтов серебряного века, песни Кукина, Визбора, Окуджавы.
Поколение, заполнявшее залы и стадионы, чтобы услышать и увидеть своих кумиров.
Поколение, стоявшее в очередях за всем: за творогом и маслом, за билетами на премьеры и за книгами, конечно, за книгами, в т.ч. стоявшее в очередях, чтобы сдать макулатуру в обмен на заветные талоны.
Поколение, не чуравшееся физической грязной работы, – колхозы, овощные базы, субботники и воскресники, я уж не говорю о коммунальных уборках.
Поколение, в молодости не знавшее стиральных машин, резиновых перчаток для домашней работы, памперсов для своих детей.
Поколение, пережившее социализм и с большими потерями вошедшее в рыночную экономику.
Поколение, сумевшее адаптироваться в новых реалиях.
Первое за почти сто лет поколение, позволяющее себе, особенно работающие пенсионеры, всяческие радости жизни вроде платного спорта, нормального автомобиля, в той или иной степени обустроенной дачи, разной электроники, разнообразной пищи с дотоле неизвестными названиями, удобной, складно сидящей на них одежде, и все это без очередей.
Поколение, впервые почти за сто лет повидавшее мир.
Уходящее поколение.
Поколение, смываемое пандемией.
И все же счастливое поколение со счастливой судьбой.
Этапы жизни
Игорь Александрович Милорадов родился 23 октября 1938 года в подмосковном городе Ступино, расположенном в 90 км от Москвы по Домодедовской линии на реке Оке. Среднюю школу он окончил в дальневосточном городе Комсомольске-на-Амуре, а высшее образование получил в городе Томске – сибирской кузнице кадров. С Томском – все понятно, здесь получали образование молодые люди со всех уголков Советского Союза. Томский университет и Политехнический институт заканчивали многие известные люди нашей страны. А вот о том, каким образом Игорь Милорадов попал в нанайский поселок Дземги, об этом несколько подробнее.
С 1934 года по 1938 год на месте города Ступино был рабочий поселок «Электровоз», в рамках которого предполагалась реконструкция железнодорожного транспорта в стране, для чего здесь был запланирован электровозостроительный завод мощностью в 1400 электровозов в год. К концу 1935 года «Электровозстрой» и другие подобные стройки были свернуты.
Чтобы сохранить предприятие, в начале 1936 года группа из 10 инженеров завода составила протест на имя Сталина, в котором они описали необходимость вторичного использования строительной площадки, отмечая, что консервирование строительства привело бы к омертвлению вложенных народных средств (речь шла о сотне миллионов рублей). Через 2—3 дня всех десятерых вызвал к себе Серго Орджоникидзе, их письмо с резолюцией Сталина «т. Серго – как быть?» лежало у него на столе. Во время разговора Орджоникидзе согласился с доводами инженеров по поводу омертвления народных средств, а через некоторое время инженеров вызвали в наркомат и предложили выбрать объекты, которые бы, по их мнению, наиболее подходили для нового строительства. Выбор пал на заводы по выпуску винтов изменяемого шага, авиационных турбокомпрессоров и учебно-тренировочных самолетов конструкции Яковлева.
Вот таким образом началось развитие авиационной промышленности. И семья молодых инженеров Милорадовых Александра Алексеевича и Любовь Ивановны оказалась успешно связана с главными задачами страны в предвоенные годы.
Далее о семейных перемещениях я узнала из специальных писем сестры Татьяны брату уже в наше время. Письма прислал мне ее сын Андрей из г. Севастополя, где она работала последнее время экскурсоводом и успела поинтересоваться историей семьи.
Во время войны семья, в которой уже двое детей – Татьяна и Игорь, была эвакуирована в город Омск. После возвращения Любовь Ивановна продолжала работу в плановом отделе завода. К сожалению, в семье произошел разлад и Александр Алексеевич после неудачной попытки устроиться на прежней работе в Москве с дочерью Татьяной из Москвы уехал в Ашхабад к своим родственникам, эвакуированным через Сталинград. Там он оставил дочь. В это время он имел некоторые неприятности с тогдашними законами и скрывал свои координаты. Но, сообщив жене, где он оставил дочь, раскрыл свою связь с семьей. По указанию первого отдела Любовь Ивановну перевели из заводского планового отдела в цех на менее оплачиваемую работу. Далее друг семьи, директор завода, в 1946 году предложил выход из положения переездом ее с сыном на новый завод в город Комсомольск-на-Амуре, где требовались специалисты. Тогда, после войны, инженеров было мало, даже начальник производства был со средним техническим образованием, и многие руководители были просто хорошими практиками.
Новый авиационный завод располагался в той части города Комсомольска, которая была на месте поселка Дземги. Само же слово «Дземги» – нанайского происхождения и переводится как «Березовая роща». До начала строительства города в 1932 году в этом районе находилось стойбище коренных жителей Приамурья – нанайцев.
Целью строительства нового дальневосточного города на берегу Амура было создание крупного оборонно-промышленного центра и освоение малозаселенных территорий. Еще на этапе проектирования в районе села Пермское, на месте которого стал строиться город, было предусмотрено возведение авиационного, судостроительного и металлургического заводов.
В феврале 1948 года Любовь Ивановна с Игорем поехали в Ашхабад за Татьяной. Часть пути они летели на заводском грузовом самолете, а остальную часть – поездом с пересадками в Новосибирске и Хабаровске.
Здесь на берегу реки Амур проходят школьные детские и юношеские годы Игоря Милорадова. Это – учеба в мужской, а затем с 9-го класса в смешанной школах. Это библиотека предприятия, где ему выдавали книги как постоянному читателю, это пионерская и комсомольские организации, где его обязательно куда-нибудь выбирали, это незабываемые походы на лодках по Амуру, это руководство аппаратурой в школьной радиорубке и т. д.
В 1956 году Игорь со школьным другом Геной Бурчаком закончили среднюю школу и приехали в г. Томск, чтобы поступать в Томский политехнический институт (ТПИ). В планах у Игоря был новый физико-технический факультет. Но на этот факультет его не взяли по зрению, которое уже тогда было минус 5,5 диоптрий. Врач сказал ему, что учеба в техническом Вузе грозит ему потерей зрения. В общем-то так и случилось.
Был другой факультет, не менее значимый в те времена – электромеханический факультет (ЭМФ). Это было время строительства гидроэлектростанций. Кроме того, все движущиеся объекты в любой среде выполнялись на базе электромеханических устройств, а проще – электрических машин и аппаратов. На эту специальность тоже был большой конкурс – 9 человек на место. Сдавали пять экзаменов, а вот с шестым повезло – экзамен по истории был исключен по известным причинам.
Первый сбор двух групп первого курса 736—1 и 736—2 у учебного корпуса, где размещается наша профильная кафедра «Электрические машины и аппараты». Сбор назначен для знакомства и для поездки в колхоз на сельскохозяйственные работы.
Мы еще не знаем друг друга. Зачитали списки, построились и пошли по центральной улице через весь город на пристань. Там погрузились на пароходик и поплыли на р. Обь в с. Шегарка. Помню, на пароходике был живой мишка, небольшой, развлекал пассажиров.
В Шегарке нас погрузили на грузовые машины без сидений и увезли в с. Десятово. Привезли к деревянной церкви, где, очевидно, у них был в это время клуб. Здесь в зале были с двух сторон сооружены настилы с сеном, и между ними длинный стол и скамьи. С одной стороны настил для юношей, а с другой – для барышень.
Всего в двух группах было 50 человек, из них 40 – ребят. Конечно, им на своей половине было очень тесно. И, наверное, через день ребята попросились на нашу половину. Мы сдвинулись и освободили место. Так и разместились.
Конечно, никаких бытовых удобств… В этом зале была сцена, и вечерами мы на ней устраивали танцы под гитару, в другие дни вечерами у костра пели песни.
В один из вечеров наблюдали северное сияние – очень редкое явление в этих широтах. Так как мы были из самых разных мест СССР, то это явление – северное сияние, вызвало неописуемый восторг и восхищение.
Сразу по списку нас распределили на работы в ночную и дневную смены на сушилки, на веялки и прочие работы. Сгребали зерно, перекидывали с места на место.
В деревне была библиотека, по-моему, ее нашел Игорь. Брали книги, читали. Приезжала к нам студенческая бригада с концертом.
Правление колхоза обеспечивало нас продуктами, в том числе даже медом. Главным поваром была Болотова Лида из группы 736—1. Ей в помощь по очереди назначался дневальный. Приготовить еду на 50 человек на костре было нелегкой задачей. Приходилось повару и дневальному вставать в 5 часов утра, разжигать костер на ветру (клуб располагался на возвышенном месте) с большим казаном литров 20 и готовить на завтрак манную кашу с маслом. Дневальным никто не хотел быть – вставать рано. Приходилось долго щекотать за пятки, чтобы он проснулся, особенно тяжко брыкался Валера Мангилев, но зато наградой было – облизать ложку с медом. Обедали за этим же длинным столом и голодным никто не оставался. По остальным проблемам использовали спуск и обрыв с пригорка.
В деревне была и баня «по-черному», залезали туда через небольшую дверь и вылезали чистенькими… Погода в тот 1956 год в сентябре удалась теплой, дождей не было.
Обратная дорога была снова на пароходе в конце сентября. В этот раз погрузили нас в трюм, помнится, ночью. Уставшие, мы старались заснуть на железной обшивке трюма, за которой хлюпала вода.
По приезде в Томск сразу в баню на санобработку. Никто не роптал – так было положено.
А вот как первое занятие было в аудитории 60 главного корпуса – лекция по истории КПСС…
После первого курса летом у нас была поездка и работы на алтайской целине в районе села Поспелиха.
Жили в вагончиках на полевом стане. На работу нас возили на грузовой машине. Запомнилось, как мы работали на свекольном поле, пропалывали свеклу под лозунгом – догоним и перегоним Америку. За день пропололи поле, а нам не поверили, заставили на второй день повторить. Обидно было, но прошлись еще раз.
Дежурили на кухне по 10 дней. Кухня-столовая была оборудована печкой и казанами. Там же питались механизаторы. Их поварихи пробовали нашу еду и удивлялись, почему нам все «спасибо» говорят, а ими недовольны.
За молоком с большим бидоном на лошади ездили в деревню. Однажды мы поехали с Анжелой. А лошадь нам запряг Валера Мальгин. И при подъезде к магазину уже в деревне наша лошадь вышла из упряжки. Помогли местные жители. Молоко мы привезли.
После второго курса были на казахстанской целине в районе Кустаная.
А вот после третьего курса началась производственная практика. Первая практика – г. Кемерово, завод Кузбассэлектромотор, 1958 год. Мы опять же две группы приехали на железнодорожный вокзал, и нас никто не встречает. Сидим на лавочках, и тут к нам подруливает поговорить один мужчина средних лет. Намекнул, что он из освобожденных политических заключенных и хочет узнать у нас, что такое – коммунизм. Одна барышня из нас отвечает, что это – всем по потребностям… Говорит сердито – будешь иметь лишнюю юбку при коммунизме. Задавал вопросы и по физическим законам…
И тут пришли ребята с известием, что нам выделили помещение для жизни. Это оказалось помещение детского сада, который выехал на дачу.
В большом зале ребята соорудили перегородку из детских шкафчиков для девушек. Так и жили. Лето было теплым, территория зеленая с настольным теннисом под навесом. На детских столиках писали отчеты по практике, в выходные ходили на Томь купаться. Кроме того, в детском саду остались пара коробок с сухарями, и они были очень кстати.
А в сборочном цехе устанавливали подшипники на двигатели 3-го габарита. Это большие двигатели. Иногда разворачивать двигатель помогали ребята.
Нас знакомили с технологией изготовления двигателей непосредственно в каждом цехе. Как-то заходим в литейный цех, где заливали алюминием короткозамкнутые ротора, а мы тут как тут, и все брызги горячего алюминия на юбке – как решето в дырках у Лиды Болотовой, вот ребята потом и заклеивали эти дырочки на основе яичного белка, тоже технология Валеры Мангилева. Другой-то юбки не было.
Что касаемо дипломного проекта И. Милорадова по ударному генератору «Модель генератора ударной мощности», то это была тема новая, расчетных методик не было, и многое приходилось додумывать студенту с его руководителем, но не всегда удачно. И вот с одним вопросом получился казус. Дипломная работа была уже готова и сшита. И в это время Игорь решил, что один раздел рассчитан неверно. Пересчитал по новым формулам, переписал страницы, вырезал из работы неверные, по его мнению, листы и подклеил новые. Про защиту, замечания рецензента и реакции комиссии ГЭК написано в статье…
Малогабаритный вентилятор для обдува аппаратуры в системе «метеор»
История с преддипломной практикой и проектированием рассказана Игорем Александровичем в статье «Из института меня выгоняли два раза». В целом институт мы закончили в 1961 году успешно и начали трудовую деятельность в научно-исследовательском институте в г. Томске (НИИЭМ). Институт был новым, специалисты в основном молодые комсомольского возраста. Сразу получили серьезные разработки – проектирование новых электромеханических устройств специального назначения. Полная разработка касалась пакета технической и конструкторской документации, испытания стендовые и в реальных условиях. Первая разработка Игоря Александровтча – малогабаритный вентилятор для обдува аппаратуры в системе «метеор».
В 1963 Игорь Александрович поступает в аспирантуру в НИИ ядерной физики при Томском политехническом институте к молодому тогда еще кандидату технических наук Ивашину Виктору Васильевичу. Здесь он работал над темой «Вентильно-механическая коммутация машин постоянного тока».
Макет ускорителя "Сириус" в музее ТПУ, 2011 год
Защита кандидатской диссертации состоялась через два года успешно, и Игорь Александрович остался работать в НИИЯФ в секторе импульсных схем питания ускорителя «Сириус».
В 1973 году Игорь Александрович принял решение поддержать своего руководителя доктора технических наук профессора Ивашина В. В. о переезде вместе с его школой импульсной электромеханики в политехнический институт г. Тольятти. Приехали шесть человек и началось освоение педагогического мастерства, а также бурная научная работа.
Сначала он работает доцентом на кафедре, а затем заведующим кафедрой электрических машин. В 1987 г. защитил докторскую диссертацию «Импульсные и кодоимпульсные невзрывные источники сейсмических колебаний с индукционно-динамическим приводом для геологоразведочных работ».
И. А. Милорадов был соруководителем девяти аспирантов, защитивших кандидатские диссертации. Им опубликовано около двухсот научных и общественно-политических статей, 20 авторских свидетельств на изобретения.
Профессор Милорадов И. А. являлся одним из лучших лекторов электротехнического факультета, пользовался большим уважением за исключительную принципиальность и честность в деловых вопросах.
С 1990 г. активно занимался политикой, выступал с аналитическими статьями в местной печати. В 2002 г. И. А. Милорадов возглавил Проектно-аналитический центр университета, в основные задачи которого входила разработка стратегии развития образовательного процесса.
Что касается зрения – оно действительно стало никаким. Но современные технологии лечения глазных заболеваний позволили поддерживать минимально удовлетворительный уровень, а против сетчатки мы бессильны. Игорь Александрович освоил компьютерные программы типа «говорилка» и пользовался ими для чтения любых текстов, включая письма, статьи и книги.
Галина Милорадова
«Из политехнического меня исключали два раза…»
Воспоминания о студенческой жизни
Дорогой Геннадий Антонович!
По Вашей просьбе рассказываю несколько историй из моей студенческой жизни. Историй, которые сегодня выглядят забавно, но в свое время они такими вовсе не были. Почти у каждой из этих историй есть маленькая мораль, и я некоторые из них с удовольствием рассказываю своим нынешним студентам – в воспитательных целях. Чтобы они научились делать выводы из того, что с ними происходит. И не делали слишком поспешных и трагических выводов из происходящего, даже если вначале оно кажется им трагичным.
Александр Акимович Воробьев
Меня исключали из института несколько раз. Два раза – вполне серьезно. И оба раза судьба моя пересекалась с тогдашним ректором – знаменитым на весь Томск и Сибирь Воробьевым Александром Акимовичем. Первое мое несостоявшееся исключение случилось в 1956-м, когда я был всего лишь абитуриентом. Я благополучно сдал два из пяти положенных в ту пору вступительных экзаменов, когда на медкомиссии, которую я проходил параллельно с экзаменами, окулист заявил, что в техническом вузе мне учиться нельзя из-за плохого зрения, что я-де не выдержу работы с чертежами и скоро стану инвалидом по зрению. Иди, сказал он, в университет, там попроще будет. Наверное, он был в чем-то прав, да и медицинские нормы требовали от «технарей» хорошего зрения. А у меня было, как помнится, минус пять с половиной, наполовинку больше, чем допускалось. Я, конечно, сходил в университет, чтобы познакомиться. Не знаю, что бы со мной было сегодня, если бы я окончил университет, а не «политех», но случилось вот что: в главном корпусе университета тогда шел ремонт, и мне из-за этого пустяка университет абсолютно не понравился! Разве можно было сравнить шикарный главный корпус ТПИ с его мраморным входом и главный корпус университета с его линолеумом и строительными лесами!? Да никогда! И тогда я написал заявление на имя А. А. Воробьева, в котором, как мог, объяснил ситуацию. И через день получил совершенно царскую резолюцию: «Пусть учится», – написанную почти нечитабельным почерком ректора. Вот так и вышло, что я все-таки кончил политехнический, а не университет. Мораль этой истории проста, как валенок, но я ее запомнил на всю жизнь как руководство к действию: молодым людям всегда надо давать шанс проявить себя, даже если при этом нарушаются некие ведомственные инструкции. И я это делал всегда, когда сам стал начальником, от которого зависят судьбы молодых людей.
У этой истории было забавное продолжение. В 61-м, после окончания института, кафедра хотела оставить меня в институте, но не на самой кафедре, а в НИИ ядерной физики. И мне надо было для приема на работу снова пройти медкомиссию. Институтскую, которая одновременно проверяла и абитуриентов. И что вы думаете? Окулист, может быть, тот же самый, приняв меня за абитуриента, снова заявил, что учиться мне в техническом вузе нельзя, что я в нем потеряю зрения и стану инвалидом… В общем, история почти повторилась, но в виде фарса. Но, может быть, именно окулист «виноват» в том, что я не остался в НИИ, а пошел на работу в Томский филиал ВНИИЭМ. О чем нисколько не жалею, ибо опыт, приобретенный там, сыграл огромную роль в моей профессиональной жизни. Забавно и то, что через три года я таки оказался в НИИ ЯФ, но уже в его аспирантуре. Пути господни, понял я, действительно неисповедимы!
Второй раз меня исключали из института на пятом курсе, в пору дипломирования – редкий случай в вузовской практике. Причина была простой и вместе с тем сложной. Диплом я делал по ударному генератору, этой темой тогда «болела» вся кафедра и ее заведующий, Сипайлов Г. А. А практику должен был проходить на заводе «Сибэлектромотор» у Э. Гусельникова (впоследствии доктора наук и профессора). Естественно, на заводе никто и понятия не имел об ударных генераторах, и задача моя, как я ее понял, состояла в том, чтобы за время практики подготовить комплект чертежей на двигатель, в габариты которого предполагалось «вписать» впоследствии рассчитанный мною ударный генератор. У меня на это дело ушло недели две-три, а потом я перестал ходить на завод, полагая, что свою задачу выполнил. Не помню теперь, согласовывал ли я это дело со своим руководителем, а им был К. Хорьков, много позже ставший и доктором наук и профессором, кстати сказать, как раз по ударным генераторам. Скорее всего, я проявил полную и малополезную самодеятельность, которая закончилась тем, что деканат решил меня исключить – за нарушение графика учебного процесса и, как это принято, в назидание другим. По «наводке» того же Э. Гусельникова, который почему-то сильно обиделся за свой завод: какой-то студент заявляет, что на этом заводе, видите ли, ему нечего делать! Решающую роль, однако, как мне тогда казалось, сыграли мои неприязненные отношения с одним из заместителей декана, который задолго до того «точил на меня зуб». Так ли, нет, теперь уже не узнать, да это и не слишком важно. Важно другое: я снова оказался в приемной А. А. Воробьева. И попал к нему на прием. Он при мне позвонил Г. А. Сипайлову, о чем-то с ним поговорил, а потом, уставившись на меня, сказал: «Что-то, молодой человек, я не вижу, что вы так уж хотите учиться в институте…». На что я ему нагло так заявил: «Мне что, Александр Акимович, на колени перед вами пасть, чтобы доказать обратное?» Основания для такой наглости, как мне казалось тогда, у меня были – мы с лучшим моим в ту пору товарищем – Ю. Галишниковым (теперь доктором наук и профессором) – твердо решили бросить этот «проклятый» институт и податься на строительство Братской ГЭС, чтобы познакомиться с жизнью в гуще этой самой жизни. Ректор, похоже, несколько оторопел от такого нахальства, а по некоторому размышлению сказал: «Ну ладно, ступайте – учитесь». И я пошел. И закончил-таки институт. Мораль у этой истории тоже есть: у молодых наглость – иногда всего лишь следствие безысходности. И взрослый человек должен уметь это видеть и прощать. Этим простым правилом я потом пользовался всю жизнь, защищая студентов даже в тех случаях, когда они, по мнению многих и моему тоже, вели себя предельно нагло. И многим моим студентам это помогало выжить, вопреки обстоятельствам и собственному излишнему самомнению.
Было у этой истории и несколько любопытных следствий. Первое: на собрании в группе по случаю моего исключения мои товарищи яростно защищали меня, а в ответ деканат в качестве одного из аргументов использовал… мою школьную характеристику, в которой среди прочего говорилось, что я «по характеру – замкнут». Это – в ту пору – было истинной правдой, но правда и то, что я до сих пор не понимаю, какова связь между моей замкнутостью и «недостойным поведением на практике». Когда, много позже, я сам получил право подписывать характеристики на других людей, студентов в том числе, я принципиально не подписывал те из них, в которых отмечались «дурные» якобы стороны характера того или иного человека. Я-то знал, как можно использовать характеристику в качестве орудия давления на неугодного. Полезный опыт, не правда ли? Второе: мой диплом на рецензию попал к тому самому Э. Гусельникову с «Сибэлектромотора». Рецензия была написана на шести, если мне память не изменяет, страницах и содержала аж 28 существенных, по мнению рецензента, замечаний. Никогда в жизни после этого я не видел подобных рецензий, хотя и проработал в вузах почти сорок лет! Мне это нисколько не помещало защитить диплом на «отлично»: рецензент, вполне очевидно, перестарался – большое количество замечаний позволило мне на защите развернуться во всю свою тогдашнюю силу. Небольшую, но достаточную, чтобы председатель ГЭК (Нэллин В. И., мой первый директор, у которого я работал, а потом и замминистра электротехнической промышленности СССР, один из моих учителей «по жизни») отметил мою защиту в заключительном слове. Мораль проста: паши – и тебе многое простится. Даже твои «дурные» свойства характера. Третье: через много лет, уже после окончания аспирантуры и защиты кандидатской диссертации, в том же НИИ ЯФ у одного из аспирантов я обнаружил свой диплом в качестве некоего пособия. Переплет был давно порван, и диплом состоял из отдельных листков, которые я собрал и теперь храню дома. В память об институте и моем ректоре А. А. Воробьеве. Вот такие странные воспоминания и связанные с ними ассоциации возникают у меня, когда я слышу эту фамилию.
Геннадий Антонович Сипайлов
Геннадий Антонович был моим первым, после школы, настоящим учителем, чувство благодарности к которому во мне никогда не умирало. Меня до сих пор потрясают его способности отличать плохих людей от хороших, умных от не очень умных, перспективных от безнадежных. Если с годами я и сам научился двум первым способностям, то последняя – о перспективе – так и осталась для меня тайной за многими печатями. А ведь именно эта способность – первопричина массы докторов наук, вышедших «из-под» Г. А. Сипайлова! Но тут я хочу рассказать о двух других качествах Геннадия Антоновича, о которых частенько вспоминаю, а одно из них даже пытаюсь перенять. Речь о том, как он читал лекции. Это было совершенно удивительное зрелище и слушаще, если так можно сказать о лекции. Он читал нам два курса – «Электрические машины» (на 3-м курсе института) и «Проектирование электрических машин» (на 4-м курсе). И оба раза эффект воздействия лектора на меня был совершенно потрясающим. Причина такого воздействия мне долгое время была непонятна, пока я сам не начал читать лекции и не разобрался, в чем дело.