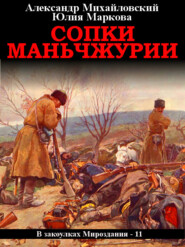скачать книгу бесплатно
Девочка, бросив на меня беглый взгляд, склонилась в сторону господина Серегина и произнесла:
– Да, папочка… Слушаю тебя и повинуюсь.
– Вот этого молодого человека необходимо в кратчайшие сроки поставить на ноги, сказал тот. – Ни на ванны, ни на другие обычные процедуры времени нет.
Девочка принялась обходить меня по кругу; при этом я чувствовал себя каким-то наглядным пособием, а не живым человеком, и от этого было несколько неуютно.
– Ага, – проворчала она, – экспресс-лечение, значит… А потом сразу на войну. А ты знаешь, папочка, что вы, мужики, настолько безответственные, что готовы месяцами бегать на временной заплатке, пока она у вас не развалится. И ругайся потом из-за вас с Хароном…
Я с изумлением и не без интереса слушал эти малопонятные для меня речи.
Наконец девочка остановилась передо мной, уперла руки в боки и посмотрела на меня сверху вниз.
– Да ты не пугайся, молодой человек! – сказала она и задорно подмигнула мне. – Меня зовут Лилия, мне тысяча лет, но поскольку моя основная специальность – первые подростковые любови, я сохраняю облик девочки-отроковицы. Вторая моя специальность – медицина, которой я занимаюсь факультативно, но, как понимаешь, при практическом стаже в тысячу лет это не имеет значения. Серегин – не мой настоящий отец, а приемный. Он спас нас с мамочкой от домашнего тирана, бога войны Ареса, голыми руками оторвав тому голову и закинув ее в кусты. С тех пор я и произвела его в свои приемные отцы. А теперь, когда с анкетой закончено, давай приступим к делу. Я тут власть, то есть врач…
Я лишь ошарашенно кивал, не успевая даже осознать значение ее слов, сказанных таким тоном, словно речь шла о самых обыденных вещах.
– Только не надо его раздевать, Лилия, – сказал Серегин, – холодновато сейчас, да и ветер совсем не ласковый…
– Только без советов, папочка, сама вижу, – огрызнулась та.
Потом она встала на колени рядом с моей раненой ногой, положив на нее обе руки поверх повязки – и меня тут же прострелила резкая боль, так что я тихо ахнул.
– Терпи, казак! – сказала Лилия, продолжая давить своими руками на рану, – что ж поделать: экспресс-методы – они такие… болезненные.
Сначала мне хотелось орать и вырываться из ее рук, но я терпел. Потом боль стала постепенно стихать и через некоторое время исчезла совсем. Лилия еще немного помяла мое раненое бедро (впрочем, уже без особых неприятных ощущений), потыкала в него пальцами, после чего удовлетворенно сказала:
– Ну вот и все, молодой человек, готово. Кто-нибудь, помогите ему встать.
Руку мне подал капитан Коломийцев, и – о чудо! – нога вполне держала мой вес, и я мог ходить даже почти не прихрамывая. Пройдясь туда-сюда и убедившись в том, что и в самом деле произошло нечто удивительное и меня действительно вылечили, я повернулся к госпоже Лилии и, склонив голову, произнес:
– Мадмуазель! Примите, пожалуйста, уверения в мое глубочайшей признательности и будьте уверены, что я никогда не забуду оказанной мне услуги…
– А вы воспитанный молодой человек, – ответила та, протягивая руку для поцелуя, – но все же не забудьте о главном. Заплатки, которую я вас сейчас поставила, хватит не больше чем на месяц. Поэтому сразу после того, как Серегин оторвет все нужные головы, попрошу явиться к нам в Тридесятое царство для прохождения полного курса лечения. И вообще – чем раньше вы это сделаете, тем лучше…
05 декабря (22 ноября) 1904 год Р.Х., день первый, 10:35. Порт-Артур.
Начальник сухопутной обороны генерал-лейтенант Кондратенко Роман Исидорович.
Едва над сопками заалел восток, японцы принялись доделывать незаконченное вчера дело на горе Высокой. Уж как я ни упрашивал Анатолия Михайловича (генерал Стессель) дать из резерва несколько рот подкрепления, он резонно возражал, что сия гора крайне плохо приспособлена к обороне, а посему выделенное подкрепление даст отсрочку всего на один день, и потери японцев при этом будут ненамного больше наших. Но я решил самостоятельно собрать подкрепления для гарнизона горы и, как начальник сухопутной обороны, отдав соответствующие указания, прибыл в штаб Западного Фронта, что располагался в казармах 5-го восточно-сибирского стрелкового полка, находящихся прямо у дороги на гору Высокую, аккурат между Рыжей горой и укреплением № 4. Вместе со мной был генерал-майор Ирман, которому и предстояло возглавить формируемый сводный батальон.
Но мы не успели. Часов в восемь утра по вершине горы, разбивая наши и так полуразрушенные редуты, заговорила японская артиллерия. Стреляла она не слишком часто и не более часа, а потом, выставив вперед штыки и оскалив зубы, в гору поперла вылезшая из осадных траншей японская пехота. Протяжные вопли «банзай!», уже изрядно приглушенные, были отчетливо слышны, ибо в атаку разом пошли несколько тысяч японских солдат – все, что осталось от седьмой пехотной дивизии, изрядно потрепанной при предыдущих штурмах. Шагая в гору, японские солдаты подбадривали себя дикими воплями, ведь ступать им приходилось буквально по трупам своих приятелей. Предыдущие штурмы дорого обошлись не только нам, но и японским войскам.
И тут случилось невероятное. Гарнизон горы Высокой ответил им не отдельными ружейными выстрелами, как можно было предполагать по предыдущим нашим потерям, а злой и частой ружейной стрельбой, в которую вплетались очереди множества(!!!) пулеметов. Было впечатление, что ночью злосчастную гору заняла свежая стрелковая бригада, усиленная как минимум двумя пулеметными батареями[5 - Первые пулеметы «максим» в русской армии монтировались на артиллерийских лафетах и организовывались в батареи по восемь единиц. Тогдашнее военное «светило» генерал Драгомиров в силу своей старческой косности считал, что поскольку вражеского солдата нельзя убить более одного раза, то скорострельное оружие ведет только к ускоренной трате патронов. Отсюда и батареи: пока их введут в бой, все может уже и кончится, пехота с ружьями справится сама, и патроны останутся нерастраченными. А если отдать пулеметы в стрелковые роты, то их командиры прикажут палить почем зря.].
Судя по тому, что все закончилось весьма быстро, первую японскую атаку неизвестные солдаты, занявшие гору Высокую, отбили просто играючи. Неизвестные – потому, что в Артуре просто не было свежей стрелковой бригады с пулеметами, которая могла бы занять позиции на горе Высокой и устроить японцам столь неприятный сюрприз. Предположение о том, что это сошли с кораблей моряки, взяв с собой свои пулеметы, было отвергнуто по двум соображениям. Во-первых, идти сводному отряду моряков на Высокую надо было как раз мимо казарм 5-го полка, а этого нельзя проделать незаметно, ибо другой дороги из города на Высокую тут нет. Во-вторых, командующий эскадрой контр-адмирал Вирен – жестокий педант, и такие партизанские акции противоречат его натуре. На такое мог бы пойти командир «Севастополя» каперанг фон Эссен, но тот готовит свой броненосец к прорыву и ему сейчас совсем не до сухопутных эскапад. К тому же, судя по частоте ружейной стрельбы[6 - Беглый ружейный огонь из самозарядных «супермосиных» ведут только амазонские стрелковые роты, у которых один выстрел равен одному вражескому трупу. При этом штурмовые роты, имеющие на вооружении реплики винтовок Бердана, сидят в окопах тихо: если японцы сблизятся на дистанцию штыковой схватки, их дело – дать один залп в упор, метнуть гранаты, а потом лезть из траншей разбираться в рукопашной с уцелевшими «сынами богини Аматерасу».], там сейчас должны были держать оборону разом команды всех кораблей Тихоокеанской эскадры.
После отбитой атаки на полчаса установилось затишье: наверное, японцы тоже усиленно пытались сообразить, что же все-таки происходит. Потом генерал Ноги, очевидно, понял, что у него прямо из-под носа украли все самое вкусное, положив взамен кукиш – и, рассвирепев, приказал открыть по Высокой огонь из всех орудий, что могут стрелять, включая одиннадцатидюймовые мортиры. Прежде подобное неизменно приводило его к успеху, ибо у наших войск на этой горе не было никакой защиты от серьезного артиллерийского огня.
И тут с наших глаз словно спала пелена – и мы увидели на обратном скате горы, обращенном в сторону Нового города, шесть будто вдавленных в склон ровных площадок, а на них были установлены странные устройства, больше похожие на задранные в небо обрезки толстых труб. В бинокль можно было наблюдать, как солдаты в неизвестной нам буро-оливковой форме закладывают в эти трубы обтекаемые рыбообразные снаряды, а секунду спустя те самопроизвольно разражаются выстрелами. А вот это уже не лезло ни в какие ворота… Эти изделия настолько же превосходили устройство капитана Гобято, как винтовка Мосина превосходит игольчатое ружье Дрейзе. Да и присутствие на склоне горы солдат в неизвестной форме говорило о том, что происходит что-то неправильное. Откуда здесь могла взяться неизвестная иностранная армия, которая вдруг, не объявляя о своем присутствии, взяла на себя труд воевать вместе с нами против японцев?
Пока шла эта артиллерийская дуэль, к казармам пятого полка постепенно подходили интересующиеся происходящим другие старшие офицеры крепости, не занятые на своих участках, а также прибывали небольшие сводные отряды, которые по моему приказанию собирали для отправки на помощь гарнизону горы Высокой. И лишь генерал Стессель (как бы[7 - Генерала Стесселя от должности коменданта Квантунского Укрепрайона наместник Алексеев вроде бы отстранил, но тот отказался исполнять приказ и отправляться на миноносце в Чифу, продолжая исполнять прежние обязанности.С одной стороны, это говорит о пофигизме, который пронизал управляющую верхушку Российской империи, а с другой, о том, что некто, еще более влиятельный, чем адмирал Алексеев, считал, что место генерала Стесселя именно в Порт-Артуре, а не в каком-то ином месте.] начальник Квантунского укрепленного района) и генерал Фок (командир дивизии, занимающей северный участок обороны) не торопились явиться сюда и полюбопытствовать, что же все-таки творится в окрестностях горы Высокой.
Тем временем стало очевидно, что снаряды, выпущенные неизвестными «трубами», падают как раз туда куда надо, потому что артиллерийский огонь японцев стал стихать, и первыми заткнулись как раз осакские гаубицы. При этом где-то в районе Трехголовой горы раздался сильный грохот – и в небо поднялся грандиозный столб черного шимозного дыма. Несомненно, один из этих рыбообразных снарядов угодил прямо в склад бомб[8 - На японских фотографиях осадных одиннадцатидюймовых батарей видно, что снаряды сложены штабелями прямо на грунте в не перекрытых прямоугольных котлованах двухметровой глубины. При обстреле морскими орудиями, ведущими настильный огонь, такая конструкция почти безопасна, а вот 120-мм минометная мина, угодив в подобное хранилище, вполне способна устроить большой «бум», целиком уничтожив двухорудийную батарею.], что могло означать конец для одной из вражеских тяжелых осадных батарей. И как раз в этот момент на дороге, ведущей к нашим позициям с вершины горы, показался человек в мундире нашего морского офицера. Прихрамывая, он поспешал в нашу сторону, и я подумал, что это как раз тот, кто даст мне ответы на все возможные вопросы. Когда он приблизился, то оказалось, что это собственной персоной последний комендант Высокой младший инженер-механик Лосев с броненосца «Ретвизан».
Будь тут генерал Фок, он непременно затопал бы на младшего инженера-механика ногами, замахал руками и закричал – почему, мол, такой-сякой инженер-механик оставил вверенную ему позицию и сейчас в полном одиночестве отступает в тыл? Но я-то не Фок. Сначала спрошу (причем то же самое и вполне вежливо), и перейду к взысканиям только в том случае, если его ответ меня не устроит.
Впрочем, господин Лосев и не собирался прятаться. Увидав мою особу, стоящую в окружении господ офицеров, он со всей решительностью зашагал в нашу сторону.
– Ваше Превосходительство, имею честь доложить, что произошло чудо! – отрапортовал он.
– Что-что произошло, молодой человек? – не понял я. – Выражайтесь, пожалуйста, яснее.
– Произошло чудо, Ваше Превосходительство! – повторил тот, – к нам на выручку из другого мира прибыл самовластный великий князь страны Артания Сергей Сергеевич Серегин с войском. Пока что на гору Высокая им введен один полнокровный пехотный легион со средствами усиления, одной минометной и одной гаубичной батареей, остальная армия ожидает в резерве с прикладом у ноги.
В ответ на это заявление окружающие меня офицеры возроптали, выражая высшую степень недоверия, а вот я, если можно так сказать, усомнился в сомнениях. Ведь кто-то же там, на Высокой, с японцами сейчас воюет, и этот факт не опровергнуть никаким возмущенным ропотом…
– Хорошо, – сказал я, прекращая шепотки, – предположим, что так и есть. Тем более что кто-то там сейчас с японцами вполне себе бодро воюет. Пусть это будет некий Великий князь Артанский. Гипотеза не хуже иных прочих. А вы юноша, докладывайте дальше. Какова численность этого пехотного легиона? Что это за войско и как оно вооружено? И самое главное, кем на самом деле является этот самый самовластный Великий князь Артанский, ведь такой страны нет на карте мира? Говорите, мы ждем. Неужели из вас необходимо тянуть клещами каждое слово?
– Ну как вам сказать, Ваше Превосходительство… – замялся молодой человек, – давайте я по порядку отвечу на ваши вопросы, начиная с последнего, а вы не будете меня прерывать, потому что после того, что я увидел за последние несколько часов, у меня у самого голова идет кругом. Начнем с того, что, как говорит сам господин Серегин, Артания – это не только «где», но и «когда». Столица этого древнеславянского государства Китеж-град расположена в конце шестого века, в нижнем течении Днепра, примерно там, где сейчас находится город Александров (Запорожье). И сам великий князь Серегин там тоже не местный. Он пришел в тот мир вместе с уже готовым конным войском спасать от уничтожения аварами племенной союз славян-антов, и так хорошо это сделал, что местная боярская старшина выкрикнула его на княжество, как когда-то новгородцы избрали себе в князья Рюрика. Но Серегин оказался умнее основателя русской державы и не согласился на обычные по тем временам правила, когда князя можно позвать, а можно прогнать: он потребовал себе у артанских бояр права самовластного государя, равные правам константинопольского кесаря, а иначе, мол, пусть ищут защитника в другом месте.
– Нахал… – покачал головой генерал Ирман, – и что, местные бояре согласились на его условия?
– Да, – подтвердил инженер-механик Лосев, – согласились, ибо за аварами шли другие кочевые орды, еще более многочисленные и свирепые, и лучшие люди артанской земли решили, что самовластный князь с сильным войском – это все же лучше, чем полное разорение. Я лично встречался с артанскими боярами Добрыней и Ратибором, которые правят в Артании, пока их князь воюет в чужих землях, и они подтвердили, что Серегин действительно самовластный великий князь Артанский, получивший свой титул по древнему праву.
– Ну, если это так, – сказал полковник инженерной службы Рашевский, один из умнейших людей в Порт-Артуре, – то оспаривать великокняжеский титул господина Серегина будет себе дороже, ибо на подобном прецеденте как на фундаменте зиждется вся российская государственность. И, кстати, о множественности миров писал еще милейший Джордано Бруно – и, видимо, не зря, храня эту тайну, инквизиция сожгла его на костре. Но вот мне до сих пор решительно непонятно, как это возможно – что между этими мирами ходит обычный смертный человек…
– Великий князь Артанский не совсем смертный человек, – с мрачным видом произнес Лосев, – одна половина его смертная, но если глянуть с другой стороны, то оказывается, что это младший архангел, поставленный Творцом всего Сущего оберегать Российскую державу. И две этих сущности присутствуют в нем нераздельно и неслиянно. При личной встрече сразу ощущается исходящая от князя сверхъестественная сила. Кстати, господин Рашевский, доказательством сверхъестественных способностей князя Серегина и некоторых его приближенных могут служить траншеи, ходы сообщения, пулеметные гнезда и капониры, за одну ночь появившиеся на вершине Высокой. При этом должен заметить, что все эти сооружения не выдолблены кирками или ломами в каменистом грунте, не отлиты в бетоне, а выдавлены в скале будто в мягкой глине. В то время как солдаты Артанского князя сидят в глубоких траншеях, японская артиллерия продолжает достреливать остатки наших старых редутов на гребне горы. Сам князь надземных сооружений не строит – говорит, что они легко могут быть разбиты артиллерийским огнем, а из матушки-земли русского солдата еще надо суметь выковырнуть.
– Скорее всего, так и есть, – вздохнул полковник Рашевский, – за время злосчастной Артурской осады стало понятно, что осадные гаубицы японцев с легкостью разрушают все наши оборонительные сооружения. Непонятно другое. Вы же сами инженер. Скажите, как до такой истины мог додуматься человек, как вы сами сказали, шестого века, когда и артиллерии еще никакой не было и фортификации старались сделать не сколько прочными, столько высокими? Насколько я помню, в те времена большинство крепостей брались измором, а не штурмом…
– Позвольте, я выскажу свои соображения, Сергей Александрович, – сказал Лосев, – насколько я понимаю, Артанский князь Серегин по своему происхождению никакой не выходец из шестого, или какого другого прежнего века, поэтому не стоит смотреть на него как на дикаря, который не понимает, во что вмешивается. По моему просвещенному инженерному восприятию, этот человек или наш современник, или происходит из еще более поздних времен. Второе даже более вероятно. А еще, судя по поведению, он кадровый офицер, а не какой-нибудь шпак, временно надевший форму, и уж тем более он совсем не похож на внезапно обогатившегося нувориша, решившего обзавестись собственной армией…
– Да уж… – хмыкнул недавно подошедший к нам генерал Белый, – прямо сказки Пушкина, юноша, или сон в летнюю ночь. А это ваш Артанский князь напоминает какого-то сказочного королевича Елисея, или, если точнее, Ивана-царевича.
– Все это я видел наяву собственными глазами, господин генерал! – вспыхнул господин Лосев и широко перекрестился. – Вот вам в этом святой истинный крест. Кроме того, я лично был свидетелем еще нескольким чудесам. Вчера днем, во время обстрела между предпоследним и последним штурмом, я был тяжело ранен осколком в бедро. И от этой раны меня всего за несколько минут наложением рук излечила весьма экстравагантная особа лет двенадцати от роду, если судить по внешнему виду. При этом она сказала, что такое быстрое лечение – это лишь временная заплатка, которой хватит не более чем на месяц, а потом необходимо явиться к ней в так называемое Тридесятое Царство для прохождения полного курса процедур. Второе чудо заключается в том, что я сам ходил между мирами – так, как обычные люди в доме через двери ходят из комнаты в комнату. Видел и то самое чрезвычайно жаркое Тридесятое Царство, пил из фонтана живой воды в тамошнем Запретном Городе, видел армию престранных девиц семи футов роста, уши которых остры как у лисиц. Еще я побывал в Китеж-граде, где сейчас зима и лежат саженные сугробы, и смотрел на засыпанный снегом город с третьего этажа великокняжеского терема. Также я был в третьем эксклаве Артанского князя, в Крыму весны тысяча шестьсот восьмого года, и своими глазами наблюдал изготовленную к бою армию, которой командует прославленный русский генерал князь Петр Багратион. Господин Серегин подобрал его на поле Бородинской битвы, вылечил своими магическими способами и назначил командующим всем Артанским войском. Там собрано не менее ста тысяч штыков, двенадцать тысяч всадников отличнейшей кавалерии, тяжелые боевые машины, и многочисленная артиллерия, готовые по получении приказа вступить в войну для того, чтобы склонить весы на нашу сторону.
– Погодите, молодой человек… – сказал генерал Ирман, – если войска стоят в резерве, то это не значит, что они будут брошены в бой. Примером тому и наши генералы: Фок со Стесселем, которые умеют только пятиться и боятся дать японцам сдачи. Так же ведет себя и командование Маньчжурской армии, которое с момента Тюренческого боя занято только отступлениями и готово продолжать их хоть до Читы.
– Из того, что я успел узнать, Артанский князь Серегин – человек чрезвычайно решительный, – веско сказал Лосев. – И, кроме всего прочего, над ним не довлеет никаких обязательств, кроме преданности России во всех ее видах. Тщательно взвесив все обстоятельства, он рубит по живому твердой рукой сплеча, невзирая на последствия. Ни в одном из тех миров, где ему довелось побывать, история более не идет по прежнему пути. Одни царства им были созданы из ничего, другие полностью разрушены, в третьих сменились владыки, четвертые из врагов стали для России друзьями. И в то же время Артанский князь милосерден к слабым и убогим. Вбив в землю побежденный народ по самые ноздри, проявляет заботу о вдовах и сиротах, чтобы те выросли полезными членами общества…
– Погодите, молодой человек, – прервал я, – уж больно страшную картину вы нарисовали. Наделенный сверхъестественными способностями авантюрист с наклонностями Чингисхана вместе со своей армией ломится через миры как медведь через камыши, повсюду устанавливая свои порядки. Возможно, ваш господин Серегин и в самом деле русский патриот, приходящий на помощь Отчизне в самые трудные моменты ее существования, но кто даст гарантию того, что этот человек не решит сместить с трона государя-императора Николая Александровича, чтобы заменить его более приемлемой фигурой, или вообще учредить у нас республику?
– В данный момент, Роман Исидорович, это абсолютно неважно, – раздался позади меня твердый уверенный голос, – судьбу императора всероссийского я буду обсуждать только с ним самим и больше ни с кем. Сейчас наша с вами забота, господа – это судьба крепости Порт-Артур…
Обернувшись, я увидел возле дороги престранную компанию. Впереди остальных стоял мужчина неопределенного возраста, одетый в военный мундир буро-оливкового цвета без знаков различия. Поверх мундира на незнакомце был надет странный жилет того же цвета с множеством карманов, а кобура для револьвера располагалась не у пояса, как положено, а у левой подмышки. Отдельной деталью был меч в потертых ножнах, висящий у правого бедра незнакомца. Вот именно что меч, а не сабля или шпага… При этом длинные руки и широкие кисти этого человека наводили на мысль, что этот меч отнюдь не церемониальное оружие.
Рядом с мужчиной стояла женщина, одетая точно в такой же мундир. То есть о том, что это именно женщина, я догадался далеко не сразу. Короткая стрижка, упрямо сжатые губы… и тоже меч на бедре, но несколько иного вида. Глядя на эту особу я вдруг подумал, что стоит ее как следует разозлить – и она сама станет оружием, бомбой страшной разрушительной силы.
Чуть позади и в стороне от этих двоих стояло трое отроков, находящихся на грани того возраста, когда у мальчиков начинают пробиваться усики и ломаться голос. Почему-то на ум пришло слово «пажи». Сейчас это не модно, но в тех временах, откуда, по словам господина Лосева, к нам явился Артанский князь Серегин, выводок пажей имел при себе каждый уважающий себя монарх, и с этой должности начинались многие блестящие карьеры. По сопровождающим этих пятерых нижним чинам чужой армии, держащимся чуть позади своих начальников, я лишь бегло мазнул взглядом, не удостаивая их особым вниманием. Экипированы они были почти так же, как и их командующий, отличаясь от того наличием винтовки за плечом и глубокого стального шлема на голове.
– Господа! – вдруг неожиданно звонким гласом выкрикнул младший инженер-механик Лосев, – дозвольте представить вам самовластного Великого князя Артанского Сергея Сергеевича Серегина…
– Вольно, юноша, – отозвался Великий князь Артанский (во мне при этом что-то такое екнуло), – я, собственно, господа, зашел к вам сказать, что лед тронулся. Несколько минут назад мои минометчики влепили мину прямо в командный пункт генерала Ноги, когда он там проводил совещание с командирами дивизий. Триалинит – суровая штука. Если кто из генералов и выжил, то командовать он точно не сможет. Теперь, пока не пришлют замену, японская осадная армия превратилась в курицу без головы, а я получил полную свободу действий в вашем мире.
– Простите за вопрос, господин Серегин… – сказал вдруг генерал Белый, – а что такое триалинит?
– А это, Василий Федорович, такая высокотемпературная взрывчатка повышенной бризантности, – ответил Серегин. – Пригодна как для снаряжения артиллерийских боеприпасов, так и для создания безоболочечных устройств. Начиненный триалинитом фугасный снаряд от четырехфунтовки рвется с силой, свойственной восьмидюймовому снаряду с пироксилиновой начинкой. Но сейчас это неважно. Я пришел к вам сюда для того, чтобы пригласить к нам – показать товар лицом и обсудить сложившееся под Порт-Артуром положение Романа Исидоровича Кондратенко, Сергея Александровича Рашевского и Василия Федоровича Белого. Это ненадолго, часа на два-три. Ведь есть сведения, сообщать которые младшему офицеру просто опасно, как бы патриотичен он ни был. Ну что, Роман Исидорович, вы согласны?
Меня уже давно одолевало жгучее желание посмотреть все своими глазами и потрогать собственными руками.
– Да, Сергей Сергеевич, – без малейшего колебания ответил я, – согласен.
– Тогда идемте, – сказал Артанский князь, – здесь недалеко. Одна нога здесь, другая уже там. А остальные господа офицеры пока пусть расходятся по своим частям и начинают готовиться к лучшей жизни…
05 декабря (22 ноября) 1904 год Р.Х., день первый, 14:05. окрестности Порт-Артура, гора Высокая (она же по-японски «высота 203»).
Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский.
Говорил господам генералам и полковникам, что мина в штаб генерала Ноги попала случайно, я немного лукавил. В эти пока еще пасторальные времена большинство «благородий», «высокоблагородий» и «превосходительств» не одобрили бы массового убийства вражеского высшего командного состава. Но в то же время я держал в памяти, что сам Ноги даже не поморщился, организовав массированную бомбардировку форта № 2 осакскими гаубицами, в то время как там проводил совещание генерал Кондратенко. Так что когда моя энергооболочка выявила в структуре японского командования точку откуда волнами расходятся распоряжения, рука моя не дрогнула. Контролировать мину, идущую по крутой траектории – не такое уж и сложное, для меня занятие, так что в том залпе мы имели четыре близких разрыва и два фактически прямых попадания в генеральский командно-наблюдательный пункт. Как говорится – брызги веером. И мы еще разберемся с тем поцом, который в нашей истории слил японской разведке информацию о совещании в форте № 2 с участием генерала Кондратенко. Но самому доброму гению Порт-Артурской обороны об этом говорить не надо: меньше знает, крепче спит.
Однако я ничуть не лукавил по поводу того, что с момента смерти генерала Ноги получил в этом мире свободу. Если раньше порталы открывались только в непосредственной близости к вершине «высоты 203» избранной исходной точкой для инвазии, то теперь, когда этот мир вышел из Основного Потока и обрел собственное существование, такие ограничения оказались аннулированы. В силу это я и смог открыть локальный портал с вершины горы к казармам, у которых собрались генералы. Можно долго убеждать людей в своем сверхъестественном могуществе, но стоит один раз провести их хотя бы через локальный портал, как все вопросы разом отпадают. По крайней мере, Кондратенко, Белый и Рашевский следом за мной преодолев одним шагом два с половиной километра, разом растеряли весь свой скепсис и оказались готовы к полному сотрудничеству. И, кстати, теперь, если мне вздумается, то я смогу заглянуть с рабочим визитом в Зимний дворец к императору Николаю, или же во дворец Кодзе к его японскому коллеге Мацухито, – но только мне ни туда, ни туда пока не надо.
Для встречи с Николаем необходимо предварительно навести порядок в Порт-Артуре и одержать небольшую победу, откинув японскую осадную армию хотя бы на рубеж Волчьих гор. Конечно, можно было бы ввести в бой все мои наличные силы, поднапрячься и размолотить японцев в мелкий фарш, но уже излишний энтузиазм. Я должен помочь местным русским разобраться с их проблемами, поспособствовать тому, чтобы они набрали опыт и мощь, а не одерживать победы вместо них. И ведь мало разгромить японские армию и флот, водрузив над развалинами Токио знамя победы, – после этого нужно распутать клубок скорпионов и ехидн, плотно свернувшийся вокруг местного правящего семейства. И это будет посерьезнее победы над Японией; пожалуй, чем-то таким я занимался только когда разруливал на Руси первую Смуту. Вот и пригодится былой опыт. Что касается японского императора, с ним мне предстоит встретиться только после того, как поражение Японии станет очевидным даже для дилетантов и придет время диктовать побежденным условия капитуляции. Делать это раньше просто бессмысленно.
С точки, куда нас вывел портал, весь вылепленный нами УР был как на ладони: опорные пункты, изломанные линии траншей, фланкирующие пулеметные гнезда с противошрапнельными перекрытиями; заполняющие оборону легионеры Велизария были видны невооруженным глазом. С других сторон маскировка была идеальна, и вражеские артиллерийские наблюдатели не могли разглядеть ничего, кроме старых русских редутов и каменной стенки, выстроенной еще незабвенным капитаном Лиллье. Вот в них японские пушки и долбились как дятлы в бетонный столб, а наша оборона стояла целенькая, не считая отдельных воронок от мест падения шальных снарядов. А ниже траншей склон горы всплошную устилали кровавые последствия нескольких дней непрерывных вражеских атак. После войны японское начальство долго занималось самооправданиями. Свои потери они занизили в разы (русские настолько же завысили), а «высоте 203» приписали долговременные оборонительные сооружения. Посмотрим, что японские генералы будут делать, обнаружив, что эти укрепления появились на этой горе на самом деле, а не только в их бредовой фантазии.
– Вот, господа, – сказал я, обводя рукой окрестности, когда мы оказались на вершине «высоты 203», – любуйтесь: узел полевой обороны по стандарту моих родных времен, рассчитанный на боевые возможности армий моего времени. Правда, тут не хватает отдельных элементов, но они в начале двадцатого века и не нужны, так как до тяжелых сухопутных мониторов и атак с воздуха ваш мир еще не дорос.
– И каковы же эти боевые возможности? – спросил генерал Белый, явно впечатленный и всем увиденным, и моими комментариями, – по крайней мере, в отношении артиллерии – ибо как я понимаю, ваше укрепление рассчитано на обстрел орудиями весьма крупного калибра?
– Ну как вам сказать, Василий Федорович… – сказал я в ответ, – самый мелкий калибр в ствольной артиллерии моего времени – сто двадцать два миллиметра, а по-вашему – сорок восемь линий. Такими гаубицами комплектуются артиллерийские дивизионы огневой поддержки в пехотных полках. В дивизионных артполках – орудия шестидюймового калибра, в артиллерии резерва главного командования – от шести до восьми дюймов. О трехдюймовых орудиях и прочем мелком калибре, за исключением автоматических пушек, все давно забыли и даже не вспоминают.
И тут неожиданный вопрос задал инженер Рашевский.
– Сергей Сергеевич, позвольте узнать, какие же времена на самом деле вам родные? – довольно интеллигентно поинтересовался он. – А то у нас об этом имеются весьма разные мнения. При этом лично я согласен с теми, кто говорит, что вас ни в коем случае нельзя признать за выходца из шестого века или каких-то иных предшествующих нам времен.
– Сто двенадцать лет тому вперед от нынешнего момента, – сухо сказал я, – так что…
– Мы у вас как на ладони, – невесело засмеялся Рашевский, остальные же переглянулись между собой.
– Да, так и есть, – кивнул я, – но не только из-за моего происхождения из будущих времен. Я же зарекся делать хоть какие-то выводы, исходя только из штудий исторических трудов. История – это тоже политика, только развернутая в прошлое, тем более что пишут ее, как правило, победители, а не побежденные. Поэтому все свои судьбоносные решения я принимаю на основании сведений, полученных с помощью классических методов и моих дополнительных способностей…
– Говоря о дополнительных способностях, вы имеете в виду… колдовство? – осторожно спросил Рашевский.
– Сергей Александрович, никогда больше не повторяйте этого слова в нашей компании, – глухим голосом произнес я. – Колдун получает энергию для своих манифестаций, извлекая ее из других живых существ – либо убивая их, либо частично лишая сил и воли. Самый мерзкий вид колдовства – это человеческие жертвоприношения. В противовес колдунам Высшие маги извлекают энергию напрямую из пронизывающих вселенную энергетических потоков, протекающих между полюсами хаоса и порядка. Где-то такие потоки очень густы, и магия в тех мирах – самое обычное дело; где-то, как здесь, их почти нет…
– Но как же тогда вы, Сергей Сергеевич, имеете возможность творить свои, чудеса, если как вы говорите в нашем мире нет так необходимых вам магических потоков? – перебил меня Рашевский.
– Ну как вам сказать, Сергей Александрович… – пожал я плечами, – на ваш вопрос имеется сразу три ответа. Первый ответ стоит прямо рядом с нами. Это госпожа Кобра, она же Темная Звезда, в миру Ника Константиновна Зайко. Будучи инициированным магом огня высшей категории, она из любого мира способна дотянуться до Горнила Хаоса, чтобы зачерпнуть оттуда необходимое количество энергии. Второй ответ – это вон тот ящик на ножках, похожий на заводную шарманку. Это механический генератор магии, производящий энергию так же, как динамо производит электричество, в дикой природе встречающееся только в виде молний. Третий способ таков: из того мира, где магия присутствует в достаточном количестве, необходимо взять прирученного духа стихии и подселить его в такое место, где он сможет жить естественной для себя жизнью. Духу огня необходим извергающийся вулкан, духу воды – водопад или речные пороги, духу воздуха – такое место, где ветер дует непрерывно и с большой силой. Но в вашем мире мы к этому способу прибегать не будем, ибо первыми увеличением магического фона воспользуются как раз злые силы. Ломать проще, чем строить, а недостаток естественной энергии такие персонажи всегда готовы восполнить самым мерзким колдовством. Выдавливая в земле лежащий перед вами укрепленный район, мы воспользовались помощью госпожи Кобры, повседневные нужды обеспечивает механический генератор, накрывающий только ближайшие окрестности, и, кроме того, каждый маг имеет при себе некий магический резерв, способный некоторое время поддерживать его деятельность. На этом я предлагаю считать исчерпанным обсуждение вопросов магии в связи с их практической неприменимостью и перейти к вопросам более практического свойства.
– Э нет, Сергей Сергеевич, – возразил Кондратенко, – так дела не делаются. Вы хотя бы намекните на то, как выходец из двадцать первого века, русский патриот и офицер, вдруг смог получить способности, приведшие его к должности младшего архангела и титулу Великого князя Артанского… А-то как же мы сможем с вами общаться, когда мы о вас не знаем ничего, а вы о нас все?
– Ну хорошо, Роман Исидорович, – сказал я, – если вы так настаиваете, то слушайте. Только предупреждаю, что это будет весьма краткое изложение наших приключений. На полную версию потребуется не один день подробнейшего рассказа, а столько времени у нас сейчас нет…
Тот кивнул и ответил:
– Думаю, что после уже продемонстрированного нам чуда мгновенного перемещения и видом устроенных вами укреплений мы с господами Рашевским и Белым будем согласны и на краткую версию ваших приключений, ведь после таких фактах правдой в вашем рассказе могут оказаться даже самые невероятные вещи.
Ну, я им и рассказал – вкратце, галопом по европам; сводил в Тридесятое царство, в Крым мира Смуты и в засыпанную снегом Великую Артанию, где над незамерзающим Днепром играют разноцветные магические сполохи. При этом я представил Кондратенко и его спутников отцу Александру, мисс Зул (вот это был шок), моему начальнику штаба полковнику Половцеву, командиру танкового полка подполковнику Седову, командующем первым ударным легионом стратегу Велизарию, а также генералу князю Багратиону, армия которого в Крыму мира Смуты ожидала приказа с прикладом у ноги. Проблема была в том, что гладкоствольные ружья образца 1809 года сто лет спустя совершенно не котируются, а более совершенной стрелковки, адекватной началу двадцатого века, в достаточном количестве у меня не имеется.
В конце концов, когда генерала Кондратенко и его спутников, совершенно обалдевших от всего увиденного и услышанного, вернули обратно в тысяча девятьсот четвертый год на «высоту 203», там творилось бурное действо, именуемое «бодание японским бараном новых русских ворот». Японцы снимали отряды солдат с остальных участков, перебрасывая их к осадной параллели у подножия высоты – оттуда они поднимались живыми волнами и бежали вверх по склону, только для того, чтобы умереть под пулеметными очередями и убийственно частой и меткой стрельбой амазонских оторв. Японская артиллерия изо всех сил лупила по тому, что считала узлами сопротивления, и сама несла немалые потери в ходе контрбатарейной борьбы. Введенные мною на плацдарм минометная и гаубичная батареи подавляли противника убийственно меткой стрельбой, вдребезги размолотив огневые позиции японцев у Трехголовой горы, но на других участках японского осадного фронта намечались очевидные признаки подготовки к передислокации артиллерийских батарей. Японское командование, или то, что от него осталось, явно собиралось или любой ценой взять эту гору, превратившуюся для него в идею-фикс, или положить у ее подножья всю третью армию.
Запросив энергооболочку, я получил ответ, что, прибив генерала Ноги и всех командиров дивизий, я совершенно упустил из виду начальника штаба третьей армии генерал-майора Иддити, который и развил такую бурную деятельность. В самом начале войны этот японский генерал руководил высадкой первых десантов в Чемульпо, где немало преуспел в своей карьере. При этом погибших командиров дивизий заменили командиры первых бригад, отсутствовавшие на том злосчастном совещании. Оценив обстановку, я тут же приступил к исправлению недоделок. На самом деле такая бурная активность японцев была мне весьма на руку. До наступления темноты я собирался стойко отражать истерические атаки противника на нынешних позициях, укладывая вражескую пехоту штабелями, а вечером, перейдя в контратаку с применением танков, артиллерии и панцирной кавалерии, отбросить правый фланг японской осадной армии на те самые рубежи, которые она занимала в начале августа, еще до первого штурма Порт-Артура. Самым ценным трофеем для меня при этом станут несколько десятков тысяч винтовок «арисака», пока еще бесполезно валяющихся вместе с трупами японских солдат на ближних подступах к «высоте 203». Вот эти-то винтовки и послужат началом решения проблем с вооружением армии генерал Багратиона. Первоначально я планировал найти необходимое мне оружие на складах крепости, но трофеи, взятые у врага на поле боя, все же предпочтительней. Да и осадные пушки, которые японцы с превеликим энтузиазмом тянут сейчас на свой правый фланг, для меня лишними тоже не будут.
Сообщив об этом и так перегруженному впечатлениями генералу Кондратенко и его спутникам, а также договорившись о будущей встрече, я выпроводил своих гостей обратно в Порт-Артур тем же путем, каким и привел, а сам принялся готовить ночной контрудар по японцам. Ужо у меня незваные гости сегодня узнают, в какие края на зиму улетают русские раки…
05 декабря (22 ноября) 1904 год Р.Х., день первый, 17:45. Порт-Артур, штаб крепости.
Как говорит народная артанская поговорка: «Если над ухом у спящего немного погреметь железными ведрами, тот обязательно проснется.» А ведь над ухом у генерала Стесселя гремели далеко не ведром. Ожесточенное сражение за гору Высокую продолжалось от рассвета и до сего момента, невзирая на наступление темноты. Еще утром казалось, что бой через короткое время затихнет (хотя бы по причине исчерпания защитников русских позиций), но грохот боя все длился и длился, лишь с небольшими перерывами. И хоть орудия в редутах на вершине горы были давно разбиты, в ответ японцам тоже гремели пушки.
Этот неожиданно упорный бой вселял в Анатолия Михайловича (Стесселя) смутное ощущение чего-то неправильного. Ведь он распорядился не давать более резервов на усиление гарнизона Высокой. А кто же это тогда сейчас там воюет, если еще вчера было решено сдать эту гору, буквально обескровливавшую гарнизон своим требованием резервов – ибо любой обороне, даже самого выгодного укрепленного пункта, однажды непременно приходит конец. По крайней мере, так говорил Александр Викторович (Фок). Правда, Роман Исидорович (Кондратенко) имеет по этому вопросу прямо противоположное мнение, считая, что сопротивляться супостату необходимо из последних сил, пока еще в крепости имеются запасы продовольствия и патронов, а дух солдат высок как никогда. Именно поэтому генерала Кондратенко он, Стессель, назначил начальником всей сухопутной обороны, а Александра Викторовича Фока держал при себе в резерве. Сдать крепость, не исчерпавшую всех возможностей к сопротивлению – фи, какой моветон… Так и под военно-полевой суд недолго загреметь.
Сам генерал Стессель, более тяготевший к административной работе, в дела обороны предпочитал не вникать, полагаясь на доклады генерала Кондратенко: ведь он – начальник сухопутной обороны, ему и карты в руки. Освободившись таким образом от военных забот, Стессель со всем пылом собачился с комендантом крепости генералом Смирновым: двум кобелям – Квантунскому и Порт-Артурскому – было тесно в одной будке. При этом Анатолий Михайлович совершенно искренне считал, что полномочия, данные подчиненному, принадлежат и его начальнику, и потому с мелочностью судебного крючкотвора отменял и переиначивал все распоряжения коменданта крепости. А если учесть, что генерал Кондратенко, в своей ипостаси начальника сухопутной обороны считая себя незаменимым, тоже чувствовал себя независимым и от Смирнова и от Стесселя, то можно понять, что в крепости сложился первосортный бардак. Но вмешиваться в распоряжения генерала Кондратенко себе дороже, ибо на нем держится вся оборона. Об этом Анатолий Михайлович никогда прямо не говорил, но, видимо, считал, что не только полномочия, но и заслуги подчиненного также принадлежат его начальнику. И только изредка, чтобы хитрый хохол[9 - Если верить некоторым свидетельствам, то так Кондратенко прозвали офицеры и генералы крепости преимущественно немецкого происхождения.] слишком не задавался, генерал Стессель, как комендант Квантунского укрепленного района, бил того по рукам, сдерживая излишний, по его мнению, пыл. Ведь нет же большего наслаждения, чем показать свою власть над строптивым подчиненным, мнящим себя незаменимым.
А ведь был еще и генерал Фок – находящийся в резерве, а потому не вникающий ни в боевые, ни в хозяйственные дела, но при этом едко комментирующий каждое решение Кондратенко и тихо капающий на мозги генералу Стесселю своими капитулянтскими идеями. «Чтобы не допустить особого кровопролития, крепость необходимо сдать как можно скорее, – говорил он. – А кровопролитие будет неизбежно в том случае, если японцы ворвутся непосредственно в городские пределы, и начнутся ожесточенные бои на улицах. А ведь, помимо гарнизона и моряков, в Порт-Артуре присутствуют несколько тысяч мирных обитателей, в том числе и его собственная супруга Вера Алексеевна, а также до десяти тысяч раненых и больных, что находятся ныне в госпиталях. Десять лет назад, захватив китайскую крепость Люйшунь, японские солдаты без всякой пощады убили всех ее обитателей, без различия пола и возраста, оставив в живых только несколько десятков человек, необходимых для проведения похоронных работ…»
Когда Анатолий Михайлович представлял свою «половину» в груде окровавленных, обезображенных трупов, ему ставилось нехорошо, и только бодрые донесения генерала Кондратенко о том, что возможности сопротивления далеко не исчерпаны, добавляли оптимизма[10 - Перечитав верноподданнические (то есть предназначенные лично Николаю II) телеграммы генерала Стесселя мы обнаружили, что панические нотки в донесениях на «самый верх» стали появляться только после того, как начальником сухопутной обороны был назначен генерал Фок. Из этого следует, что версия о предательстве Стесселя не выдерживает никакой критики, потому что в таком случае незачем было отдавать всю власть над войсками генералу Кондратенко, переподчинять ему саперов и артиллеристов, и вообще делать так, чтобы вожделенная капитуляция всячески оттягивалась. В таком случае гораздо проще было изначально назначить на должность начальника сухопутной обороны генерала Фока, и тот привел бы японскую армию к победе еще в сентябре, если не в августе.] коменданту Квантунского укрепленного района. И теперь свирепое и, главное, непонятное сражение на Вершине Высокой, все не кончающееся и не кончающееся, несмотря на то, что уже несколько часов японское командование бросает в него все доступные резервы словно дрова в топку, заставляло мысли прирожденного карьериста беспокойно ворочаться.
Все непонятное страшно само по себе, а уж слухи, которые после полудня, шипя, поползли по Порт-Артуру невидимыми змеями, были еще страшнее (младший инженер-механик Лосев постарался, расписывая картину масляными красками по трафарету). Пришел, мол, из далекого Тридесятого царства с войском безжалостный к врагам самовластный Великий князь Артанский и из собственных устремлений и представлений о справедливости, никому ничего не объявляя, вступил в войну с Японией. И что только авангард этого войска составляет как бы не пехотную дивизию при тяжелой артиллерии – она-то и бьется сейчас с супостатом за гору Высокую; а если князь Серегин прикажет, то артанских войск в Артуре станет еще больше.
Про тяжелую артиллерию – это было сильно: хриплый кашель гаубиц, которые, высоко задрав стволы, посылали в невидимые из города цели снаряд за снарядом, был слышен даже с того места, где располагался штаб крепости. Больше стрелять там было нечему. В сторону горы Высокой была развернута только одна батарея сухопутного фронта, да и та могла вести огонь исключительно прямой наводкой по склонам, обращенным к Порт-Артуру, и никоим образом не доставала японцев, находящихся на противоположных склонах горы. Да и звук стрельбы был не похож на гром морских пушек. Очевидцы (а были уже и такие) баяли, что артанские пушки внешне похожи на снятые с боевых кораблей пушечные башни, которые чудесным образом сами ездят по дорогам, а стволы своих орудий задирают так же высоко, как французские танцовщицы ноги в канкане. Еще поговаривали, что генерал Кондратенко лично бывал на горе Высокой, был принят артанцами с превеликим уважением, и, вернувшись, установил разграничение ответственности с артанскими и русскими войсками, фланги которых смыкались между занятой пришельцами горой Высокой и русским фортом № 4.
Самому генералу Стесселю, встревожившемуся такой самодеятельностью своего подчиненного (хотя бы доложил как положено, прежде чем раздавать указания) было невместно срываться с места и бежать любопытствовать, что происходит, – поэтому он вызвал к себе своего адъютанта подпоручика гвардии князя Гантимурова и приказал ему отправиться в Новый Город (откуда ближе всего к месту событий) и разузнать, что там творится. Алексею Михайловичу не в первый раз использовал этого отпрыска тунгусского княжеского рода для разных поручений. Было дело, когда под видом аборигена князь Гантимуров даже проникал через линию осады с донесением в Манчжурскую армию и вернулся обратно (так что сомнительные сведения о наследственном сифилисе и патологической трусости этого человека стоит оставить на совести товарища Степанова). Князь в силу особенностей своего происхождения был таким же карьеристом, как и Стессель, но не имел даже административных талантов, свойственных его непосредственному начальнику, а посему до конца жизни был обречен оставаться «человеком для особых поручений».
Вернулся подпоручик уже затемно, с совершенно круглыми от изумления глазами, и сразу начал докладывать о том, что видел сам, и еще больше – о том, чего наслушался от разных очевидцев, которых на войне всяко больше, чем на рыбалке или охоте. Пробавляться рассказами пришлось потому, что в самые интересные места поручика и не пустили, завернув с полдороги. Артанские солдаты, выставленные Великим князем Серегиным в оцепление, пропускают на Высокую только с бумагами, выданными генералом Кондратенко, и никак иначе. И солдаты непростые: по большей части раскосые девки почти саженного роста, хотя попадаются среди них и личности мужского пола. При этом артанские нижние чины ведут себя дерзко: с акцентом, но на вполне понятном русском языке, говорят его княжеской светлости «ты» и «стой, стрелять буду», а при попытке возмутиться грозят взять под арест и сдать в контрразведку на опыты.
Но кое-что поручик Гантимуров увидел – и пришел к выводу, что слухи, несмотря на то, что они больше похожи на русскую народную сказку, пожалуй, не врут, и самовластный артанский князь действительно тот, за кого себя выдает. Ведь самозванец и мистификатор, за которого его можно было бы принять, не был бы в состоянии бросить в бой дивизию с артиллерией. И вот теперь вся японская осадная армия сворачивает активные действия против фортов «два» и «три» (которые совсем недавно пыталась захватить с невероятным фанатизмом) и бросает все силы против горы Высокой, занятой артанской пехотой.
И в тоже время никому в Артуре (этой тайной владеют только Кондратенко, Рашевский и Белый) не известно, каким именно образом артанский князь оказался на горе Высокой, а также откуда и как приходят к нему подкрепления. А в том, что подкрепления приходят – сомневаться не приходится. Самоходные бронебашенные пушки появились на склонах Высокой и в других местах гораздо позже пехоты. И еще Стессель не сомневался, что в Санкт-Петербурге об этом Артанском князе даже не слыхивали. В противном случае он, Стессель, получил бы по телеграфу подробнейшие инструкции – и от военного министра генерала Сахарова, и от командующего Манчжурской армией генерала Куропаткина. И самое главное – о происходящем еще не поставлен в известность сам государь-император Николай Александрович. Едва ли он будет рад, что в его дела без всякого предупреждения вмешался доселе неизвестный коллега по монаршему цеху.
Анатолий Михайлович в уме уже составлял верноподданическое донесение, которое он отправит государю-императору по телеграфу через Чифу, как все завертелось еще круче. Из Нового Города в штаб крепости на рикше примчался штабс-капитан (а никакой не ротмистр, как у Степанова) Водяга и взволнованно сообщил, что неизвестные люди, именуемые артанцами, похищают из госпиталей тяжелораненых, и генерал Церпицкий, имеющий на этот счет особое указание генерала Кондратенко, никак не препятствует этому действию. А главное ведь вот в чем: артанские коренастые девки-санитарки не тащат носилки со страдальцами из здания, укладывая в повозки, чтобы перевезти их в какое-то другое место – нет, они просто таскают в дыру, открывшуюся прямо посреди госпитально коридора! А с той стороны дыры, мол, находится Тридевятое государство, Тридесятое царство, вотчина артанского князя Серегина, где из земли бьет фонтан живой воды, а воздух благоухает миррой и ладаном, как в храме.
Вот тут генерал Стессель не утерпел – он приказал закладывать экипаж и для пущей солидности вызывать к штабу конвой из казаков. Во-первых – в нем взыграло ретивое: захотелось поставить всех на место, предотвратить самоуправство, сказать, что он тут – главный начальник, а всех, кого уже успели утащить, вернуть обратно, ибо он ничего подобного не дозволял. А то что-то в последнее время события понеслись кувырком, совершенно не принимая в расчет существования коменданта Квантунского укрепленного района. Во-вторых – генерала разобрало любопытство, а что же такое на самом деле «Великая Артания» и ее якобы самовластный монарх. А то ведь если написать в своем верноподданическом донесении какую-нибудь глупость, а другие люди представят это государю совершенно по-иному – то все, карьера кончена, останется только плакать по безнадежно разбитому корыту…
Впрочем, сборы на выезд генерала – дело небыстрое, и пока это случится, во внешнем мире произойдет еще немало событий…
05 декабря (22 ноября) 1904 год Р.Х., день первый, 19:05. Порт-Артур, казармы пятого восточно-сибирского полка.