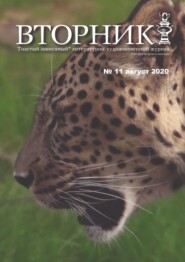скачать книгу бесплатно
– Дык а я… это… звонка не слышно было…
А сын проходит в комнату, осматривается и всё кутается в свой плед:
– Как же не слышно? Я на звонок жму и жму, а ты…
Юрий Кириллович шагнул на лестничную площадку, нажал кнопку звонка – ни звука. И ещё, и ещё раз нажал. Молчит звонок. Юрий Кириллович встал в проёме раскрытой двери:
– Сынок, так ведь звонок-то не работает…
А Кирилл смотрит на него с такой болью, с таким укором:
– То-то и оно, батя… А только надо во все колокола звонить… Чтоб проснулись…
И Юрий Кириллович проснулся.
Вот вспомнил в магазине этот сон – и спина похолодела. И ведь так ясно лицо сына видел. Вот только был-то он на грешной земле стройным, улыбчивым, жизни открытым, а тут весь съёжился, мрачный, таинственный какой-то. Что это, почему так? Надо на могилку съездить…
С тяжёлыми мыслями выбирался Юрий Кириллович из шумного, блещущего витринами магазина. Стариком себя почувствовал. Немощным и одиноким. Стоп! А жена? А дочь? Ну что, они сами по себе, у них свои интересы. Шепчутся, секретничают, им друг с дружкой любо-весело. А коль спросит вдруг Юрий Кириллович:
– Доця, как дела-делишки? Проблемы?..
Она только плечиком поведёт:
– Да нормально всё.
– Опять «нормально». Всегда только «нормально». Других слов для отца не найдёшь?
– Ой, пап, не комплексуй! Всё у меня по жизни прикольно. Не волнуйся, если чё не то вдруг, не дай бог, случится, ты первый узнаешь…
– Поздно, поди, будет?
– Не волнуйся, не опоздаешь. А так, зачем тебе в мелочах копаться? Не твой масштаб.
А если удавалось затащить её в мастерскую, работу новую показать или эскиз какой, – у неё на это одно словцо:
– Прикольно…
А ещё говорят, что дочки с отцами близки. Может, в какой семье и так, но у него – увы! Ах, как он радовался первенцу. Пацан! Мужик! Воин! Друг! Единомышленник! Защитник! Будет в ком повториться…
Юрий Кириллович поскользнулся на ступеньке и сковырнулся бы прямо на площадку перед тяжёлой стеклянной входной дверью в супермаркет. На счастье, женская чуткая рука подхватила его под локоть:
– Вам плохо?
– Нет-нет, спасибо! Просто оступился. Вы очень внимательны, благодарю вас!
Милая молодая женщина улыбнулась и застучала острыми каблучками по ступенькам к выходу. Толкнул и он высокую прозрачную дверь.
Побрёл по расплавленной, окутанной знойным маревом Москве. Сизый удушливый воздух повис в безжизненной неподвижности над раскалённым асфальтом. Сонно продвигающиеся в пробках автомобили продолжали его отравлять, а те, что густо стояли по обочинам и во дворах, нагрелись так, что работали уже в режиме разноцветных печек-буржуек, добавляя городу нездоровый жар.
Юрий Кириллович понуро плёлся по размягченному полуденному тротуару. Состояние было скверное. Оно, собственно, и нечему радоваться. Перед походами по магазинам он ранним утром ещё побывал на приёме у весёлого и бесполезного чиновника Минкульта, который обещал помочь с новой мастерской. То, что эти обещания пустые, Юрий Кириллович интуитивно просёк, как только за ним закрылась дверь кабинета, и к ней двинулся, грузно поднявшись с диванчика приёмной, очередной посетитель. И как же чиновнику не раздавать всем обещания, когда он только занял такой синекурный кабинет. Надо всем улыбаться и обещать, а вот выполнять – совсем другое дело. Для этого надо задницу из кресла поднимать, куда-то по инстанциям звонить, идти, настаивать, а всякие телодвижения опасны: другой обещатель изловчится и займёт твоё кресло. Так что, как говорится, попал в тёплое место – сиди и не чирикай. Учтивое равнодушие – вот профессиональная черта. В министерстве подвижники не нужны – там нужны неподвижники. От министра до гардеробщицы. На этом оно и угнездилось в своём переулке Гнездниковском, стояло и, увы, так стоять будет.
Прогнать от себя все эти горькие, одна на другую наслаивающиеся мысли Юрию Кирилловичу помогло то, что он, неспешно продвигаясь по тротуару, глядел себе под ноги и удивлялся, как это женщины, оставляя вмятинки от своих шпилек, не теряют туфельки. Конечно, это пекло ещё не превратило асфальт в вязкое болото. Однако почти довело до консистенции упругой податливости, и Юрию Кирилловичу пришла вдруг идея слепить женщину, увязшую в московском асфальте: тонкие высокие каблучки провалились, расплавившееся платьице стекает по ней, словно пот, и вся её изящная обнажённая фигурка извивается в безнадёжном желании воспарить. Этакая влипшая московская муха-цокотуха…
Его легко толкнули. Юрий Кириллович вздёрнул подбородок.
– Простите, – смущённо улыбнулся Аполлон.
«Точно – Аполлон!» – озарило скульптора. Только в трусах. Точнее, в коротеньких шортах.
В той изнурённой жарой столице часто можно было встретить молодых людей с обнажённым торсом. Стянет потную футболку, затолкает её в сумку и шагает, демонстрируя свою мускулатуру. Свободен как античный бог. Но москвичи постарше вообще-то возмущались: ладно по улицам так болтаются, так ведь в магазины, в метро в таком виде лезут. Может, скоро в набедренных повязках будем ходить, куда это, интересно, катится цивилизация? Вот что революции-то творят: форменное бесстыдство, аморальный дурман какой-то. Это ж в двадцатые-то годы прошлого века парни и девицы, да и кто постарше, по городам расейским и аж в самой Москве нагишом дефилировали, и на красной через плечо ленте белыми буквами: «Долой стыд! Одежда – личина буржуазной порочности и распутства! Обнажённое тело – чистота, непорочность и искренность». Во как! Вот и в начале двадцать первого века облучённая постперестроечным заревом молодёжь под эти знамёна устремилась. Срам один со всеми этими стрип-барами и телешоу с раздеванием. Впрочем, художника подобные рассусоливания обывателей могут только раздражать, особенно в период поиска подходящей натуры…
Полуобнажённый юноша, получив кивок на своё извинение, двинулся дальше, а Юрий Кириллович развернулся и устремился за ним, словно охотник за добычей:
– Молодой человек, простите! На минутку можно вас задержать?
– А что вам?.. – оглянувшись, спросил парень насторожённо.
Он чуть замедлил шаг, но не остановился, и Юрий Кириллович, догнав его, засеменил рядом.
– У меня интересное предложение.
– Какое ещё предложение?
– Творческое.
– Творческое?.. – парень усмехнулся. – Надо же, прямо в душу заглянули.
– В душу?.. – как-то нелепо усмехнулся Юрий Кириллович, неожиданно чувствуя смущение и с трудом подыскивая для объяснения нужные слова. – В данном случае меня интересует ваше тело… Да постойте же! Такие вопросы на бегу не решаются…
Пытаясь придержать юношу, он едва коснулся его руки. Тот резко отдёрнул плечо, остановился.
– Что ещё за вопросы?! И вообще… Чего вы привязались?! Я не из этих… ваших… московских…
– Постойте, каких ещё ваших?!
– Да таких! Тело его моё интересует… А не пошли бы вы?!. Я не из этих…
– Да постойте же! Каких, этих-то?
– Да таких, фиолетовых!
– Молодой человек! Успокойтесь! Не знаю я никаких фиолетовых. Я художник, скульптор. Смотрите, вот вам моя визитка…
Парень наконец остановился, взглянул на визитку:
– Это сейчас каждый может напечатать.
– Ну хорошо! Сейчас, сейчас, – Юрий Кириллович стал суетливо шарить в своей кожаной сумке. – Где-то тут удостоверение Союза художников. Вот ведь, ёлки зелёные, когда надо и не найдёшь сразу. Похоже, я его в пиджаке оставил.
От волнения у Юрия Кирилловича, несмотря на полуденное пекло, выступил холодный пот на спине.
– Ну допустим, – снисходительно усмехнулся парень. – А я-то вам зачем?
– Всё объясню, – Юрий Кириллович выставил перед его мощными грудными плитами свою ладонь с серебряной печаткой на мизинце, увенчанной крупным чёрным ониксом. – Вас как зовут?
Парень взглянул на перстень и чуть скривил губы:
– Ну допустим, Кирилл.
У Юрия Кирилловича вдруг опять пробежал холодок по спине.
– Удивительно, – выдохнул он.
– Что тут удивительного?
– Нет-нет, ничего. Простите! Всё нормально. Меня зовут Юрий Кириллович. Возьмите визитку. Да не бойтесь, она не заразная. И я вам, ей-богу, зла не причиню. Конечно, вам, нормальному человеку, моя навязчивость может показаться странной…
– С чего вы взяли? Может быть, я тоже ненормальный.
– В смысле? – поднял брови Юрий Кириллович.
– В смысле творческих метаний, – улыбнулся Кирилл. – Может быть, я тоже в творческом поиске нахожусь.
– То есть?
– Да ну, долго рассказывать.
– А вы спешите? Давайте присядем ненадолго. Смотрите, какие уютные столики. Поверьте, у меня очень интересное для вас предложение. Творческое. Скажем так, дело для вас почти актёрское.
– Актёрское? – не скрыл заинтересованности Кирилл. – Надо же…
– Пойдёмте, – коснулся его плеча Юрий Кириллович.
Кирилл натянул футболку, и они направились к летнему кафе с выставленными на тротуар столиками, огороженными ящиками с белыми и ярко-лиловыми петуньями.
Оказалось, что Кирилл приехал в Москву в четырнадцатом году из Горловки Донецкой области. Было ему тогда тринадцать. Как он выразился, тётушка-москвичка упаковала его и вывезла как беженца.
– Укропы нашу высотку на окраине расстреляли из града, – бесстрастно рассказывал Кирилл, прихлёбывая из чашки капучино. – Я в музыкалке был, подхожу к дому, а вместо нашего балкона дырища чёрная. Всех – папку, маму, Оксанку-сестрёнку. Всех враз. Ксанке только семь исполнилось. В школу должна была пойти. Это ж июль был. Уже и платье купили. Я ей ранец выбирал. Смешной такой нашёл. С мордочкой ёжика и пупырышки как иголки. Ну правда, будто ёжик на плечах. Она даже кукол забросила, всё с этим ёжиком носилась, – он допил кофе, глянул в глаза Юрию Кирилловичу и опустил голову, поставил чашку на блюдце. – Нет больше ёжика.
Кирилл замолчал. Юрий Кириллович поднёс к губам полную чашку, при этом чуть не выпусти её из слабо сжимающих ручку пальцев, глотнул свой остывший кофе:
– У меня был сын. Тоже Кирилл. Тебя постарше. Ему двадцать было…
– Почему был?
– А его убили.
– На войне?
– Нет. Это давно было. Тогда войны не было. Просто… Убили на одной московской вечеринке. Вышли пьяненькие парни из-за стола на лестничную площадку, закурили, поспорили из-за смазливой девчонки, побежал один на кухню, нож схватил… – Юрий Кириллович вдруг замолчал, будто поперхнулся, откашлялся, отвёл в сторону взгляд, потом с трудом набрал полную грудь воздуха и выдохнул: – Ох, господи, страшно…
Помолчали. Отхлебнули кофе, почти синхронно, звякнув, поставили на блюдца чашки. Кирилл криво усмехнулся и сказал:
– У меня пострашнее будет.
Юрий Кириллович вопросительно поднял брови.
– У нас дом-то обычный был. Советский. Девятиэтажка панельная на отшибе Горловки. Мы на самой верхотуре жили. Весной, когда снег над нами на этой прогнившей рубероидной крыше таял, у нас в углах, на стыках бетонных плит, подтёки. Сыро, холодно…
– Да уж, – сокрушённо покачал головой Юрий Кириллович, – строили времянки-развалюхи. Быстро, скоро, плохо…
– Ну, это понятно, – согласился Кирилл. – Но я не про то. Когда отцу как шахтёру-передовику эту трёхкомнатную на девятом этаже дали, мы, знаете, как радовались?! Мы в этой квартире, знаете, как жили?! Короче, дружно жили. Мамка с папкой, знаете, как друг дуга любили?! От этого и в доме тепло было.
– Ясное дело, – улыбнулся Юрий Кириллович, – как говорится, пляши от печки…
– Только, вот не пойму почему, мне всегда казалось, что скоро это житьё наше тёплое закончится, рухнет враз. Вот зимой рано же темнеет… Иду вечером с тренировки или из музыкалки, гляжу – окно наше на кухне светится: мама ужин готовит, ждёт. А у меня прямо как-то сердце защемит: так и вижу – это окно навсегда погасло. Так оно и случилось… Я бежал как сумасшедший, ничего перед собой не видел, только эту огромную чёрную дырищу. У нас дом к закатному солнцу был повёрнут. В конце дня всегда наша сторона таким тёплым светом залита. А это ж июль был, двадцать седьмое июля. Вот на этой солнечной стороне дырища чёрная вместо наших окон…
Кирилл замолчал, уставился на свою опустевшую после кофе чашку. Потом взял её двумя пальцами за ручку, перевернул кверху дном и поставил на блюдце.
– Веришь? – спросил Юрий Кириллович.
– Да ни во что я уже не верю… – отмахнулся Кирилл
– Погоди, всё ещё у тебя будет, – попытался его успокоить Юрий Кириллович, но сам почувствовал, как дежурно прозвучала эта фраза.
И показалось ему, Кирилл ответил как-то зло:
– Ничего уже не будет. Я после того двадцать седьмого июля лет на сто постарел.
Помолчали. Юрий Кириллович уже и боялся что-то сказать только для поддержки разговора. Вот брякни сейчас что-нибудь невпопад – а что, собственно, тут скажешь, чтобы впопад было, – парень поднимется и уйдёт, и растворится в толпе, так же как появился из неё…
Когда Кирилл поднял голову и снова заговорил, Юрий Кириллович своим острым взглядом художника тут же уловил, как заблестели его глаза от глубоко упрятанных слёз.
– Кто-то меня пытался остановить, когда я по лестнице на наш девятый летел, за скрипку ухватил, так она у него в руках и осталась… Всё было чёрное, будто я внутри какой-то прогоревшей печки оказался. И так противно пахло, такой гарью, что ли, меня аж затошнило. В первую минуту подумал, что это не то, не наш дом, где мы так жили. Вдруг увидел… Мне показалось, это кукла… Без головы… Это была не кукла. Это Ксанка была, сестрёнка моя, – Кирилл как-то странно улыбнулся, если этот оскал можно было назвать улыбкой. – Представляете, единственное, что в этой чёрной дымящейся дыре на нашем девятом этаже уцелело, так это Ксанкина любимая кукла. Только платьице обгорело. Мама его на Новый год для этой куклы сшила.
Он опять замолчал. Смотрел куда-то далеко, мимо Юрия Кирилловича, будто вообще забыл про него. Пауза затянулась, и художник почувствовал себя как-то неловко, каким-то лишним, не умеющим ни утешить парня, ни даже просто возобновить разговор. Наконец нашёлся:
– Кирилл, у тебя мама была портниха?
– Почему портниха? – удивился юноша, взглянув на Юрия Кирилловича отсутствующим взглядом своих больших синих, в тёмной ресничной опушке, глаз.
– Ну… вот… платье кукле сшила… – улыбнулся Юрий Кириллович и подумал: вот ресницы-то длиннющие у парня, любая девушка позавидовала бы – они такие клеят; слышал, кто-то из наших сейчас шекспировские иллюстрации делает – вот тебе Ромео.
– А-а, да нет, – усмехнулся в ответ Кирилл, возвращаясь в мыслях из своего горького далека. – Она учительница была. Учительница русского языка и литературы, – он ухватил перевёрнутую свою чашку за самое дно и стал вращать её на блюдце. Будто заводил какой-то механизм. – Она в старших классах вела, у нас стол посреди большой комнаты вечно стопками школьных тетрадок был уставлен. Она сочинения проверяет и каждому после отметки несколько слов напишет, поэтому долго у неё всё получалось. Отец возьмёт со стола какую-нибудь тетрадку, раскроет, прочитает какое-нибудь предложение, потрясёт вот так вот над столом этой тетрадкой: «Ну что ты, – говорит, – с каждым так возишься? Ну тут белиберда какая-то! „Пугачёв сказал Гринёву: я твой господин, целуй моя пятка. А Гринёв гордо отвечает: нет, ты не мой господин, не буду целовать твоя пятка“. Татарин какой-то! Ставь баранку и точка, и дальше пошла». А мама: «Олег, ты не прав, в том-то и дело, что он татарин, этот мальчик, ему же объяснить надо, иначе как в нём поддержать его желание учиться, читать, писать, грамотно изъясняться». Знаете, как её ученики любили. Когда она из школы ушла, пять классов пришли к нам домой уговаривать её вернуться. Два десятых, два девятых и один восьмой. Весь двор заполнили, а к нам на этаж от каждого класса по три человека поднялись.
– Надо же, – покачал головой Юрий Кириллович. – А почему она ушла-то?
– А директором школы одного молодого чудака поставили. Бандеровца. Он часы русской литературы и языка сократил. Из библиотеки школьной связками книги Шолохова, Фадеева, Горького, ну и другие выносили и куда-то увозили. Мама директора спрашивает: «Это на костёр что ли?» А он: «Цэ зараз для нас зарубижна литэратура, вона нам вже так нэ потрибна». Мама пыталась сначала воевать, но потом поняла, что у него наверху поддержка, и ушла. Точнее, это он ей предложил по собственному желанию, всё равно мы, говорит, с вами не сработаемся. Вы, говорит, иностранка, и преподавали иностранную литературу. Она нам, говорит, теперь не нужна, мы будем свою развивать и учить Франко, Котляревского, Лесю Украинку и незабвенного Тараса Григорьевича.