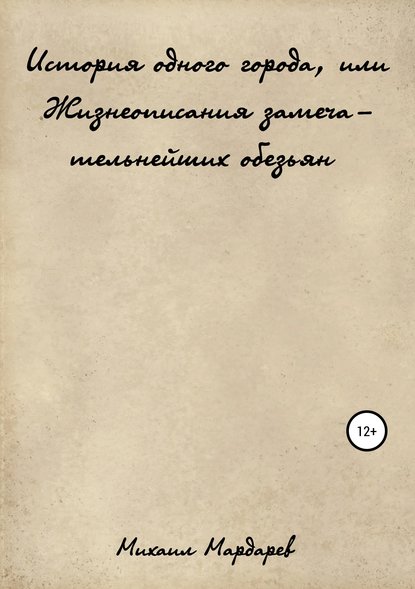 Полная версия
Полная версияИстория одного города, или Жизнеописания замечательнейших обезьян

Жизнеописания замечательнейших обезьян.
Сочинил градоначальник города Глупова, Семён Константинович Двоекуров.
Будучи градоначальником и человеком образованным, считаю непозволительным умаление роли обезьян, известных как замечательнейшие, в истории Глупова полным их игнорированием. За сим представляю жизнеописания трёх этих славных животных, живших в период с 1764 года по год 1768 с перерывами.
В начале сентября (точный день, к несчастью, забыт) указанного ранее 1764 года через Глупов проходил так называемый бродячий цирк. Выступление его нужным никто не счёл, но вот их обезьянки особливо понравились лично мне. Я выменял одну ещё маленькую у заведующего сим балаганом в обмен на шесть таких же, только нарисованных. Целью предприятия, несомненно, являлось просвещение обывателей. Цирк уехал, а Фемистокл, то бишь обезьяна, остался. На главной площади были собраны глуповцы, чтобы познакомиться с братом нашим меньшим. Услыхав такое его определение, однако, один из обывателей решил, что Фемистокл не кто иной, как младший и необыкновенно волосатый брат его градоначальника, то бишь мой, за что тут же был отправлен в съезжий дом и выпорот. Уже сознав, что перед ними животное, глуповцы всё же робели и не знали, как к нему подступиться, так как животное это им неведомо. Фемистокл потянулся к людям, но те, вздыхая, попятились. Тогда Фемистокл потянулся снова, но в ответ ему мужик из толпы гаркнул и топнул ногой. Будучи, видимо, из знатного рода, обезьяна не собиралась терпеть такого по отношению к ней бесчестия и набросилась на зачинщика. После она кинулась на одних, после на других, после на третьих, а после и вовсе изволила бежать по городу. Исключая тот факт, что описываемое событие происходило вечером, ловили беглянку до самого вечера. С тех пор Фемистокл сидел в железнопрутовой клетке, хоть и немало просторной, да и все обезьяны потом в оной клетке сидели. Приказано было расположить её там же, на главной площади, а когда дождь поливать станет, накрыть чем-нибудь дожденепроницаемым.
Первые дни глуповцы с опаской поглядывали на новое, порой подходили, но сметь не смели обиде предавать, потому что стояли при Фемистокле трое лишних квартальных, а иногда и сам градоначальник, то бишь я. Много времени не прошло, как обыватели свыклись с обезьяной и перестали её бояться, поэтому по приходе зимы ему сразу же устроили полушубок согласно размерам и деревянный навес, и провели прочие утеплительные мероприятия.
Когда с обоснования Фемистокла в Глупове прошло двенадцать месяцев (то был год 1765, начало сентября, точный день так и остаётся забытым), в городе готовились к празднику сего радостного дня. Стояли лютые морозы, для сентября необыкновенные, так что улицы покрыты были снегом. В ночь перед пиршеством один особливо занимавшийся приготовлениями, от них же, да и для согрева, попьяневший, Прокофий, являвшийся пекарем с недавно вымощенной улицы Большой, своим заплетавшимся языком внушил ещё неокрепшей умом, но подросшей телом обезьяне крамольные мысли, после выпустил славное животное, охранявшееся, как в ходе дальнейшего следствия выяснилось, до усыпления напившимися квартальными. Фемистокл не заставил себя долго ждать, поднял всех глуповцев с кроватей, кроме, разумеется, меня, не забыв к довершение поднять и само восстание. Ранним утром разбуженный непривычным гулом, я вышел на улицу и увидел следующее: с какой-то фуражкой на голове Фемистокл, взобравшись на колокольню, сжимая в поднятой к небу руке стрелецкое ружьё, уже не просто крякал-брякал, как обыкновенно общаются обезьяны, а именно выкрикивал свои бунтовские лозунги, а перед ним собрался весь город и воодушевлённо его поддерживал. Завидев своего градоначальника, восставшие бросились высказывать протест, разрушая каждый свой собственный дом. Некоторые, по-видимому, домов не имевшие, подхватили меня и понесли на руках по всей толпе с целью, до сих пор никому неизвестною. Нельзя не отметить храбрость и верность нескольких оставшихся со мной солдат, после достойно награждённых, ведь именно они, оставаясь незамеченными в сей суматохе, пробрались на колокольню и схватили крамольного примата, и тогда, лишившись предводителя, толпа прекратила свои бесчинства. Бунт был подавлен.
Фемистокла я потом лично допрашивал с пристрастием, и тот выдал Прокофия. Однако двух зачинщиков было мало, посему мы принялись допрашивать с пристрастием и Прокофия. Вышли на трёх квартальных, о которых я опрометчиво забыл, после ещё на других и ещё на других. Главенствующей фигурой, однако, всё равно был Фемистокл. Я спрашивал, признаёт ли он меня за градоначальника, но оный лишь отрицательно крякал-брякал по-свойски. Стали пороть, но, трясясь и вопя, смутьян так же стоял на своём. Начали палить, а Фемистокл, выплясывая под пулями, так и противился. Тогда было решено запалить обезьяну, пока не помре.
После того, как Фемистокл приказал долго жить, я в сию же минуту приступил к письму заведующему цирком, и уж не более, чем через месяц, обезьяна прибыла в город. Она оказалась столь же маленькая, сколь и прошлая.
Придя к выводу, что источником поразительной сообразительности Фемистокла являлось его умное имя, новоприбывшего славного животного я назвал Ивашкой. Ивашку, по так точно и не определённой причине, сразу же невзлюбили. То ли от того, что недавно обезьяна зачинила бунт (однако сие преждевременно исключено, так как глуповцы не супротив воли шли, да и вообще до бунтов охотливы), то ли от того, что позабыли совсем об этих братьях наших меньших (что также исключено, так как даже самые беспамятные обыватели и то поговаривали о почившем примате), то ли от того, что нынешнее имя мохнатого жителя им показалось чересчур простым (сей же версии я и держусь, однако считаю, что истинная причина кроется в каком-то ином предмете, который, при всех стараниях, я так и не сумел отыскать).
Посаженный в клетку предшественника, Ивашка подвергался осуждениям по сему поводу, мол, оскверняет жилище прежнего обитателя, однако далее нападок, в словесном виде выражаемых, обыватели пока не заходили. Объяснялось сие великодушие тем, что нынче зима в Глупове: люди нарочито ходили мимо Ивашки и говорили, мол, живи, убогий, мёрзни, и, мол, покуда холодно, хватит с тебя; а потом плевали или пускали пыль в глаза. Слова эти и действия, прошу заметить, я нахожу лишёнными всякой справедливости, однако, к моему удивлению, не смею и осуждать их.
С оттаянием снега, как и обещали, положение Ивашки ухудшилось. Рос он медленнее, нежели Фемистокл, за что его обзывали, кидали в него землёй, и это был далеко не единственный предлог. Чем более проходило дней, тем менее обыватели считали нужным эти предлоги вообще находить. К окончательным числам марта месяца глуповцы и вовсе изволили не оправдывать летящие в обезьяну проклятия, палки да и камни.
В один день, это было третье апреля, клетку обступила толпа. Вновь собрался весь город, стар, млад, как и в прошлый случай, только теперь не за обезьяну, а против оной. Как градоначальник, я вышел к разъярённой толпе вместе с солдатами, встал препятствием между людьми и клеткой, но какой-либо эффект возымели лишь выстрелы ружей в небо да над головами кричащих. Обыватели разошлись, когда я прочёл им нравоучительную лекцию и пригрозил различными наказаниями. Однако сии слова почему-то дались мне с трудом, а, уходя, я презрительно-жёстко глянул на Ивашку, бледного от испуга. То был полдень. Описываемое мною далее событие имело место ночью, около двух часов согласно глуповскому времени.
Я, градоначальник, пребывал состоянии глубокого бессонния, ибо с улицы снова доносились преисполненные недовольством и злобой крики. По числу голосов, доносившихся снаружи окна, безошибочно можно было установить, если слышащий их умел считать, что людей, голоса издающих, наличествовало ровно столько же, сколько и днём, то бишь целый город. В этот момент в спальне появился один из охранявших градоначальничий дом солдат и, не говоря ни слова, но всем видом выражая свой вопрос, удалился вместе с другими солдатами, чтобы присоединиться к бунтующим обывателям, когда я, так же молча, согласно кивнул. Оставшийся без защиты дом проблемы не составлял, ведь все сейчас, честные и нет, были заняты на улице, и до моего дома им дела было ровно никакого. Далее с новой силой раздались крики и вопли, выстрелы, грохоты и прочие звуки, которые в ту минуту возможно было услышать и от которых я надеялся найти укрытие под одеялом. К слову сказать, заснуть я сумел лишь по окончании творившегося снаружи действа.
Наутро, не глядя в окно, вышел на улицу и не застал там ни души, так как все отсыпались после «бурной ночки». Описывать же всё, что предстало моему взору, излишне, ибо очевидно, либо, в крайнем случае, догадливо, однако в подробных разъяснениях явно не нуждается. Изучив «поле боя», я сумел восстановить картину произошедшего, сопоставив увиденное в ту минуту с услышанным ночью.
Когда мои солдаты присоединились к толпе, обезьянке уже пустили кровь, а клетка имела внутри, помимо животного, всяческие различные предметы, в ней находиться по обыкновению не должные. Солдаты начали палить, однако лишь слегка ранили Ивашку да так же ранили его жилище, которое, на радость, ничем истекать не изволило. После клетку предали разрушению (об навесе уже и речи не шло) и железными прутьями, её составляющими, принялись «гладить мартышку», как выразился кто-то ночью. Каковым являлось следующее действие народа, принёсшее смерть животному, мною так и не было точно установлено. Помню только надрывной и протяжный крик ночью, который вдруг резко, неожиданно прекратился, и после которого я, с облегчением вздохнув, изволил видеть сон.
Возможно, некоторые особливые оптимисты спросят, осталось ли животное невредимым и целым. И я отвечу, что я обнаружил поседевшего Ивашку не только вредимым, но и не целым.
На следующий день никаких следов инцидента не осталось, и я, градоначальник Глупова, вновь сел за письмо заведующему цирка. Третья обезьяна поселилась в нашем городе лишь через долгих два с половиной месяца, то бишь летом, в июне. На сей раз я поступил разумнее, нежели в прошлый и позапрошлый, и решил назвать новое славное животное ни слишком умным, ни слишком простым, а средним именем. Выбор пал на Илариона. Сей примат, надо сказать, был уже достаточно взрослым, чем, нельзя не заметить, радикально различался от прошлых его сородичей, выше описанных. Ростом он был почти по пояс для человека, чем поразил глуповцев, которые и знать не знали о том, что таковые большие обезьяны бывают. Клетку для Илариона соорудили вновь и точно такую же, с теми же атрибутами комфорта, что имели его предшественники. Первые дни новоприбывший тосковал по цирковым, ведь жил у них с рождения своего. Сие слёзопроливание растянулось даже на два месяца. В обозначенный период славное животное особливо окружалось лаской и заботой со стороны обывателей. Глуповцы Илариона приняли радушнее остальных и проводили с ним больше всего времени, а когда тот свыкся окончательно с новым местом проживания и не менее славными, чем он сам, горожанами, то и вовсе начал восприниматься всеми как человек. Мохнатый житель имел возможность находиться вне клетки когда ему вздумается, носил камзол и вообще был весьма манерным молодым приматом. Также он читал книги, чем, к слову сказать, брезговали некоторые глуповцы, посему считался самой образованной обезьяной за всю историю Глупова (всего же в общем обезьян, как известно, в Глупове водилось три).
Как-то раз славный мохнатый житель, нельзя об этом не упомянуть, вошёл в спор на тему того, что появилось раньше, Аристотель или его труды, с проезжим через город то ли географом, то ли лингвистом, в, возможно, и экономистом. Сидели они друг перед другом три часа, потом дискутировать начали, и тут их уже остановить нельзя было. Закончилось сие тем, что то ли географ, то ли лингвист, а, возможно, и экономист от голода помер, в то время как Иларион, будучи всё же сначала обезьяной, а лишь потом человеком, питался своими блохами да блохами оппонента.
А однажды он ни с того ни с сего научился писать. Тогда я как раз проходил рядом и застал сей знаменательный момент. Примат писал палкой по земле и первым его трудом явилось завещание. Неясно было, по какой причине именно сие вышло из-под палки его, однако, лишь кончив своё дело, Иларион добродушно улыбнулся всем и сам кончил. Случилось это осьмнадцатого августа 1768 года, и похоронили мохнатого жителя согласно завещанию, рядом с бывшим оппонентом, чтобы наконец окончить спор.
Таковы мои, Семёна Константиновича Двоекурова, градоначальника Глупова, жизнеописания замечательнейших обезьян: Фемистокла, Ивашки и Илариона – которые тем замечательнейши, что народ глуповский по пути просвещения вели.
1769.

