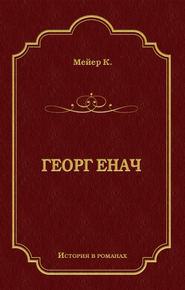скачать книгу бесплатно
Свистящий ветер внезапно развеял воскресшие перед Вазером воспоминания детства. Он опять стал старше на пять лет и широкими шагами шел вниз одинокой горной тропинкой. Действительность бесцеремонно вернула его в свои пределы. Порывом ветра из Энгадинского ущелья сорвало шляпу с его головы, и он едва успел подхватить ее отчаянным прыжком, прежде чем другой порыв ветра снес ее в бездну пенившейся пучины…
III
Вазер глубоко нахлобучил шляпу на голову, стянул свой ранец плотней и, сокращая далекие извивы горной тропы, стал спускаться прыжками по крутым уступам. Он перебрался через обожженные молниями, черные причудливые сплетения корней кедров, через каменистые русла высохших ручьев, вышел на мягкий луг и вдруг увидел у своих ног бархатно-зеленый Энгадин со сверкающим Инном в драгоценной оправе горных озер. Последний луч, пробившийся сквозь тучи, радугой заиграл на озерах и лугах Сен-Моритца…
Прямо перед собою увидел он темную голую пирамиду скал и подле нее, немного выше, горную цепь, усеянную ледниками, отливавшими зеленым светом. За высоким хребтом, который она замыкала, клубились грозовые тучи, гулко катились громы и темнели просветы между выступами гор, в которые время от времени еще виднелась далекая снежная вершина.
По правую от дороги сторону горы, поднимавшиеся вдоль другой долины, закрывали крутой спуск, почти внезапно переносивший из вольного горного воздуха в итальянский зной. Там, за Малойей, испарения, гонимые южным ветром, клубились туманом над влажными лугами Базельджия Мария, с белыми башнями, смутно просвечивавшими сквозь дождливую мглу…
Тропинка привела Вазера к первой энгадинской деревне, состоявшей из одной улицы внушительных домов со своими контрфорсами и золочеными слуховыми окошками, напоминавших небольшие крепости. Но молодой человек ни в одну из тяжелых дверей не постучал, а бодрыми шагами продолжил свой путь к югу вдоль озер. Он решил переночевать в странноприимном доме в Малойе и оттуда на следующий день рано утром отправиться через ущелье Муретто в Вальтеллину, потому что – Помпеус Планта не ошибся! – жаждал, и теперь сильнее, чем когда бы то ни было, повидать своего школьного товарища Енача…
Рано наступила ночь, и посвежело среди высоких гор. Дорога бесконечно тянулась берегом вдоль плескавшихся волн. Холодная, прозрачная дождливая мгла окутала даль и просачивалась в одежду одинокого пешехода. Сонливость, которой он ни разу не ощущал за весь этот знойный день, сковывала его мысли и движения. В одном месте, где Инн пронесся перед ним быстрыми волнами по узкому руслу, а на другом берегу всплыла плоская башня неуклюжей церковки, ему послышался конский топот. По каменному мостику промчался всадник и вскоре исчез в темноте по направлению к Малойе. Неужели этот закутанный в плащ всадник – Помпеус Планта? Наверное, это был не Планта, а какой-нибудь скромный запоздалый путешественник. Планта вез свою дочь и, вероятно, остановился на ночлег у кого-нибудь из своих знатных родственников в одной из лучших усадеб Энгадина.
Наконец и последнее озеро, и последняя скала остались позади. Огонь, светивший во мгле, и собачий лай говорили о близости человеческого жилья, которое могло быть только заезжим домом. Подходя к неясной каменной массе, Вазер с удовольствием заметил, что ворота еще раскрыты, и увидел хозяина, худощавого костистого итальянца, надевавшего цепи на яростно метавшихся псов. Молодой работник светил ему смоляным факелом.
Картина эта сулила радушный прием. Хозяин схватился за факел и поднес его к самому лицу прибывшего.
– Что угодно, господин? Чем могу вам служить? – спросил он и, как будто неприятно чем-то удивленный, подавил едва не вырвавшееся у него ругательное слово…
– Что за вопрос! – весело ответил Вазер. – Местечко у огня, обсушиться, ужин и ночлег!..
– К сожалению, господин, это никак невозможно, – подкрепляя свое сожаление и свою непоколебимость чрезвычайно выразительными жестами, заявил тот. – Все занято…
– Как занято? Вы, значит, ждете еще гостей? Не откажете же вы в приюте путешественнику в этой пустыне и в такую холодную, дождливую ночь?
Итальянец вытянул руку и указал ею по направлению к югу, где туман уже редел, а на той части неба, за Малойей, над неровными выступами зубчатых гор пробивалась уже луна…
– Там погода разгуливается, – сказал он и, войдя в дом, вынес кубок с вином. – Подкрепитесь и лучше всего вернитесь в Базельджия… Желаю вам покойной ночи…
Вино горело в стакане при свете факела, как огненный рубин. Вазер жадно схватил кубок с игравшей влагой и без церемоний осушил его до дна. Хозяин, отказавшись от платы, вежливо подталкивал его к воротам и, выпроводив, задвинул за ним засов.
Молодой человек не хотел, однако, считать дело свое проигранным. Вместо того чтобы проделать вновь пройденный длинный путь, он взошел на недалекий от дома холм, стоявший, будто страж, над начинавшейся в этом месте долиной Брегалья, представлявшей собою теперь котловину, полную хаотических клубов тумана. Из белой мглы выступали освещенные месяцем верхушки елей. Вазер растянул на земле свой плащ, присел и стал прислушиваться.
Стояла глубокая тишина; лишь из конюшни при гостинице время от времени доносилось ржание лошади. Едва слышен был приглушенный туманом шум ручья на дне глубокой долины. Издали приплыл вдруг тихий, четкий звук, легкий звон, тотчас погас и, спустя несколько мгновений, отчетливее пронесся в воздухе. Затем опять растаял и тотчас всплыл опять и стал приближаться громче, громче, словно поднимался в гору крутыми извивами тропинки. Вазер долго, как во сне, вслушивался в эти непривычные его уху горные звуки. И наконец он услышал человеческие голоса. Очевидно, это были всадники или погонщики, и Вазер решил, что они-то и были гостями, которых поджидал хозяин.
Он растянулся на своем плаще, чтобы проезжие не заметили его. Ему хотелось знать, ради кого ему отказали в ночлеге.
Прошло несколько долгих минут. Из долины выехали два всадника, очевидно, господин и его слуга, соскочили с коней и громко ударили в ворота, которые тотчас распахнулись перед ними. Хозяин из гостиницы услужливо выбежал им навстречу и ввел их во все еще освещенный дом…
Вазера одолевали досада и любопытство. Он вскочил на ноги и подкрался к таинственной крепости. Он вспомнил об огне, который заметил, когда подходил к дому: огонь светил не со стороны двора. И действительно, обойдя дом кругом, он увидел в задней стене единственное окно с тяжелой железной решеткой, за которым ярко пылал огонь. Он взобрался на полуобвалившийся козий хлев, пристроенный к стене дома, и ему удалось заглянуть в глубь дымной комнаты.
У печи стояла старая женщина с благообразным, честным лицом и держала ручку железной сковороды, в которой жарились горные форели. На каменной скамье спал закутанный в овечью шкуру юноша с болезненным, бледным лицом, обрамленным копною вьющихся темных волос.
Надо было держать ухо востро. Вазер решил первым делом уяснить себе то, что видел перед собой, а затем уже так или иначе использовать обстоятельства. Случай помог ему. Бледный спящий юноша заметался вдруг в тревожном сне, заворочался, застонал, вскочил на ноги с закрытыми глазами, с выражением немого страдания на лице, стиснул кулак, словно сжимая оружие, и глухим, сонным голосом крикнул:
– Ты этого хотела, Пречистая!..
Старуха быстро отодвинула сковороду, грубо схватила спящего за плечи, встряхнула его и крикнула:
– Проснись, Августин! Не хочу, чтобы ты у меня торчал тут на глазах… Это не сны праотца Якова… Тебя дьявол мучает… Ступай на сеновал.
Длиннокудрый тонкий парень встал и покорно, с опущенной головой, пошел к двери.
– То, что я хотела послать моему сыну, пастору Александру в Арденн, я уже принесу тебе завтра утром! – крикнула ему вдогонку старуха и, качая головой, добавила тихо: – Доверять ли еще этому олуху такую дорогую вещь?
– Я охотно исполню ваше поручение, – располагающим, внушающим доверие голосом сказал тогда Вазер, наклонившись к железной решетке. – Я завтра утром отправлюсь через Муретто в Вальтеллину к пастору Еначу, другу и соседу вашего почтенного сына Блазиуса Александра, столь уважаемого и любимого среди протестантов. Но, разумеется, если вы укажете мне сухой угол для ночлега, потому что хозяин ваш выставил меня ради других гостей…
Старуха изумленно, но ничуть не испуганно схватилась за масляную лампочку. Закрывая рукою огонек от сквозняка, она подошла к окну и осветила голову говорившего с нею Вазера.
Когда она увидела умное, молодое, открытое лицо и аккуратные брыжи, ее острые, серые глаза затеплились улыбкой.
– Вы тоже, вероятно, пастор? – спросила она.
– Вроде того… – ответил Вазер.
У себя на родине он нелегко решился бы прилгнуть, но здесь, в этом негостеприимном крае, он счел нужным так или иначе применяться к обстоятельствам.
– Впустите меня, хозяюшка, а там уж я все вам объясню.
Старуха прижала палец ко рту, кивнула ему и исчезла. Тотчас же заскрипела низенькая дверь рядом с козьим стойлом. Вазер соскочил на землю. Старуха взяла его за руку и провела по нескольким темным ступенькам в кухню.
– Теплый угол, конечно, найдется… Я вам свой уступлю, – сказала она, указывая ему на лесенку рядом с дымовой трубой. Лестница упиралась в дверцу в каменном потолке. – Мне здесь работы до утра, господа только еще за стол сели… Лежите только тихонько. Там вас никто не тронет. И голодным тоже человека хорошего не оставлю…
Она дала ему лампу, и он тотчас пошел наверх по лесенке, поднял свободной рукой дверцу и вошел в крохотную комнатку с голыми стенами, похожую на тюремную камеру. Старуха несла за ним хлеб и вино, затем вошла через маленькую боковую дверь в смежную комнату, должно быть кладовую, и вынесла оттуда большой кусок копченой ветчины. На стене над жестким, малособлазнительным ложем висела окованная серебром большая пороховница.
– Вот это я хочу послать моему сыну, – сказала старуха, указывая на пороховницу. – Это наследство от его дяди и крестного, добыча с войны. Сто лет уже она у нас в семье.
Вазер скоро расположился на ночлег, но тщетно пытался уснуть. Он задремал было на несколько мгновений, и тотчас образы Енача, Лукреции, магистра Землера, старухи у печи, хозяина гостиницы и угрюмого Луки замелькали перед ним в нелепых взаимоотношениях. И вдруг все очутились рядышком на школьной скамье, а Землер трубил в греческую военную трубу, изображавшую собою не что иное, как висевшую на стене пороховницу, из которой вырывались дикие звуки, покрывавшиеся адским хохотом всех слушателей.
Вазер очнулся, с трудом сообразил, где он находится, и хотел было опять уснуть, когда услышал оживленные мужские голоса. Ему казалось, что они звучат из соседней комнаты. На этот раз он слышал их уже наяву.
Подняло его с ложа отчасти возбуждение, вызванное путешествием, отчасти потребность рассеять смутный страх, овладевавший им, а отчасти и любопытство. Как бы там ни было, он бесшумно подошел к двери смежной комнаты, прислушиваясь, потом, тихо приоткрыв ее, убедился, что она пуста.
Тогда он двинулся на цыпочках к другой стене на свет, пробивавшийся через узкую щель. Бледно-красный луч шел, как он сейчас же убедился, из щели старой окованной железом дубовой двери. Он осторожно приник к ней лицом и увидел перед собою картину, которая заставила его забыть обо всем на свете и приковала к месту…
Он видел перед собою комнату, освещенную висячей лампой, завешанной абажуром. За небольшим столом, заваленным бумагами и заставленным беспорядочно сдвинутыми в сторону бутылками и тарелками, сидели два человека. Один сидел спиною к дверям, и его широкие плечи, воловий затылок, взъерошенные курчавые волосы порой совершенно заполняли всю плоскость зрения в узкой щели. Он возбужденно говорил, потом внезапным резким движением подался вперед, и в это мгновение яркий свет лампы осветил лицо другого собеседника. Вазер застыл от испуга: это был Помпеус Планта! Но какое у него было тоскливое, мрачное лицо! Глаза ушли глубоко в орбиты и горели жутким блеском. Резкие складки легли над сдвинутыми густыми бровями. На лице этом и следа не осталось горячей гордой жизнерадостности. Оно выражало только страстную озлобленность и глубокую скорбь. Он казался постаревшим с утра на целых десять лет!
– Я неохотно даю свое согласие на пролитие крови людей, которые когда-то близко стояли ко мне, и еще неохотнее прибегаю к неизбежной в таких случаях помощи Испании, – медленно и глухо заговорил Планта, когда другой окончил свою бурную, не расслышанную Вазером, речь. – Но… – Тут глаза его вспыхнули ненавистью. – Но если уже надо пролить кровь, Робустелли, то его, по крайней мере, не забудьте…
– Джиорджио Енача! – со смехом ответил итальянец и, воткнув свой нож в лежавший подле него небольшой хлеб, поднес его Помпеусу Планта, как подносят голову на копье.
При этом выразительном символическом ответе итальянец повернул голову, и Вазер увидел совсем близко от себя его красное лицо. Он отпрянул от щели и осторожно, бесшумно пробрался опять к своему ложу. Сцена эта навела его на многие размышления и укрепила его в решении на следующее же утро поспешить в Вальтеллину и предупредить друга о грозившей ему опасности.
В маленькое окошко, напоминавшее скорее бойницу в стене крепости, еще только брезжил рассвет, когда Вазер проснулся от стука в дверь. Он быстро оделся и собрался в дорогу. Старуха поручила ему передать привет ее сыну, тщательно привязала к его ремням пороховницу, которую, видимо, чтила, как драгоценную семейную реликвию, с опасливой осторожностью проводила его через кухонную дверь за пределы усадьбы и указала ему на змеившуюся между скал дорогу, по которой ему надо было идти узким ущельем в котловине Кавелош…
– Как войдете в ущелье, – сказала она, – взгляните на голые утесы по левую сторону от озера, и вы увидите далеко вьющуюся тропинку. На этой тропинке вы тотчас же заметите Августина: он с четверть часа тому назад ушел отсюда со своей корзиной и тоже в Сондрио идет, как и вы… Разговоритесь с ним и не отставайте от него. У него здесь, правда, не все на своем месте, – добавила она, указывая на свой лоб, – но дорогу он знает как свои десять пальцев…
Вазер сердечно поблагодарил ее и быстро удалился от спавшего еще дома. Скоро он вступил узенькой тропинкой между диких скал в овальной формы долину, окруженную каменными стенами, сплошь покрытыми ледниками, увидел узкую дорожку, Августина, шагавшего вдоль пропасти, и поспешил за ним.
Он был еще во власти впечатлений этой ночи, как ни старался овладеть ими и претворить их в ясные мысли. Он чувствовал, что то, чему он был свидетелем, означало собою большое несчастье и что судьба открыла ему лишь одну непонятную и бессвязную для него страничку подготовлявшихся жутких событий. При всей своей юной жизнерадостности он был глубоко потрясен, потому что любил и уважал, хотя и по-разному, этих двух людей, столкнувшихся в непримиримой, очевидно, вражде.
Как своеобразна, подавляюще прекрасна была эта местность в первых красноватых лучах солнца! Внизу – зеленая бездна озера среди покрытых густой растительностью уступов и островков, тонувших в чаще темно-красных альпийских роз, как в алой ткани. Кругом стояли отвесные блестящие стены, изрезанные серебряными змейками струившихся из глетчеров ручьев. На юге, где вела из долины шедшая вверх зигзагом дорожка, ослепительно сверкало снежное пространство, над которым высоко поднимались красноватые утесы и пирамидальные горы…
Вазер догнал наконец шедшего впереди него человека и, поздоровавшись, попытался было завязать с ним разговор. Но тот шел молча, погруженный в свои думы, едва взглянул на Вазера и не проявил ни малейшего любопытства, ни удивления. Он с явной неохотой, скупыми словами отвечал на его вопросы, и так как тропинка вилась все круче и круче и становилось скользко идти по мерзлому снегу, то он и совсем замолк. Они взошли на вершину раньше, чем Вазер ожидал. Перед ним выросла вдруг мрачная с острыми зубцами башня-гора. Вазер спросил, как называется этот грозный исполин.
– Разно, – ответил Августин. – В Граубюндене ее называют иначе, чем у нас в Сондрио… Здесь она называется Горой несчастья, а у нас – Горой скорби.
Вазер, неприятно пораженный этими печальными словами, пропустил вперед своего необщительного спутника, остановился на несколько мгновений и, не выпуская его из виду, пошел сзади, желая без всякой помехи упиться одиночеством среди этого чудесного горного простора.
Долго, долго тянулась дорога вниз, вдоль буйного Малеро, пенившегося над огромными камнями, устилавшими его русло. Солнце грело все жарче и сильней. На дорогу падала уже тень от каштановых деревьев, уже приветливо махали ветками виноградные лозы. На холмах сверкали нарядные церковки, и дорога часто переходила в мощеную деревенскую улицу. Наконец они вышли из последнего ущелья, и перед ними раскинулась позолоченная предзакатным солнцем роскошная Вальтеллина со своими знойными виноградниками и болотистыми рисовыми полями.
– Вон там Сондрио, – сказал Августин снова уже шедшему рядом с ним Вазеру и указал на итальянский город с сверкавшими дворцами и башнями, всплывший вдруг волшебной картиной после долгой ходьбы среди пустынных темных гор.
– Чудесный край твоя Вальтеллина, Августин! – воскликнул Вазер. – А там на холмах, если не ошибаюсь, растет знаменитое сассельское, жемчужина всех вин…
– Он вымерз в апреле, – печально ответил Августин, – в наказание за наши грехи…
– Жаль… А чем же это вы согрешили? – спросил Вазер.
– Да тем, что терпим у себя всякую ересь и колдовство! Но мы скоро очистимся и избавимся от заразы: мертвые и святые наши держали совет восьмого мая в полночь вон там, в Сен-Жервазио и Протазио. – И он указал на возвышавшуюся перед ними церковь. – Они жарко спорили! Сторож все слышал и занемог от страха…
И, не замечая насмешливых улыбок своего спутника, опять повторил то, что делал на всем протяжении пути перед каждым крестом или иконой.
Они шли мимо пестро раскрашенного образа Богоматери. Августин опустил свою корзину на землю, бросился на колени и уставился глазами на образ.
– Вы видели, как она кивнула мне головой? – спросил он с восторженным, безумным лицом, когда они пошли дальше.
– Да, конечно, – весело ответил молодой человек. – Вы, очевидно, у нее на хорошем счету. А что она хотела этим сказать?
– Что я должен убить мою сестру! – ответил он с тяжелым вздохом.
Вазер нашел, что с него довольно на этот раз приключений и неожиданностей.
– Прощайте, Августин! – сказал он. – На моей карте указана боковая дорога в Бербенн. Это она и есть? Ну вот я так и пойду, сокращу путь… – Он сунул монету в руку своему жалкому спутнику и пошел меж стен виноградников.
Вскоре он увидел почти скрытую в тени зеленых каштанов деревню Бербенн, цель своего путешествия. Полуобнаженный мальчуган указал ему пасторский дом. Невзрачный дом, но яркое обилие листьев и виноградных гроздей, роскошные гирлянды буйных ветвей искупали убожество здания.
Широкий навес на старых деревянных колонках служил слабой опорой этому яркому обилию, а также и сенями к домику. Последние лучи заходящего солнца играли на теплых золотисто-зеленых листьях. Внизу уже стлались глубокие тени. Вазер любовался этим, никогда еще им не виданным богатством природы, когда в дверях показалась стройная женская фигура, вышедшая из зеленой тени. Это была совсем юная, прелестная женщина. Она шла за водой с кувшином на голове, поддерживая обнаженной рукой недвижимо стоявший на темных толстых косах сосуд, шла легко и плавно, с опущенными глазами. Когда Вазер, почтительно кланяясь, остановился перед нею и она подняла влажно сияющие глаза, он оторопел от изумления – никогда еще в своей жизни не видел он такой ликующей гордой красоты.
На вопрос его о пасторе она спокойно указала свободной рукой на освещенную закатом дверь за виноградной беседкой и полутемными сенями. Оттуда, к удивлению Вазера, неслась воинственная песнь:
Нет в мире краше смерти
Перед лицом врага…
Эта песнь германского ландскнехта, звучавшая таким презрением к смерти, такой радостной отвагой, могла идти только из могучей груди его друга. Это и был он. И как заканчивал пастор в Бербенне свой трудовой день? Он стоял на коленях в тени огромного вяза и точил о точильный камень огромный меч.
Вазер остановился как вкопанный. Стоявший на коленях человек увидел его, воткнул меч в землю, вскочил на ноги, широко раскинул руки и с криком:
– Вазер, дорогой мой! – крепко прижал друга к груди.
IV
Вазер высвободился наконец из объятий пастора. Приятели с радостным любопытством разглядывали друг друга. Вазер был несколько смущен, но не показывал вида. Могучая фигура Енача подавляла его. Смуглое, обросшее бородою лицо озарял отблеск внутренней мощи. И Вазер угадывал, что неукротимую волю, таившуюся в угрюмом и замкнутом когда-то мальчике, расковали теперь опасности бурной политической жизни.
На Енача изящная внешность Вазера, скромного и уверенного в себе, произвела приятное впечатление, и он не скрывал своей радости, что может в своей глуши отвести душу с представителем городской культуры.
Он пригласил его сесть на скамью, окружавшую кольцом старый вяз, и громко крикнул:
– Люция, вина!
Красивая тихая женщина, которая встретилась Вазеру, когда он входил во двор, тотчас вынесла из дому два глиняных кувшина и, поставив их с милым, робким поклоном на скамью между приятелями, скромно удалилась.
– Кто это прелестное создание? – спросил Вазер, с удовольствием глядя ей вслед.
– Моя жена… Здесь, среди этих идолопоклонников, – Енач улыбнулся, – не место холостому протестантскому пастору. Он должен быть женатым человеком. Кому-то нужно было отделаться от меня, и меня послали в эту глушь, с тем чтобы я спасал моих прихожан из тьмы неверия и суеверия. На меня возложили достойную задачу. Но до сих пор мне никого еще, кроме прекрасной Люции, обратить не удалось. И какой ценой? Собственной своей персоны…
– Она изумительно хороша, – задумчиво заметил Вазер.
– Ничего… Мне лучше не надо, – сказал Енач, протягивая гостю один кувшин и поднося другой к губам. – И сама кротость. Она из-за меня немало огорчений и обид переносит. Ее родственники-католики ей простить не могут этого брака… Но какая у тебя великолепная, друг мой, пороховница. Да ведь эта фамильная реликвия Александра!.. Как же, как же, ведь старик в Понтрезине умер, и теперь она перейдет к милому Блазиусу, моему товарищу в Арденне. Но, черт побери, каким путем она попала к тебе?..
– Это одно из моих дорожных приключений, о которых я расскажу тебе потом подробно… – ответил Вазер, не выяснивший еще себе, надо ли говорить о том, что он видел и слышал в Малойе. Он боялся, что горячий, пылкий Енач заставит его рассказать и такие подробности, которые благоразумнее было бы, пожалуй, скрыть от него. – Прежде всего, милый мой Георг, посвяти меня в эти замечательные события, которые в последние годы привлекали к твоей стране внимание всех политических деятелей. Ты ведь играл в них главную роль…
– Это тебе должно бы быть яснее, во всяком случае, чем даже общая связь событий, – ответил Енач и положил одну ногу на другую. – Ты ведь служишь в государственной канцелярии, и, конечно, у вас там зорко следят за всем, что у нас происходит… Впрочем, все события развивались здесь вполне естественно. Ты знаешь – у вас, вероятно, об этом не раз говорилось, – что Испания и Австрия несколько лет уже домогаются от наших католиков путем подкупов разрешения на пропуск для своих войск. Но, ничего не добившись от нас через своих наемников, они теперь, вопреки всем договорам, воздвигли крепость Фуэнте на самом пороге нашей Вальтеллины, и вот крепость эта стоит перед нами постоянной угрозой… – Он указал рукой на юг. – Мы можем завтра побывать там, Генрих, и ты поднимешься в глазах своего цюрихского начальства, если опишешь ему предмет наших споров, который видел собственными глазами. Это было очень досадно, но все-таки это еще не затрагивало самых жизненных наших интересов. Когда же всем стало ясно, что католические державы замышляют поход на немецкий протестантизм…
– Несомненно, – вставил Вазер.
– Тогда, конечно, перед Испанией встала необходимость той или иной ценой проложить себе путь из Милана через Вальтеллину, через наши горы, а наша главнейшая задача теперь в том, чтобы так или иначе этому воспрепятствовать. И надо было разделаться с нашей испанской партией так, чтобы она не отважилась больше поднять голову…
– Конечно, – заметил Вазер. – Если бы вы только не прибегали к таким жестоким мерам и если бы народный суд в Тузисе не был так кровожаден и руководился хотя бы какими-нибудь законами и правилами…
– Что же поделать? У нас каждый человек, бросающийся в политическую деятельность, рискует своей головой. Народ здесь испокон веку отчаянный, во всех своих поступках безудержный и страстный… Впрочем, все эти ужасы, которые о нас рассказывают, значительно преувеличены. Оба Планта объезжали правительства всех стран и не жалели сил, чтобы очернить нас и представить в самом невыгодном свете…
– А почтенный Фортунат Ювалт? Он ни к какой партии не принадлежал. А он тоже писал в Цюрих, что вы обошлись с ним бесчеловечно…
– И поделом этому педанту… В такое критическое время, какое мы переживаем, надо иметь отвагу стать на сторону той или другой партии. Нам люди равнодушные не нужны…
– Он жаловался, что на суде давали показания против него лжесвидетели…
– Возможно! В конце концов он дешево отделался – денежным штрафом, четырьмястами крон, за свою трусость.
– Я еще допускаю, – продолжал Вазер, помолчав немного, – что вам надо было удалить отсюда Помпеуса Планта и его брата Рудольфа. Но неужели нужно было клеймить их как гнусных преступников и грозить им смертной казнью, не считаясь вовсе ни с блестящими заслугами их предков, ни с их положением в стране?
– Презренные изменники! – гневно воскликнул Енач. – Они одни виноваты во всех наших несчастьях и должны искупить вину за все бедствия, в которые втянули нас… Они первые стали подлизываться к Испании… Прошу тебя, Генрих, ни слова в их защиту!
Но Вазер, задетый этой властной вспышкой, уступил недоброму желанию в свою очередь уязвить приятеля и напомнил ему:
– А викарий Николай Руска? Его все единодушно считали ни в чем не повинным…
– Да, и это правда, – прошептал Енач. Это было для него, очевидно, тягостное воспоминание. Глаза его потемнели и недвижно глядели в пространство.