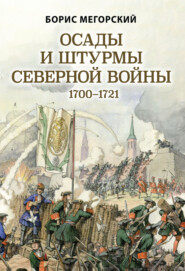скачать книгу бесплатно
Сохранилось достаточно много свидетельств того, как русские готовились к обороне своих или временно занимаемых ими крепостей. Переписка позволяет нам узнать о некоторых деталях, которые приходилось принимать во внимание комендантам.
Приказывая А. И. Репнину занять пехотой город Полоцк в Великом княжестве Литовском в августе 1704 г., Петр I беспокоился о двух вещах. С одной стороны, старый крепостной вал следовало при необходимости усилить палисадом, однако с другой, не ожидая серьезной осады в предстоящий зимний период и не желая зря утруждать солдат, царь не советовал слишком вдаваться в фортификационные работы («и укрепить толко для зимнова нападения не зело, дабы салдатам не нанесть какой тягости»). В ответ Репнин сообщал из Полоцка, что обнести город палисадом невозможно («то работно будет солдатам, и лесу надобно много, а готового нет и возить не на чем») и он велел делать и расставлять на валу верхнего замка большие рогатки[77 - ПиБ. Т. 3. СС. 135, 671.].
В 1707 г. армия Карла XII двинулась из Саксонии к российским границам, и встал вопрос об обороне Киева. 11 мая 1707 г. Петр слал киевскому губернатору князю Д. М. Голицыну указания об укреплении Печерской крепости: «…к вам указ посылаем, дабы во всем заранее в Киеве осмотрели вы, паче же Печерскую крепость, которая весьма требует к совершению работников… Також артиллерию всю пересмотрить, и пушки заранее по болваркам поставить; також и людей, которым быть в гварнизоне, и у них ружье и протчее, что надлежит (чего сохрани Бог) к осадному времени, все исправить, понеже о шведе подлинные есть ведомости, что он из Саксонии вышел, и заподлинно разсуждают, что он хочет итти к Киеву» [78 - Сб. ИРИО.Т. 11. С. 84.]. В октябре того же года царь беспокоился о численности гарнизона: «Вели как возможно людей обучать, и чтоб оных всегда обыкновенно было во оном гварнизоне 2000 человек; и будет такова числа ныне людей нет, то вели как возможно набрать, чтоб двутысячное число было; да сверх того велено господину гетману, чтоб он своих людей несколько сот во оной гварнизон прибавил» [79 - Там же. С. 86.]. А в ответ на сомнения Д. М. Голицына в надежности гетманских казаков, Петр отвечал 13 ноября 1707 г.: «А что ты писал, дабы вам от гетмана в гварнизон взять русских, а не черкас, и того учинить не возможно, понеже и гетману русские надобны» [80 - Там же.].
Летом 1708 г. сложилась угроза нападения шведской армии на Смоленск, город стали готовить к обороне, и о ходе этой подготовки рассказывает переписка царя со смоленским воеводой Петром Самойловичем Салтыковым. Важно было обеспечить город и гарнизон продовольствием и лишить неприятеля возможности пользоваться провиантом с окрестных земель: «Чтоб указал всей шляхте, чтоб хлеб весь везли в город под смертною казнию и клали на своих дворах, для того что в приближении неприятеля хлеб и фураж станут жечь. Також салдат никуды, кроме самой нужды, не посылай по сей час, но всех держи в городе. Также ис уездов шляхту и дворян и с людми, у кого есть какое ружье, и мещан и все, что к обороне города, изготовь», – писал Петр Салтыкову[81 - ПиБ. Т. 8. Ч. 1. С. 24.]. Требование собирать провиант неоднократно подтверждалось: «Буде они свозить не станут, то после у тех преслушников все будет даром взято. Также ест-ли они будут отговариватца, что делать им некем, людей нет, того для в ближние места пошли от себя салдат, дав им каких нибудь лошадей, и вели хлеб свозить в крепость… Также подтверди, что будет у них подчас конечно все созжено» [82 - Там же. С. 51.]. Смоленским «неслужилым» жителям предписывалось «иметь хлеба на 4 месяца, чтоб в случай осады был у всякого свой хлеб» [83 - Там же. С. 31.].
«Комендантское зерцало» гласило: «Обычайно сначала осады все непотребные люди, то есть которые ниже к работе, ниже к обороне угодны суть, из города высылаютца, сие есть потребно, дабы правиант долее держался, но при том великой ужас видеть, что те бедные люди около места ходя голодом помирать принождены»[84 - ОР БАН. П I Б № 8. Л. 79 об. – 80.]. Поэтому Салтыкова интересовало, должен ли он обеспечивать пропитание некоторых категорий гражданских, и в ответ на его доносительные пункты («четырех полков салдацким женам, у которых мужей нет, быть ли им в осаде и чем питатца?»), Петр давал такие указания: «Безмужных жен при таком случае из города выслать; а у которых мужья есть на службе, тем велеть быть; а которые безмужные будут отпускатца, тем давать письма, что отпущены» [85 - ПиБ. Т. 8. Ч. 1. С. 30.]. На вопрос: «Старым и увечным московским стрелцам, которые в службу не годятца, где быть?» был дан ответ: «Во время осады тех старых и увечных стрелцов из города выпустить, когда услышитца о зближении неприятелском» [86 - Там же. С. 32.]. Таким образом решался вопрос «лишних ртов» на случай продолжительной осады и возможного голода.
Судя по следующему вопросу, Салтыков знал о необходимости зачищать пространство вокруг крепостных стен, но, очевидно, не хотел разрушать лишнего и поэтому уточнял: «Слободы салдацкие и других чинов круг города внутри строение ломать ли, понеже близ городовой стены?» и получил такой ответ: «Самое ближнее строение, от города сажен на десять, очистить»[87 - ПиБ. Т. 8. Ч. 1. С. 30.]. Перед комендантом Смоленска стояла также задача обеспечить крепость артиллерией: «А ко обороне города пушки и мортиры в пристойных местах поставлены. Токмо, государь, у артиллерии служителей добрых нет и править того дела, как надлежит, некому» [88 - Там же. Ч. 2. С. 453.].
Москва в ожидании вторжения также была укреплена новыми земляными валами, которые, как и в Смоленске, не пришлось проверить в деле. Датчанин Г. Грунд сообщал своему государю: «Столицу Москву в эту войну тоже по большей части обнесли новым валом. Правда, нельзя сказать, что для этого использовались самые опытные инженеры, и посему там, когда минет опасность, работы продолжат или же снова разрушат вал» [89 - Грунд Г. Доклад о России в 1705–1710 годах. Перевод, статья и комментарии д.и.н. Ю. Н. Беспятых. M-СПб., 1992. С. 106.]. При подготовке Москвы к обороне в 1707 г. пришлось очистить пространство перед крепостными стенами, и под снос пошли даже постройки артиллерийского ведомства, как о том докладывали Я. В. Брюсу из столицы: «Для строения новой городовой крепости к Китаю [Китай-городу. – Б. М.], мастерские избы и школы и иное всякое деревянное строение разбирают и для строения перевозят» [90 - Архив Брюса. Т. 3. С. 126.].
Когда шведы двигались на Гетманщину, Петр приказывал Б. П. Шереметеву позаботиться об укреплении украинских городков: «В Стародуб пошлите [инженера. – Б. М.] Брыля, чтоб полисадами и протчим, чем мог, укрепил и лишнее строение (для пожаров) выломали. Також ис Почепа пушки б и протчее черкасы вывезли в Стародуб (понеже сей городок плох и лутче при случае жжечь)» [91 - ПиБ. Т. 8. Ч. 1. СС. 150–151.].
Оценивая обороноспособность крепости города Глухова, Я. В. Брюс писал Петру 31 октября 1708 г.: «Прибрел я вчерашнего числа по полудни в Глухов и не обрел при оном такова места, где б армия прибыточно могла борониться, для того что около оного великия и ровные поля, також безлесное место, от чего великое оскудение здесь в городе дровами. И мню я, что из тех лесков, которые тут да инде около города, нашему войску на двое сутки будет. Вся наша пехота в здешнем посаде и городе уберется квартерами. Крепость здешняя вся из земли сделана, не по правилу фортификации, и та везде обвалилась. Однако во иных местех, со очищением, и возможно во оной пяти полкам свободно борониться. Пушек во оной железных и медных 21, которых еще не всех видел, понеже всего оных 5 на городе стоит. Сего числа осмотрю достальные пушки, такоже и иные припасы артиллерийские, и возвращусь паки к армии»[92 - Труды РВИО. Т. 1. С. 165.].
После того как в Полтавскую крепость были введены русские войска, работы по укреплению валов были организованы силами местного населения, были также предприняты меры, чтобы не озлоблять казачество постоем, о чем доносил Меншикову бригадир А. Г. Волконский: «По указу вашему здешнюю фартецыю покрепляем как возможно городовыми работниками. Драгуны где поставлены в городе, в тех местах по указу вашему и стоят, только на мещанских дворах утеснение, а на казацких никто не оставлен» [93 - Там же. Т. 3. С. 48.].
Проверить наличие артиллерии в крепостях и ее готовность к обороне должен был начальник артиллерии русской армии Я. В. Брюс, которому Б. П. Шереметев 12 января 1709 г. наказывал послать в гарнизоны Ромен, Сорочинец, Ахтырки и Полтавы артиллерийских офицеров для переписи амуниции, пушек и проч, и сообщить, что еще «будет потребно к отпору неприятельскому» [94 - Труды РВИО. Т. 3. С. 70.].
Из Прилук генерал-майор Гинтер сообщал царю 19 января 1709 г. о местоположении этого города, о состоянии его укреплений, о планируемых работах по возведению палисада, о наличествующей артиллериии. Помимо прочего, было написано о проблемах с водоснабжением крепости: «Неполезность есть в сем месте, что в городе мало, а в замке ни единого колодезя нет, понеже иные от господ шведов частию разорены, однакож, прикажу я комманданту, чтоб он како в город, так и в замок доволно лду навозил, дабы в самой последней нужде могли оной вместо воды употреблять». Также генерал информировал царя о нежелании казаков выдавать войску провиант – жители не соглашались выдавать провиант без позволения своего полковника, а полковник – без санкции гетмана[95 - ПиБ.Т. 9. Вып. 2. С. 570.].
При обороне местечек необходимо было учитывать недавний опыт. Так, оборонявшие Веприк войска, видимо, не уничтожили предместье, и Петр писал Меншикову 1 февраля 1709 г.: «Ежели неприятель к Ахтыркам подлинно намерится оные осаждать, изволь хорошенько предместье выжечь, дабы не так стало, как в Веприке«[96 - Труды РВИО. Т. 3. С. 85.]. Хотя генерал-лейтенант К.-Э. Ренне докладывал, что предместье «запалили» еще в ходе боев под Веприком в декабре 1708 г. [97 - Северная война 1700–1721 гг. К 300-летию Полтавской победы. Сборник документов. Т. 1. М., 2009. С. 430.].
Каменный Затон, русская крепость в Запорожье, в апреле 1709 г. ожидала нападения запорожцев, перешедших на сторону Карла XII. Донесение воеводы Ильи Чирикова содержит описание мер по приведению города в боевую готовность: люди расставлены по стенам и бастионам, ежедневно из крепости рассылались разъезды из солдат и офицеров пехотных полков (конницы в гарнизоне не было). Пушки Чириков велел поставить на батареях («роскатах») бастионов, «понеже в стенах городовых земля пещаная и в бойницы многой пушечной стрелбе быть невозможно»[98 - ЭворницкийД. И. Источники для истории запорожских казаков. Т. 1. СПб., 1903. СС.1041–1050.].
После полтавского разгрома главной армии короля шведы генерала Крассау уходили из Польши в Померанию. Позади себя они оставили шесть тысяч поляков Потоцкого, которые создали угрозу для занятого союзниками местечка Конецполь. И «для супротивления незапной атаке, а пуще злому намерению» Петр велел, «чтоб кругом города и замка учинили ретраншемент, поставили полисады, опускные колоды и часовых» [99 - Гизен. Журнал Петра I с 1709 по 1710. С. 163.].
В 1711 г. к обороне по случаю войны с турками готовился русский гарнизон Азова. Гарнизон составляли 28 рот солдат и драгун с двумя полковниками, пятью подполковниками и пятью майорами. Подразделения гарнизона на время блокады были «расписаны по местам» – т. е. к каждому бастиону, полубастиону, равелину или редану прикреплялись отряды численностью от одной до трех рот «с полным числом офицеров» [100 - Мышлаевский А. 3. Война с Турциею 1711 года. Прутская операция. Материалы, извлеченные из архивов. СПб., 1898. С. 274. Далее: Мышлаевский. Война с Турцией 1711 года.].
Отразились в отечественных источниках и сведения о том, как готовились к обороне крепостей шведы. Когда они заняли Гадяч, ими были приняты меры к укреплению местечка, о чем поведал бежавший от шведов 11 декабря 1708 г. сердюк Корней Семененко: «А как де шведы пришли в Гадяч, то тамошний замок, также и другой большой город тотчас починили, а имянно: где которые полисады старые выволись или худые были, то новые вставливали (а землею нигде не усыпали), и более тот город крепили они полисадами с сей Лебединской стороны, от реки Пселы»[101 - ПиБ. Т. 8. Ч. 2. С. 1051.].
Шведские дезертиры из Штеттина в 1713 г. сообщали, какие приготовления к отражению возможного штурма делались в осажденном городе: «Неприятель обретаетца в страхе и по бостионам как пики и косы и мартирштерны и протчие, к тому потребные и сберегательные оружии и вещи, поставлены»[102 - ПиБ. Т. 13. Вып. 2. С. 467.].
Как видно из приведенных выше цитат, подготовка к обороне велась как непосредственно перед нападением, так и в ожидании вероятной осады задолго до фактического появления неприятеля под стенами крепости. Свидетельства тому мы находим в письмах и реляциях, и большинство из них касается очищения местности от построек, которые могли бы способствовать успеху осаждающего. Впервые в ходе войны русские столкнулись с этим уже в сентябре 1700 г. под Нарвой, где «посады тотчас шведы кругом города пожгли и мызы, которые были около города, тайно около города пожгли ж, и мельницу, которая стояла выше города напереди, пожгли ж», – так докладывали царю И. Ю. Трубецкой и В. Д. Корчмин 15 сентября и добавляли, что для сбережения оставшихся мыз ими была отправлена конница[103 - Северная война 1700–1721 гг. К 300-летию Полтавской победы. Сборник документов. С. 56.].
В ожидании появления шведов у Псково-Печерского монастыря царский указ от 5 января 1701 г. предписывал: «Буде… того монастыря и посадов уберечь от них [шведов. – Б. М.] никоторыми делы невозможно, и тот монастырь и посады, розведав о том подлинно, выжечь и опустошить… А над неприятельскими людьми, где явятца, промысл чинить, как возможно, чтоб тамошних жителей от приходу уберечь и до разорения не допустить» [104 - Там же. С. 86.].
Военно-походный журнал Шереметева за 1702 г. сообщает, как в результате разорительных набегов московского войска на Лифляндию и Эстляндию шведы отказались от активных действий в поле и заперлись в крепостях, разорив то, что не дожгли «московиты»: «И около того местечка [Ага. – Б. М.] их же неприятелския села и деревни, также Дерптского уезду и к самой Колывани, захватили, и пожгли и разорили. И неприятель, видя изнеможение свое, около Дерпта посады, и села свои и деревни все выжгли сами» [105 - ВПЖ Шереметева 1701–1705. С. 88.]; Дерпт был осажден и взят лишь двумя годами позднее. В 1703 г. – за год до того, как русская армия осадит Нарву во второй раз, – Шереметеву стало известно от «выходцев и шпигов», что шведы, «выезжая из Нарвы, за рекою Лугою жнут хлеб, такожде и сена косят и возят в Нарву, и хоромное строение, которое близ города, ломают, а подле Ивангорода делают крепости»[106 - ВПЖ Шереметева 1701–1705. С. 135.].
После взятия Нотебурга в октябре 1702 г. русские войска приостановили наступательные операции, однако в ближайшем шведском городе Ниене нападения «московитов» ждали со дня на день. Появление поблизости конного разъезда вызвало настоящую панику – караулы бежали в крепость, полевая армия Крониорта ушла на север, а комендант приказал зажечь посад [107 - Nilsson В. Abraham Cronhjort and the defense of Ingria 1700–1703. P. 337.]. Как сообщал первый выпуск русской газеты «Ведомости», «полковник Аполлов губернатор Нового Шанца… оной [город. – Б. М.] сжечь приказал, как и магацин, которой тамо собран был к пропитанию войска на четыре месяца» [108 - Ведомости 15 января 1703 г. С. 1.]. «Неприятель после того [взятия Нотебурга. – Б. М.] так отревожен был, что он опасался осады весь город без фортификации сущей против шанца выжег и больше двух дней в городе горело», – добавляет журнал барона Гизена[109 - Гизен. Журнал Петра I с 1695 по 1709. С. 316.]. Таким образом, посад вне крепостных стен был уничтожен защитниками более чем за полгода до того дня, когда русские на самом деле появились в устье Невы.
Уничтожение близлежащих построек осажденными продолжалось и после формального начала осады. Иван Трубецкой сообщал царю из-под Нарвы 15 сентября 1700 г.: «Шведы тайно по ночам жгут окрестные мызы, как мы ни бережем их» [110 - Устрялов. Т. 4. Ч. 2. С. 155.]. Комендант Скитте приказал сжечь посад крепости, когда русские уже обложили Дерпт [111 - Adlerfeld.Vol. 1. Р. 332.]. При этом, подавая пример людям, у которых в предместьи оставались дома и имущество, комендант первым велел поджечь свой собственный дом [112 - Лайдре. С. 116.]. Отряд из Нарвы, 800 человек полковника Ферзена, 17 июня 1704 г. произвел вылазку для разрушения домов, заборов и садов, что и было выполнено успешно, без всякой потери, несмотря на сильный ружейный огонь осаждавшего [113 - Ласковский. С. 135; Adlerfeld. Vol. 2. Р. 10.]. Когда русские заняли город Митаву и осадили митавский замок, его комендант отказался сдаться и объявил царю, что если замок будет осажден со стороны города, то последний будет сожжен [114 - Adlerfeld.Vol. 2. Р. 155.]. Следуя просьбам митавских горожан, Петр решил атаковать замок с другой, менее удобной, стороны. При обложении Риги первое появление русских войск под стенами форштата (укрепленного предместья) Коброншанец «произвело большой страх между форштадскими жителями и всякий бежал в город», – записал рижанин Гельме, «затем наш генерал, его превосходительство господин генерал-губернатор Нильс Штремберг приказал зажечь все дома и сады, находившиеся вне форштата, а также был отдан приказ жителям форштата разрушать свои дома и приводить в безопасность то, чего не хотели предавать огню»[115 - Гельме. С. 413.]. Сожжение домов и садов вокруг Риги продолжалось несколько дней.
Под Выборгом при подходе русского корпуса 22 марта 1710 г. шведы попытались сжечь посад, но были отогнаны в крепость осаждающими [116 - Славнитский Н. Р. Осада и взятие Выборга русскими войсками в 1710 г. // Victoria. Gloria. Fama. Материалы Международной научной конференции. СПб., 2003. Ч. 3. С. 94.].
Если за главной оградой крепости оставались внешние укрепления, которые гарнизон не надеялся удержать, их также старались срыть до прихода осаждающего: под 3 ноября 1709 г. в журнале рижанина Гельмса записано: «Ночью снят мост чрез Двину, Коброншанец до половины уничтожен, дома сожжены и укрепление нами совершенно оставлено; русские тотчас заняли его». Впрочем, уничтожение шанца замедлило работы осаждающего незначительно: «4-го и 5-го ноября русские усиленно работают в Коброншанце, укрепления почти возстановлены; говорят даже, что вооружены 12-ю полевыми орудиями» [117 - Ласковский. С. 302.].
Продолжим рассматривать известные нам описания того, как русские гарнизоны готовились к обороне и «осадному сидению». Во время Прутского похода было получено известие, что турки отправили из Бендер шеститысячный отряд к местечку Сороки, в котором находился обоз с большим количеством больных солдат и которое занимал небольшой отряд русских войск. В связи с этим Петр писал князю Репнину 23 июня 1711 г., чтобы располагавшиеся неподалеку войска при необходимости «сикурсовали» гарнизон, а еще лучше – чтобы отправили драгун и казаков на укрепления шанцев; «також приказать коменданту, ежели он увидит… совершенную атаку, тогда строенье, которое близко крепости, велеть сжечь» [118 - Мышлаевский. Война с Турцией 1711 года. С. 26.]. В ответ Репнин доносил, что подкреплениям приказано поспешать к Сороке, и сообщил о состоянии гарнизона, крепости и о мерах к ее укреплению: «Токмо ежели помянутая неприятельская партия к Сороке прибудет вскоре до прибытия полковника Хлопова и сикурсу, и в том опасен я, что больным нашим драгунам и солдатам и драгунским обозам не без зла будет, сохранить ему, коменданту, никакой возможности за малолюдством гарнизону, также и больных драгун и солдат и обозов драгунских немалое число и оные в крепость не вместятся. Больные положены, поделав шалаши, от реки близ города, а драгунские обозы велено поставить с другую сторону подле крепости к реке же. А крепость земляную круг замку Сороки при мне токмо от реки не досыпали брусверку сажен на десять или меньше, и оное приказал доделать коменданту, и того ради от дивизии своей оставил лопаток и кирок»[119 - Мышлаевский. Война с Турцией 1711 года. СС. 134–135.]. Приготовления в Сороке не прошли даром; 21 июля 1711 г. полковник Хлопов сообщал об успешном отражении атаки: «Июля в 17 день под местечко Сороку приходило неприятельское войско, турок с 3 тысячи, и на местечко били конницею и пехотою, с которыми был бой. И оный неприятель не с малою утратою отступил и оставили тел 50 под местечком, и, где была по отступлении квартира, много тел-же погребено, а другие тела в воду пущены за свидетельством посыльных» [120 - ВПЖ Шереметева 1711–1712. С. 59.].
В том же 1711 г. Петр опасался, что взятый годом ранее город Эльбинг может подвергнуться атаке из шведской Померании. В связи с этим русскому гарнизону Эльбинга 9 мая 1711 г. был послан указ: «Дабы вы того города Эльбинга… никому без нашего имянного указу или определения гр. Александра Головкина не отдавали, но оный… обороняли до крайней меры и отнюдь к сдаче оного не склонялись; и под час такой неприятельской атаки надлежит у мещан эльбингских ружье все обрать и, буде город велик и не чаете его своим гарнизоном содержать, то в нужном случае хотя один замок оборонять, оставя город; и ежели б кто, паче чаяния, из офицеров из вышних и из нижних, кто б он ни был, в Эльбинге, презрев верность свою к нам и присягу, каким-нибудь способом склонился к сдаче того города Эльбинга неприятелям, шведам или кому иному, то оного, яко изменника, повелеваем взять за арест, а команду принять над гарнизоном эльбингским кому из офицеров по старшинству чина, и поступать по вышеписанному нашему указу с согласия и совету других офицеров… Такожде надлежит вам всех жен своих и детей отослать тотчас немедленно в Ригу по сему указу»[121 - Мышлаевский. Война с Турцией 1711 года. С. 302.]. Этот указ примечателен тем, что оборонять крепости русским войскам приходилось сравнительно нечасто, а в данном документе мы видим прямые указания обороняться до последней крайности, о мерах предосторожности относительно нелояльных горожан, о поведении офицеров гарнизона и даже о высылке офицерских семей в ближайшую крупную русскую крепость.
Жанр «инструкции коменданту» был не нов, и мы находим аналогичные документы в более ранних кампаниях. В начале января 1709 года сложилась угроза взятия шведами украинской крепостицы Веприк. Еще в декабре в нее был введен гарнизон русской пехоты, и 2 января комендант Веприка полковник Переяславского солдатского полка Вилим Юрьевич Фермор получил от командования заверения, что «неприятель частью войска вам ничего учинить не может, а ежели б всею армеею стал к вам приступать, тогда мы вас не оставим и со всею армеею будем секуровать»[122 - ПиБ. Т. 9. Вып. 1. С. 511.]. Однако на следующий же день план изменился – Фермору сообщили, что к нему будет тайно прислан отряд, чтобы вывести гарнизон из крепости. Дата выхода оставалась неизвестной, поэтому следовало находиться в постоянной готовности, чтобы «не мешкая ни часа» покинуть Веприк «налегке» (только взяв ружья и пушки). Сборы должны были держаться в секрете, «дабы нихто не ведал, чтоб из туточних жителей хто не перекинулся и не сказал» [123 - Там же. СС. 511–512.]. Однако этот план остался неосуществленным – через несколько дней Веприк был атакован шведами, а Фермор, отбив штурм, сдался.
После взятия Веприка шведская армия угрожала другим крепостям Гетманщины, и Петр разослал указ комендантам русских гарнизонов в украинских городках. Указ запрещал вступать в переговоры с неприятелем, требовал оборонять крепость до последнего человека, а также подтверждал, что за исполнение государевой воли ответственны все офицеры гарнизона.
«Господин камендант.
Надлежит вам как во укреплении города, також и в провианте трудитца по крайней мере и чтоб провианту было, конечно, на четыре месеца. Того же смотреть и в воинской амуниции (а что болше, то лутче). Такоже, ежели неприятель будет ваш город отаковать, то, с помощию божиею, боронитца до последнего человека и ни на какой акорт с неприятелем никогда не вступать под смертною казнию. Також, ежели каменданта убьют, то надлежит первому под ним офицеру камендантом быть, и так последовать и протчим (сколко побитых ни будет) одному за другим, чтоб дела тем не остановить. И сей указ объяви всем офицером, чтоб выдали, и написаф копию с сего указу и под оным как тебе, так и протчим всем офицером надлежит подписатца, что оне сей указ слышали, и з сим репортом немедленно сюды прислать» [124 - Там же. СС. 20–21.].
Одну из самых ранних известных и подробных отечественных инструкций Петровского времени по обороне крепости направил в недавно занятую русскими войсками Митавскую крепость фельдмаршал Б. П. Шереметев 12 сентября 1705 г. Она предназначалась сразу двум адресатам: генерал-порутчику барону Георгию-Густаву Фабиановичу фон Розену и генерал-майору Родиону Христиановичу Боуру.
Все имеющиеся в гарнизоне запасы, как военные так и съестные, следовало осмотреть, переписать, сложить на хранение и составить смету, чего не хватает на случай осады. Провианта для гарнизона следовало запасти на один год. Сбор продовольствия возлагался на «местных жителей начальствующих», которые сами распределяли продовольственную повинность среди горожан. Военным властям оставалось принимать готовые запасы и принуждать лишь тех, кто будет противиться. Провиант следовало собирать «по крайней возможности» и раздавать ратным людям «со усмотрением, чтоб во время нужды никакой скудости и неудоволствования не было».
Все, что во время взятия замка было испорчено стрельбой, необходимо починить и для улучшения обороны возвести новые укрепления. Имевшиеся в замке каменные двух- и трехэтажные строения («палаты о двух или о трех жилях») и другие хранилища сверху следовало перекрыть фашинами и засыпать землей; внешние окна заделать бревнами, чтобы во время осады защитить гарнизон от выстрелов. Все это возлагалось на инженера, «чтоб он то управил как к лутчему» до зимы.
«Караулы иметь крепкие в день и ночь» и расписать подразделения гарнизона по участкам обороны, чтобы во время осады каждый знал свое место. В этом случае каждому следовало исполнять свой долг до конца («по должности своей и обещанию»); приказом по гарнизону настрого запрещалось говорить о сдаче и отказываться от участия в вылазках. Защитники не жалели живота своего, а «боязливых и неохочих» следовало уговаривать к мужественному отпору и принуждать угрозой смерти. Без царского повеления крепость не сдавать и посылать письма о присылке сикурса.
Для разведки о неприятеле следовало высылать из крепости разъезды и собирать сведения через шпигов и таким образом препятствовать внезапным нападениям и разорению. При получении донесений о приближении противника из гарнизона следовало выслать часть пехоты и атаковать, а в случае перевеса – отступать, обороняясь на сильных позициях, и, дойдя до Митавы, «чинить отпор» под прикрытием крепостных пушек.
Всему населению Митавы и Курляндии, духовным и мирским, богатым и бедным, запрещалось иметь сношения со шведами ни по торговым и личным, ни по, тем более, военным вопросам. Все письма перед отправкой на шведскую территорию, например в Ригу, надлежало сдавать русскому командованию для копирования и лишь потом пересылать с почтой. Это требование нужно было объявлять во всеуслышание («выкликать трубачам»), а уличенным в тайной переписке с противником грозила смертная казнь и лишение имущества.
Наконец, войскам русского гарнизона под привычной угрозой смерти приказывалось местному населению «озлобления никакого не чинить, и ни в чем с ними не ссориться, и напрасно ничего не имать»[125 - Волынский. Кн. 3. СС. 402–404.].
Несмотря на очевидный запрет на торговые операции с неприятельскими землями, генерал-поручик Розен, бывший старшим генералом в Митаве, сам нарушал эти требования и подписывал «проезжие листы» курляндским купцам на провоз товаров в шведскую Ригу. Эти случаи стали предметом расследования, и в конце февраля 1706 года 60 возов ржи и 10 возов овса были задержаны и возвращены в Митаву [126 - Волынский. Кн. 2. С. 236.].
Схожая ситуация сложилась в Полоцке. В 1707 г. комендантом города был назначен поручик Преображенского полка Н. Т. Ржевский. Как стало известно в ходе завершившегося в 1712 г. следствия, вопреки царскому приказу он не только не препятствовал торговле со шведской Ригой, но за взятки пропускал купеческие суда к неприятельскому городу и даже сам заказывал у шведов вино и другие товары [127 - Болтунова Е. М. Гвардия Петра Великого как военная корпорация. М., 2011. С. 72.]. Сношения между командующими приграничных сил практиковались и на море. Весной 1706 г. русский флот стоял в Финском заливе, защищая Котлин и Петербург от шведского флота, крейсировавшего поблизости. По свидетельству англичанина Витворта, из шведского Выборга к русским кораблям один раз в три недели приходила лодка с офицером, имевшим поручения относительно содержания пленных. Вместе с ним привозили партию товара, находившего выгодный сбыт; адмиралы противоборствующих флотов также обменивались подарками[128 - Сборник ИРИО.Т. 39. С. 279.].
Злоупотребления отдельных командиров, как видно, пресекались. А такого рода отношения с неприятелем со стороны местных жителей тем более не могли поощряться командованием, особенно в условиях, когда горожане были склонны поддерживать своих недавних защитников – шведов. Нарушение запретов на сношения с шведской стороной стало причиной выселения горожан, занятых русскими Нарвы и Дерпта в центральные и южные области России в 1708 г. Еще в 1706 г. дерптский обер-комендант К. А. Нарышкин доносил царю: «Дерптские жители иноземцы ездят в уезд для покупки себе хлеба и всякого запасу, а неприятель стоит тут же в уезде, и те дерптские жители всегда с неприятелем видятца, и от того опасно шпионства; а ежели их из города не выпускать, то им прокормитца нечем»; на что Петр наложил резолюцию: «Посылать их письма в уезд (осматривая) с русскими, а их не пускать»[129 - ПиБ. Т. 4. СС. 100–101.]. Отметим, что дерптским жителям перлюстрация к тому моменту не была в диковинку, – еще в апреле 1700 г., когда саксонцы осадили Ригу, шведский командующий в Лифляндии генерал Отто Веллингк запретил дерптским купцам упоминать в переписке любые подробности, касавшиеся военного положения[130 - Лайдре. С. 65.]. 3 февраля 1708 г. Петр дал указание: «Нарвских жителей выслать всех на Вологду софсем, также и пасторов чюхонских и амтманов и послать туда комендантом Василья Зотова… Из Дерпта алтиллерию и протчая все вывесть во Пскоф, а крепость подорвать и разорить, а жителей вместе с Нарвскими на Вологду»[131 - Северная война 1700–1721 гг. Сборник документов. Т. 1. М., 2009. С. 329.]. Официальную версию, обосновавшую решение русских властей о «депортации», привел в своем журнале барон Гизен.
«Около 1706 году проведали и престерегли, что жители, немцы и шведы нарвские и дерптские не могши позабыть (как то обыкновенно случается) обязательства с прежним своим государем или будучи подущены, подкуплены и подговорены от губернаторов Ревельского и Рижского и от иных шведов держали и имели тайную переписку с друзьями своими во оных городах в пользу Швеции, но зело опасную русским гарнизонам, и понеже многих открыли, которые в том и повинились; того ради его царское величество взяв в разсмотрение злые и печальные последовании, которые б могли от того произойти и имея тогда один Шведскую войну на руках, не разсудил за благо войска свои в опасность дать в тех местах и оставить их на нападение и похищение от неприятелей, которым жители моглиб помощи, но так он изволил определить, чтоб их в безопастве соблюсти помышляя, что неверствие или подозрение матерь есть надежности; и так повелел его величество по правилу доброго государствования и правления, чтоб оных городов жителей (которые по таким своим поступкам сами лишились той милости, которую его величество милосердо им обещать изволил) перевезли в Королевства, Казанское и Астраханское, на Вологду, Устюг, Резань и иные добрые российские города.
Для сего им и на пожитки их подводы бесденежные, свободу в вере своей, в торговле и в ремесленных их делах помянутое повеление подкрепляли и поддерживали приклады в подобных приключениях, которые подают древние и новые истории, также право собственной своей надежности и соблюдения государственная воинская рация основанная на правдивых разсудках касающихся до народов завоеванных приступом и силою или правом оружия.
Правда, что то повеление показалось жестоко тем, которые невинны были, но в подобных случаях для народной пользы и безопаства позволено наказать и невинного вместе в содружестве винного.
Римляне выбили жителей и разорили до подошвы город Карпиони за то, что несколько людей сего города изменили и выдали римский гарнизон, как о том пишет Тит Ливиус. Замалчиваем прочие сим подобные приклады, их же у Горация и иные вспоминают.
По том когда в тех границах все успокоилось, Ливония взята и не увидели никакой опасности как прежде, то его величество поволил всем тем жителям разсеянным по многим провинциям возвратиться во своясы дав им свободу домы свои, вотчины и поместья паки взять и владеть. Прежними своими правами и привилегиями токмо кроме тех, которым оные край куды переселены были, показались лучше, теплее и способны к намерениям их. Его величество оставил таковых там, где им понравилось, где они удомовились и жалованье тем, которые в службе его величества, стали давать по прежнему»[132 - Гизен. Журнал Петра I с 1709 по 1710. СС. 314–316.].
Депортированные жители Дерпта с семьями (всего около 460 человек) были разделены и направлены в разные города: представители высших сословий, бургмистры, ратманы, священники и члены большой гильдии – в Вологду и Казань; члены малой гильдии – в Москву и Великий Устюг; семьи военных – в Подмосковье; небольшая часть ремесленников – в Воронеж [133 - Лайдре. С. 217.]. В 1710 г. договор о капитуляции Ревеля содержал условие возвращения на родину без выкупа всех переселенцев из Нарвы и Дерпта, но в связи с разразившейся турецкой войной выполнение этого пункта затянулось[134 - Там же. С. 218.]. Лишь в 1714 г. им было позволено вернуться, но не в разоренный Дерпт, а в Нарву, где для них был кров. В 1715 г. бюргеры стали переезжать из Нарвы в Дерпт; этот процесс продолжался еще в 1720-х гг., а в общей сложности на родину вернулись около 45 % переселенцев. Многие добровольно остались в России, т. к. обзавелись там землей, домами и доходными предприятиями; другие, наоборот, не могли уехать, т. к. не имели на это средств[135 - Там же. СС. 220–221.].
Таким в общих чертах был круг вопросов, которые вставали перед военными и гражданскими властями города при подготовке к обороне; с их заботами мы еще не раз столкнемся в следующих главах. А теперь посмотрим на приготовления с другой стороны – к атаке на город.
Обложение крепости
Сбор сведений
Исходя из каких соображений и в какой момент принималось решение атаковать ту или иную крепость? В истории Северной войны есть эпизоды, для которых ответы на эти вопросы известны, но есть и такие, для которых ответы не очевидны – доступных источников не хватает, и литература обходит эту тему стороной. Прояснение этих вопросов помогло бы лучше понять, как велась подготовка к осадам, но планирование боевых операций Петровского времени стоит отдельного изучения за рамками нашего исследования.
Когда бы ни было принято решение, требовалось предварительно собрать информацию о крепости, ее укреплениях, вооружении, гарнизоне и проч. Петр озаботился этим как минимум за полгода до объявления войны. В марте 1700 г. он велел отправить в Шведское королевство сержанта Преображенского полка В. Д. Корчмина в Нарву для покупки пушек и заодно для осмотра крепостей Нарва и Нотебург. Тайный характер миссии был по плечу сержанту, царь считал, что «детина кажется не глуп и секрет может снесть»; при этом царь опасался, что отправка «ученого» сержанта в крепости могла вызвать подозрения у шведского резидента Книппера[136 - Северная война 1700–1721 гг. Сборник документов. Т. 1. С. 29.]. Не лишним будет вспомнить происшествие в 1697 г., когда в составе Великого Посольства Петр инкогнито посетил проездом Ригу, где слишком пристально изучал укрепления города и был остановлен шведским караульным солдатом. Известно, что этот эпизод оскорбил царя и позднее был использован как один из предлогов к началу войны. Для нас в этом эпизоде важно, что в обязанности часовых входило не позволять незнакомцам осматривать укрепления даже в мирное время.
С началом войны разведывательная деятельность лишь активизировалась, и пригодились знания тех, кто бывал за границей до войны. В частности, в мае 1701 г. семеро ладожских торговых людей составили подробное описание водного пути до Ниена с описанием его укреплений и даже указанием, что земля вокруг сухая и подходящая для траншейных работ. В том же году новгородские дворяне составили «Роспись пути от Ладоги до Канцев» сухим путем, с описанием Нотебургской крепости[137 - Устрялов. Т. 4. Ч. 2. СС. 192–194.]. Важным источником информации были захваченные языки. Например, захваченный 24 августа 1702 г. на р. Славянке близ Сарской мызы шведский драгун Яган Густав Вегиль был «распрашиван и пытан накрепко», в результате чего П. М. Апраксин получил и передал царю сведения, в т. ч. об укреплениях Ниена и Нотебурга[138 - Волынский. Кн. 3. СС. 4–5.]. Подробнее к языкам, а также «выходцам» и дезертирам мы обратимся ниже, поскольку истории этих людей заслуживают отдельного рассказа. Разведывательные рейды не всегда доставляли необходимую информацию. Так, осада Выборга осенью 1706 г. не удалась во многом потому, что войска петербургского гарнизона не собрали заблаговременно необходимых сведений о местоположении крепости; осаду пришлось снять, о чем подробно будет рассказано ниже. Шведский опыт сбора сведений об укреплениях городов, о численности и составе гарнизонов включал опросы путешественников-купцов и дезертиров, а также отправку шпионов [139 - См.: Nilsson В. Prisoners of war, Spies, Fugitives, Deserters and Intercepted Mail: Swedish intelligence gathering during the Great Northern War. PP. 611–616.]. Российская сторона применяла схожий арсенал методов и средств[140 - См.: Базарова T. А. Сбор сведений о неприятеле русской и шведской армиями во время военных действий в Приневье (нач. XVIII в.) // Санкт-Петербург и страны Северной Европы: Материалы седьмой ежегодной научной конференции (14–16 апреля 2005 г.). СПб., 2006. СС. 48–56.]. Судьбу одного шведского шпиона можно узнать из документа походной канцелярии А. Д. Меншикова. В январе 1704 г. крестьяне Ямбургского уезда (лишь в 1703 г. отвоеванного русскими) Савелий Михайлов и Михаил Панкратьев поймали в деревне Орловой «шпика» и доставили его властям. Генерал-майор Иван Иванович Чамберс велел при себе пытать пойманного, который признался, что его звали Сенька и он был послан нарвским комендантом по деревням для «проведывания силы конных и пехотных полков что в которой деревне стоит»[141 - НИА СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 2. Д. 1. 1704 г. Книга копий 1. ЛЛ. 271 об. – 272.].
Внезапное нападение
Перед тем как оказаться вовлеченным в длительную осаду с изнурительными работами и кровопролитными штурмами, нападающий мог попытать счастья и атаковать крепость неожиданно, в надежде захватить гарнизон врасплох.
Ряд советов о том, как это сделать, содержится у Курганова в главе «О нечаянном нападении на великие города». В первую очередь он подчеркивает, что внезапно можно напасть лишь на город, в котором гарнизон неисправно несет службу. Поэтому следует узнать порядок отправления караульной службы, численность гарнизона, расположение важных постов в городе, пути скрытного подхода и проч. Такие сведения можно получить, подкупив местного жителя, или отправив в город своего офицера пожить там и понаблюдать за крепостью изнутри.
Когда сведения будут собраны, выбирают неприметное место для проникновения в город. Это может быть труба сточной канавы, которой воспользовались при атаке на Кремону в 1701 г., или другое плохо охраняемое место. Попавшие таким образом внутрь солдаты и офицеры, переодетые в мужицкое, купеческое или женское платье, должны напасть на караульных у ворот, а в это время извне атаковало остальное войско. Либо же пробравшиеся отряды должны были самостоятельно захватить ключевые посты в городе, открыть ворота изнутри и впустить войско. Это были «обыкновенные и многократно употребляемые способы», помимо которых предлагалось придумывать разные другие, смотря по обстановке. При вступлении войска в город в первую очередь следовало взойти на стены, чтобы не дать гарнизону вести огонь из пушек. В городе нужно завладеть казармами и не дать гарнизону собраться вместе для организации контратаки. Если было известно место жительства командующих, туда отправлялись солдаты, чтобы взять тех в плен, – гарнизон без начальников оборонялся слабее. Также нельзя было допустить отход гарнизона в цитадель внутри города. В общем, эти рекомендации были те же, что и при штурме с лестницами[142 - Курганов. СС. 236–237.].
В другой главе своей книги Курганов дает рекомендации «о обороне городов от незапных нападений от лестниц, скоропостижных атак и проч.». И снова автор пишет о необходимости соблюдать «все то, что предписано в воинских уставах для охранения городов, отворения и затворения ворот и проч.». Действительно, к началу XVIII в. европейское военное искусство выработало стандартный набор требований к организации караульной и гарнизонной службы. В петровском уставе этим вопросам посвящены главы 59 «О караулах, како оным ходить и сменяться…», 60 «О ревелиях (или побудках) и таптах», 62 «О силе и должности караулов как в городе так и в лагере», 63 «О караулах кавалерии…», 65 «О рундах», 66 «О патрулях и что при том чинить надлежит» [143 - Военной Устав с Артикулом Военным. СПб., 1748. СС. 69–90.]. Не станем воспроизводить многочисленные и подробные уставные положения, а вернемся к советам из книги Курганова.
Если город стоит на реке, то ночью выше и ниже по течению следует выставлять барки с солдатами; в мокром рву зимой – регулярно колоть лед; в дни ярмарок удвоить караулы и держать гарнизон в повышенной готовности. Для отражения «эскалады» (штурма по приставным лестницам) следовало хранить на валу «алебарды и бердыши» и другое древковое оружие для поражения и сталкивания нападающих со стены. Сбивать лезущих по лестницам рекомендовалось скатыванием бревен, бомб, гранат, а также горючих вещей (смоленых фашин, горящих бочонков и т. п.). Ночью в ров неодходимо кидать «множество шлагов для его освещения, и чтоб пушки с крепости могли производить желаемое действие над войском, находящимся во рву». Пространство перед воротами должно хорошо простреливаться, чтобы исключить возможность приставления петарды, на случай подрыва ворот – иметь запас бревен для преграждения пути внутрь города[144 - Курганов. СС. 280–284.].
История Северной войны знает несколько примеров, когда осаждающий бросался на приступ, как только подходил к крепости. Внезапным нападением было взято наружное укрепление (кронверк) Ниеншанца. Его недостроенный вал был занят частью шведского гарнизона. Так описан этот бой в журнале Гизена: «В 24 день [апреля 1703 г. – Б. М.] не дошед до крепости за 15 верст посылал господин фельдмаршал партию с 2000 пехоты под командою полковника Нестерта и Преображенского полку капитана Глебовского плавным путем, которые против 25 дня в ночи щастливо к городу пришли и шведских драгунов 150 человек у самого рва стоящих с посту збили и к бегу принудили, из которых у градских ворот 2 человек взяли, а по том и первым валом овладели. При том щастливом действии зело смелым сердцем и мужественно на один бастион с малыми людьми из той партии жестокое нападение учиняя взошли, но, не имея никакого приуготовления к приступу, за благо разсудили отступить» [145 - Гизен. Журнал Петра I с 1695 по 1709. С. 330.]. В «Юрнале 1703-го года» содержится уточнение: для того чтобы с ходу ворваться в саму крепость, у нападающих не оказалось при себе «лестниц приступных и довольных воинских припасов, а паче гранат ручных и копей» [146 - Юрнал 1703-го года // Походный журнал 1703 г. СПб., 1853. СС. 11–12.]. Данный случай представляет удачное нападение передового отряда на внешние посты вокруг крепости, за которым последовал подход всей осадной армии; внезапный штурм главной крепости, как видно из цитат, не планировался или по крайне мере не был подготовлен.
Другое неожиданное нападение на неприятельскую крепость совершили драгуны и калмыки генерала Боура, которые в ходе рейда на Митаву в ночь с 11 на 12 июля 1705 г. смогли проникнуть в шведскую крепость и перебить ту часть гарнизона, что не успела укрыться в замке. О том, как это произошло, Б. П. Шереметев написал Петру: «Та наша партия [генерал-майор Боур с 13 драгунскими ротами и с курскими калмыками. – Б. М.] пришла к Митаве в ночь незадолго до света, и как начал быть свет, спеша драгунов, пришли к посаду, где была неприятельская рота на карауле. Розорвав рогатки, тое роту збили, и пошли тем посадом до валу земляные крепости, где шведов обреталося не безо много с 1000 человек. И пришед ко оной крепости, с превеликим боем ворвалися чрез вал в тое крепость; и на улицах, где утверждены были рогатки и поставлены пушки, и в палатах у курлянчиков заведены были салдаты (от которых стрельбою войскам нашим чинилась некоторая пакость), милостию Божиею и заступлением Пресвятыя Богородицы, а твоею, премилостивейшего государя, молитвою и счастием, тех неприятельских людей побили, которых мало что и не всех в труп положили и в реке потопили; едва и сам комендант за охранением тутошних курлянчиков, убрався в платье их бургарское (или в торговое), в замок ушол; также и в палатах затаенные у тех курлянчиков не спаслися: все удовольствованы вечным сном»[147 - ПиБ. Т. 3. С. 379.]. В военно-походном журнале фельдмаршала упоминаются подробности скоротечного уличного боя: «И как вошли в город, и в том городе во всех улицах утверждены были рогатки и поставлены при тех рогатках солдаты с пушками; и, по жестоком огню, оных неприятелей побили же и гналися до самого замка, где и сам полковник и камендант Кноренг едва спасся защищением тутошних жителей» [148 - ВПЖ Шереметева 1701–1705. СС. 177–178.]. Шведский источник признает потери и добавляет, что нападение было совершено между тремя и четырьмя часами утра и что «полковник Кнорринг, находившийся в городе, был вынужден спастись через черный ход, после того как он храбро оборонялся через двери и окна» [149 - Adlerfeld. Vol. 2, РР. 135–136.].
Впрочем, задерживаться в Митаве в тот день не входило в планы русского командования, поблизости не было всей русской армии, и формально город был занят, а замок – осажден, месяцем позднее, в августе 1705 г. Боур возвратился из рейда с трофеями и пленными, и мы позволим себе небольшое отступление, чтобы рассказать о дальнейшей судьбе тех и других. Взятые в «полон» в Митаве 78 шведских офицеров и нижних чинов вскоре были умерщвлены – в проигранном сражении при Мурмызе возникла опасность их освобождения[150 - ВПЖ Шереметева 1701–1705. С. 179.]. Среди митавских трофеев – пушек, барабанов и знамен – у шведов были захвачены «2 пушки полковые трехфунтовые, при которых на станках утверждены с обе стороны по мартирцу, что картечами стреляют» [151 - ПиБ. Т. 3. С. 379.]. По этому описанию они напоминают орудия «системы Корчмина» – полковые трехфунтовые пушки с двумя мортирками на лафете по сторонам от пушечного ствола, – которыми русская армия стала вооружаться в 1706 г. Такое сходство позволяет предположить, что митавские трофеи стали прототипом новых русских пушек.
Известен еще один пример внезапной атаки; с описанным выше нападением на Митаву его делает схожим сразу несколько моментов. Во-первых, атакующие ворвались в крепость неожиданно, во-вторых, часть защитников смогли укрыться внутри взятого города и в-третьих, нападавшие в результате отступили. Итак: март 1706 г., Великое княжество Литовское, город Несвиж. В то время как главная российская армия находилась в окружении в Гродно, царь Петр отправил в литовские города отряды казаков гетмана Мазепы для наблюдения за находившимися неподалеку шведами. Карл XII, узнав об этом, выслал в Несвиж отряд подполковника Траутфеттера силой в 450 всадников. Наиболее полно развитие событий изложено у Адлерфельда.
Отряд казаков силой около 1500 человек расположился в Несвиже, однако в расположенный там замок Радзивилов их не впустили. Траутфеттер прибыл к городу на рассвете 13 марта (шв. ст.) и приказал своим людям спешиться; сформировав три отряда, они успешно вскарабкались на стены, захватили ворота и напали на казаков с разных сторон. Казаки успели собраться на рыночной площади, забаррикадировать улицы и открыть огонь по шведам. Те, в свою очередь, за полчаса выбили казаков из баррикад, убив 300 человек во главе с их командиром и взяв четыре пушки; затем Траутфеттер послал своих кавалеристов зачистить улицы города. Однако 500 казаков укрылись в женском монастыре, а другие засели в домах вокруг площади и постоянно отстреливались оттуда, нанося потери шведам на улицах. Чтобы покончить с обстрелом из домов, Траутфеттер приказал зажечь их, при этом 600 казаков погибло в огне и немногие уцелевшие (до 180 человек) сдались в плен. С теми, кто занял оборону в монастыре, шведы ничего сделать не смогли и покинули город [152 - Adlerfeld. Vol. 2. РР. 214–215.]. Дополняет картину взятия Несвижа Н. И. Костомаров: «В Несвиже поставлен был стародубский полковник с четырьмя сотнями своих полчан. Шведы напали на них сонных ночью и одну сотню истребили совершенно; погиб и стародубский полковник Миклашевский. Другая сотня, поверивши слову неприятеля, обещавшего отпустить Козаков на свободу, если они не будут защищаться, положила оружие и была объявлена военнопленною. Третья сотня заперлась в бернардинском монастыре, не поддавалась никаким убеждениям сдаться, и когда шведы, не ставши их добывать оружием, ушли, соединилась с четвертою сотней и обе пришли к гетманскому обозу»[153 - Костомаров Н. Исторические монографии и исследования. Т. 16. Мазепа и мазепинцы. СПб., 1885. С. 287.].
Не исключено, что шведы также рассчитывали на внезапный захват Полтавы. Судя по «Дневнику военных действий Полтавской битвы», перед началом осады Полтавской крепости шведы предприняли неожиданное нападение с целью захвата языков: «При битье тапта и отворении [так в тексте, однако по смыслу следует «затворении», т. к. тапта – сигнал отбоя] города Полтавы неприятельская партия учинила нападение на Полтавскую крепость, но внезапно напала на пикет войск Царского Величества, которой учрежден был пред посадом и стоял в рогатках. И по учинении всем караулом по неприятеле залпа, убито 8 человек, после чего неприятель пошел на убег; в числе оных 8 человек подняты, двое еще живые, которые в допросе сказали, что посланы для взятья языков, чтоб известиться, сколько в оной крепости войск Царского Величества находится, а король их намерен оную крепость атаковать и для атаки будет вскоре сам король» [154 - Труды РВИО. Т. 3. С. 261.]. А на следующий день, подойдя всем войском на рассвете, шведы предприняли штурм с ходу, в надежде на быстрый захват незначительных полтавских укреплений: «На самом разсвете приступило к Полтавской крепости неприятельское войско, из которого 1500 человек в тот же час пошли на штурм, но по многом сопротивлении отбиты при валах крепости, сочтено неприятельских тел 22, да тяжко пораненных взято в плен 9 человек, которые допросами показали, что они надеялись оную крепость взять, потому что оная без обороны и валы во многих местах низки» [155 - Там же. СС. 261–262.]. Как отмечалось в обзоре источников, Дневник следует читать с осторожностью – достаточно указать на то, что описанные выше две первые атаки на крепость датируются им 2–3 апреля, в то время как сведения о начале осады в других русских источниках датируются первыми числами мая. О первых днях осады Полтавы шведами сообщал Меншиков Петру из лагеря на Ворскле 5 мая 1709 г.: «Неприятель тому пятый день пришел к Полтаве, облокировал город и шанцы повел, а вчерашняго дня получили мы от коменданта Келина письмо, что шанцы под самый ров приведены, и бомбандирует, но не гораздо жестоко: в сутки бомб по пяти бросает, а оной комендант при помощи божией добрый отпор чинит»[156 - Есипов Г. В. Жизнеописание князя А.Д.Меншикова (по новооткрытым бумагам) // Русский Архив. 1875. Кн. 3. С. 69.]. 8 мая в следующем письме Меншиков доносил: «По полученным ведомостям от Полтавы, что неприятель оную крепость уже несколько раз жестоким приступом атаковал и хотя с великим уроном отбит и чрез вылазки многих людей потерял, однакоже до сего времени помянутой город в крепкой блокаде держится…» [157 - Там же.]. Возможно, таким образом, что при некорректной датировке и малодостоверных количественных данных Дневник все же описывает реально происходившие события.
Стычки вокруг крепости
Если захватить крепость сразу оказывалось невозможно, то начиналось ее планомерное обложение («инвестирование»). Осаждающий последовательно занимал позиции, выбивая дозоры осажденных из лежащих вокруг города укреплений, садов и селений. Его задача заключалась в том, чтобы запереть неприятеля в крепости и не позволить ему пользоваться внешними ресурсами.
Как упоминалось выше, при обложении Ниена 25 апреля 1703 г. высадившиеся на судах ночью 2000 солдат гвардейских полков захватили кронверк – наружное укрепление крепости. Этот вал был начат шведами за год до того и не был закончен в полной мере, также гарнизон крепости был слишком слаб для одновременной обороны и крепости и наружного вала. В результате занятие кронверка позволило русским начать осадные работы практически вплотную к крепости и не заниматься ведением апрошей издалека; сам вал служил защитой для осаждавших от огня из крепости (при этом им приходилось тесниться непосредственно около вала, поскольку окрестная болотистая местность не позволяла разбить обширный лагерь)[158 - Ласковский. С. 290.].
Многочисленные стычки вокруг Нарвы происходили между русскими и шведами с самого начала осады 1704 г. В Поденной записке рассказывается об участии самого царя в одном из таких боев: «Мая в 27-й день, изволил великий государь ходить с четырмя с драгунскими полками за реку Нарову, под самый город Нарву, где взяли писаря да с 20-ть человек рядовых солдат и иных чинов людей, вышедших из гварнизона нарвенского, да скота и лошадей отогнано не малое число; и подъезжали тогда к городу к самому рву, и толь зело близко, что возможно было из ручного ружья биться. И хотя непрестанная из города из пушек и из мелкого ружья стрельба была, однако ж никого из наших не убили, токмо одного драгуна ранили; да из выборной Новгородских дворян роты дворянин Караулов, который было гораздо за неприятелем загнался и притом убита под ним лошадь, но он, однако ж, за неприятелем с обнаженным палашем гнался, и притом убит из фузеи до смерти»[159 - Поденная записка или журнал воинского и иного поведения, 1704-го года генваря с 1-го числа // Походный журнал 1704 года. СПб., 1854. С. 29.]. На следующий день (29 мая по шведскому стилю) отряд русской конницы напал на шведских кавалеристов в садах и преследовал их до самого крытого пути, где попал под крепостной огонь и был вынужден отступить, оставив, по шведским сведениям, нескольких лошадей и офицера, который был взят в плен; «своих убитых они увезли с собой, по их обычаю», – добавляет интересную подробность шведская реляция[160 - Adlerfeld. Vol. 2. Р. 4.]. Несколькими днями позже шведский конный отряд конвоировал пленных из Нарвы в Ивангород, был атакован русскими драгунами и после нескольких обоюдных атак шведы вынуждены были отступить, «обратя лицо и пистолеты в сторону неприятеля»[161 - Ibid. Р. 6.]. Русские делали неоднократные попытки под огнем крепостной артиллерии отбить пасущийся вокруг города скот и лошадей.
При обложении Штетина в 1713 г. русским неоднократно приходилось оспаривать позиции, занимаемые шведами вне крепости; нередко при этом осажденные оставляли свои посты без боя. В июле 1713 г. от русских войск был командирован полковник Сонцов с 1000 человек для нападения на «францужский швецкий полк», однако неприятель боя не принял и отступил в крепость; русские же заняли позицию у деревни недалеко от города «в шанцах старых пруских и гоноверских» (очевидно, укреплениях либо траншеях, сохранившихся с предыдущей осады города)[162 - ПиБ. Т. 13. Вып. 2. С. 467.]. Когда под Штетином началась формальная атака крепости, осаждающим русским войскам пришлось брать штурмом внешнее укрепление Стерншанц, которое мешало ведению траншей. Так, Меншиков докладывал об этом царю в письме от 7 сентября 1713 г.: «А на прошлой неделе начались у нас апроши последующим образом. Понеже за благо разсудил я наперед отакировать Штерншанец, который таков нам был вредителей, что никоторым образом, не получа оного, опрошев вести было невозможно. И во 2 день с вечера командированы были от нас люди к начатию опрош, ис которых от определенного к прикрытию маеора Матюшкина командрован особливо подполковник Орлов с 400 человек салдат и подполковник Борзой с 400 драгун с таким указом – кой час смеркнетца, чтоб того часу Орлов одною шпагою оной шанец штюрмовал, а Борзому б, заехав между Штерншанцом и городом, бегучаго из шанца или идучаго к шанцу на сикурс неприятеля, отакировать шпагою ж. И в 9-м часу пополудни, с помощию божиею, сите так щастливо учинилось, что, ни единого заряду из ружья не употребив, оной шанец шпагою взяли… Кой час оной шанец взят, того часу опроши начались и по се время продолжаютца»[163 - ПиБ. Т. 13. Вып. 2. С. 450.].
История Ростовского полка содержит дополнительные подробности той атаки. Для отвлечения внимания войска дивизии Репнина должны были совершить «фальшивую алярму», открыв из шанцев ружейный огонь; а вести апроши было поручено бригадиру Дупрею с рабочей командой. Когда в 9-м часу вечера Репнин дал залпы по городу, штурмовой отряд двинулся к Стерншанцу и быстро овладел укреплением, захватив в нем 4 орудия и 57 пленных; атака была столь стремительной, что защитники не успели зажечь четыре мины, заложенные под шанцем. Осажденные из крепости зажгли находившиеся между крепостью и шанцем дома и в течение всей ночи вели артиллерийскую и ружейную пальбу[164 - Попов Н. Н. История 2-го гренадерского Ростовского полка. Т. 1. С. 170–171.].
Немногим позднее шведы оставили лежащее в полумиле от Штеттина укрепленное местечко Дам, и 6 сентября оно было занято русским отрядом в 200 пеших драгун подполковника Ярцова и 100 пехотинцев капитана Толста; причем «того места бурмистры» приняли русского командира «приятно» и вручили ему «городовые ключи». Но уже 9 сентября осажденные сделали сильную вылазку с целью отбить Дам: «Пред самым утром под помощию бывшего тогда зело превеликого тумана, в самую дамскую крепость незапно вшел бродом малою речкою (которая течет сквозь крепость), пробравшись при мелнице, и вступя в крепость в начале на наш пикет в 70 человеках стоящий напал. И егда услышали нашу стрельбу то тотчас из дворов и с караулов собравшись, с неприятелем в жестокий бой вступили, и по жестоком бою из города от неприятеля выбиты»; подполковник Ярцов оставил Дам, потеряв убитыми 42 и пленными 54 человека[165 - Книга Марсова. СС. 176–177.]. Едва не погиб в том бою царский адъютант Никита Петрович Вильбуа, который лежал больной на квартире; при нападении он получил «тяжкие и многие раны», сутки пролежал в воде, затем «перебрел болото» и добрался до своих[166 - Контр-адмирал Никита Петрович Вильбуа (автобиографические показания) // Русский архив. 1867. Кн. 10. С. 1193.]. Чтобы отбить Дам, 11 сентября Меншиков назначил отряд полковника Степана Вельяминова «и с ним, полковником, командировано от всех полков штап, обер и унтер-афицеров и рядовых – 601 человек, в том числе от дивизии генерала и ковалера князя Репнина гранодеров – 100, мушкетеров – 50 человек, которым велено иметь при себе: гранодерам – по 4 граната, мушкетерам – по 30 патронов. Да сверх того, к оному ж местечку Дам послан был на судах водою лейб-гвардии Семеновского полку капитан-порутчик Девесилов со 132 человек»; приближение этого грозного отряда, так подробно описанного в «Ведении о действах войск российских…», заставило шведов снова покинуть местечко: «И вышеозначенный полковник Вельяминов в помянутом местечке неприятельских людей не застал, понеже до ево приходу выступили, и в то местечко он с помянутыми командированными вступил и был даже до самой сдачи Штеттина»[167 - ПиБ. Т. 13. Вып. 2. С. 467.].
Материальное обеспечение осады
Осадные и оборонительные работы требовали большого количества строительных инструментов и расходных материалов. «Многое число припасов никогда не вредит, а недостаток всегда», – писал Вобан и приводил «исчисление» всего необходимого для одного месяца работ в одной начатой траншее. Туда входили сотни тысяч фунтов пороха, десятки тысяч ядер разных калибров, десятки мортир, пушек ломовых (крупного калибра) и поменьше, десятки тысяч бомб и гранат, фитиль, свинец, фузейные кремни, песочные мешки, подмостки под артиллерийские орудия, запасные лафеты, козлы и домкраты, телеги и доски, тележки и короба (носилки), десятки тысяч разных землекопных, кузнечных и плотницких инструментов [168 - Вобан. СС. 5–6.]. У русских все это называлось «окопные и подкопные припасы» [169 - ВПЖ Шереметева 1701–1705. С. 130.].
Для строительства осадных укреплений, помимо грунта, использовались такие элементы, как фашины, туры, мешки и рогатки. Поскольку это были неотъемлемые атрибуты любой осады, стоит уточнить, как они выглядели и для чего применялись.
Фашины — связки веток или вязанки хвороста разной длины в зависимости от предназначения. Для возведения шанцев или заполнения рвов фашины делали длиной 4 фута, толщиной 2–3 фута и перевязывали у концов и посередине лозой. При таких габаритах фашину легко мог переносить один человек. Для более монументальных работ вязали длинные фашины-сосисоны. Чтобы противник не мог сжечь фашины, их рекомендовалось заполнять землей (очевидно, пересыпать землей пространство между ветками). Для поджигания неприятельских работ делали короткие связки в полтора фута длиной и пропитывали их дегтем[170 - A military dictionary. Explaining all difficult terms in martial discipline, fortification, and gunnery. London, 1704. P. [FA].]. «Фашины же должны хорошо зделаны быть; большие и малые ветья надобно мешать пучками ровно, и вместе сплетать, а для прибивания их [к земле], колышки делать в 3 фута длиною, а в 5 или 6 дюймов окружностию в середине» [171 - Вобан. C. 16.].
Герар, Николя (Guerard, Nicolas) (1648–1719). Кавалерия на заготовке фашин.
Франция, 1695 Paris – Musee de I’Armee, RMN
Одна из серии гравюр Герара на военные сюжеты «L’art militaire ou Les Exercices de Mars, livre a dessiner». На ней изображены войска, заготавливающие в лесу фашины и туры. Вырубка близлежащих лесов и кустарников для нужд армии была непременным атрибутом любой осады.
Туры — большие плетеные цилиндрические корзины без дна, их ставили на позицию и заполняли землей. Крупные туры 5–6 футов высотой и около 4 футов в диаметре служили укрытием от неприятельского огня на батареях, где между ними устанавливались пушки[172 - A military dictionary. Explaining all difficult terms in martial discipline, fortification, and gunnery. London, 1704. P. [G]]. Для оперативного возведения парапета в траншее или сапе применяли более компактные туры: «С начала осады надобно туры в запас иметь, и смотреть, чтоб оные из мягкого хвороста и хорошо зделаны были, также бы все равны из 8, 9 и до 10 обвостренных колышков состояли, а всякой бы колышек округлостию в 4 или в 5 дюймов был. Они должны как в верху так и внизу хворостинками от фашин крепко переплетены быть, которых концы около туров после очищаются. Сии туры делаются высотою 2? фута, и диаметр равен высоте, чтоб их легче ворочать можно было… При том надобно примечать, что изготовление фашин и кольев, так же как и дело линий, служба государева [т. е. является простым исполнением воинских обязанностей. – Б. М.], а за каждой тур платится обыкновенно по 5 копеек, для их тяжелого дела, к которому труда и искусства довольно требуется» [173 - Вобан. C. 16.]. Это считалось более квалифицированным трудом, нежели изготовление фашин; вязание одного тура занимало до трех часов работы не менее двух человек. Платили ли за эту работу в русском войске, мы пока не знаем.
Мешки с землей — использовались для быстрого сооружения или восстановления сбитого парапета. Их делали такого размера, чтобы в них помещалось около одного кубического фута земли – сколько мог унести один человек. Поскольку мешки можно было приносить издалека, они были особенно полезны в работах на каменистом грунте; при необходимости сооружения из мешков можно было быстро разобрать [174 - A military dictionary. Explaining all difficult terms in martial discipline, fortification, and gunnery. London, 1704. P. [CA]].
Мешки с шерстью — видимо, использовались в тех же целях, что и мешки с землей. Ласковский считает, что шерстяные мешки «были в употреблении только между немецкими инженерами; во Франции и Голландии мы не находим их ни в учебниках, ни в описании осад того времени» [175 - Ласковский. C. 98.]. Немецкий военный лексикон не объясняет, в чем была выгода от таких мешков, но утверждает, что они могли быть очень полезны наряду с фашинами и турами и имели размеры 3–5 футов в длину и 1–2 фута в ширину[176 - Fasch J. R. Kriegs- Ingenieur- und Artillerie-Lexikon. Niirnberg, 1726. S. 270.]. Судя по упоминаниям в источниках, шерстяные мешки считались достаточно легкой и надежной защитой от пуль, поэтому заготавливались в больших количествах русскими войсками. Для них закупалась шерсть овечья или более дешевая коровья: «Авечья шерсть ценою против коровьей в десетеро больше, а в мешках действие с коровьею равно имеят, того для вели посылать туда коровью шерсть, а не авечью», – писал Петр Т. Н.Стрешневу[177 - ПиБ. Т. 9. С. 119.].
Рогатки — шести- или четырехгранные брусья, пронизанные со всех сторон заостренными кольями. Предназначались для заграждения пути, быстро собирались и разбирались, легко переносились в собранном состоянии. В поле рогатками огораживались от кавалерии, в укреплениях ими перекрывали дороги и въезды, а также ставили на валы в качестве дополнительной преграды нападающим. В 1704 г. для полков под Нарвой должны были быть изготовлены и присланы брусья длиной 3 аршина 10 вершков (2,5 м) с 20 копьями, с помощью железных крюков на концах брусья смыкались, образуя протяженное заграждение[178 - Устрялов. Т. 4. Ч. 2. С. 306.]. В ходе осады, однако, войска занимались самостоятельным изготовлением рогаток по предоставленному образцу[179 - РГВИА. Ф. 2584. Оп. 1. Д. 6. Л. 3.].
Подготовка осадных операций русской армии, в частности, состав и количество припасов, отложилась в целом ряде источников разных лет. Генерал инженер Л. Н. Алларт по поручению Петра в октябре 1700 г. составил опись материалов и инструментов, необходимых для осады Нарвы[180 - Ласковский. С. 98; Hallart L.N. Das Tagebuch des Generals von Hallart uber die Belagerung und Schlacht von Narva, 1700. Reval, 1894. SS. 27–29.]. 400 шерстяных мешков такой величины, чтоб солдат мог нести спереди и прикрываться от неприятельских выстрелов из крепости. 100 тысяч малых земляных мешков. 200 больших шерстяных мешков, чтобы катить перед собою; в случае недостатка земли ими можно прикрываться на контрэскарпе и во рву. Ласковский считает, что подробности, в которые входит Алларт, описывая назначение мешков, означали, что они в то время не были у нас в употреблении. 30 000 фашин 6 и 7 футов длины. 4000 деревянных колотушек, вероятно, для прибивания фашин. 20 000 сосисонов от 16 до 18 футов длиною, в 12 или 15 местах связанных. 600 больших туров для образования прикрытий в редутах и батареях. Ласковский полагает, что эти туры были 7 футов высоты и фута 3 в поперечнике. 400 тележек или ящиков для переноски земли Алларт считал необходимыми по причине каменистого грунта земли, где приходилось производить более обширные работы из приносных материалов. 400 рогаток для постановки их перед апрошами; эти рогатки назначались преимущественно для охранения рабочих от вылазок; по окончании же работы и занятии траншей войсками, они снимались. Рогатки употреблялись также для усиления редутов, составлявших опорные пункты подступов. Также Алларту требовались 8000 лопат с железными наконечниками, 8000 кирок, 8000 мотыг, 400 железных ломов, 400 штурмовых лестниц с колесами и надлежащее количество батарейных досок, настилочных брусьев, гвоздей и т. п.
Заготовка, среди прочего, 50 мешков больших (4 сажени длиною и 7 английских футов в диаметре) для набивки шерстью, а также тысячи мешков, «чтоб одному человеку возможно несть и, на коленях стоя, закрыватца свободно» отражена в докладе Я. В. Брюса царю в декабре 1701 г.[181 - ПиБ. Т. 1. С. 877.] Во время второй осады Нарвы фельдмаршал Огильви жаловался А. Д. Меншикову, что просил 4000 шерстяных мешков, «но нашел при артиллерии только 300»[182 - Волынский. Кн. 3. С. 474.]. (Эти мешки за день до штурма принесли в апроши вместе с лестницами, фашинами и другими припасами, необходимыми «для генерального приступу»[183 - Гизен. Журнал Петра I с 1695 по 1709. С. 453.].) О заготовке шерстяных мешков (по-видимому, в рамках подготовки к будущему походу на Выборг или на Ригу) Петр отдавал поручения Т. Н. Стрешневу 29 декабря 1708 г.: «Поставить в Санкт-Петербурх: тысяча мешков холщевых с шерстью величиною, как человека, на коленях стоящего закрыть (в вышину и ширину) может»; в том же письме указывается заготовить 150 ООО «кулков лычных обыкновенных; шесть тысячь лопаток железных; две тысячи кирок и матык» [184 - ПиБ. Т. 8.4. 1. С. 382.]. Исходя из их немалого количества, можно предположить, что эти кульки из лыка заменяли обыкновенные мешки для песка.
В архиве Приказа Артиллерии сохранилась роспись припасов, взятых в поход под Нарву в 1704 г. Этот документ позволяет дополнить картину того, что в огромных количествах свозилось под стены осаждаемой крепости. Помимо собственно артиллерийских орудий, боеприпасов и принадлежностей, в осадный лагерь доставили необходимые для армии инструменты (буравы, долота, иглы, кирки и мотыги, ломы, лопатки и заступы, молотки, ножницы, пилы, тесла, терпуги, топоры, точила) и материалы (войлоки, веревки, гвозди, деготь, доски, железо, жир, канаты, клей, толченый кирпич, кожи, нитки, овчины, пенька и пакля, рогожи, смола, свечи, холст и шерстяное полотно)[185 - Архив ВИМАИВ и ВС. Ф. 2. Оп. 1. Д. 4. ЛЛ. 133 об. – 137 об.].
Самым распространенным строительным материалом были фашины, армия заготавливала их в округе непосредственно перед началом или уже в ходе осады. «За три или за четыре дни до начатия траншей около того времени, когда войско изготовится с своим лагерем и фуражем запасется, приказывается каждому батальону и эскадрону по нескольку фашин и кольев изготовить, а именно: всякой батальон должен от 2 до 3000, а всякой эскадрон от 1200 до 1500 зделать… Всякой корпус собирает по некоторому числу таких фашин перед своим лагерем и оные подле своих часовых хранит в особливых магазейнах»[186 - Вобан. С. 16.].
Для добычи такого количества хвороста был необходим обширный и легкодоступный лес или кустарник. Например, когда русская армия подошла под Нотебург, были сделаны особые распоряжения к заготовке леса и к охранению близлежащих лесов от вырубки неприятелем (лес был также необходим, чтобы за ним совершать перемещения скрытно от неприятеля)[187 - ПиБ. Т. 2. С. 85.]. До нас дошли приказы, из которых видно, сколько фашин и туров приходилось заготавливать войскам во время осад. Для атаки Митавского замка 16 августа 1705 г. каждому батальону Преображенского полка было велено сделать по 200 туров и по 600 фашин [188 - Походный журнал 1705 года. СПб., 1854. С. 11.]. Шереметев в донесении царю от 6 ноября 1709 г. из-под Риги упоминает, что войска «фашины два дня готовили» [189 - Ласковский. С. 303.]. Когда в марте 1713 г. было принято решение осадить Тенинген союзной русско-датско-саксонской армией, было приказано «приготовить в самой скорости 60 000 фашин в Швабстацком лесу на реке Трене длиною 12 футов, шириною в диаметре 1 фут и каждой фашине по три кола длиною от семи до шести фут. Чекмарей от четырехсот до шестисот и тысячю туров длиною по три фута и два фута в диаметре толщины» [190 - ПиБ. Т. 13. Вып. 1. С. 154.], причем половину этих припасов должны были заготовить русские полки. Под Штеттином 25 августа 1713 г. войскам было «велено изготовить к апрошам 300 000 фашин и 30 000 туров» [191 - Книга Марсова. С. 174.].
Доставка заготовленных припасов возлагалась на кавалерию. Например, при осаде Дерпта в 1704 г. драгуны Б. П. Шереметева занимались тем, что «возили в шанцы на батареи лесные припасы» [192 - Волынский. Кн. 3. С. 387.] При возможности для подвоза припасов использовали водные коммуникации. Подошедшая к Ниеншанцу армия привозила все необходимое водным путем: «…наши войска пушки, и мортиры и иные воинские приготовления непрестанно из судов, в которых оные из Шлисельбурка препровожены, на берег реки Невы выгружали и к скорому их употреблению на батареи, дабы оные поставлены были, попечение имели; также и туры, и мешки шерстяные и иные потребности, довольство в своих руках имеющее, непрестанно из судов выгружали ж и приготовление чинили, ожидая устроения в шанцах батарей и кеселей, которые зачаты строить сего числа [26 апреля 1703 г. – Б. М.] в ночи»[193 - Юрнал 1703-го года // Походный журнал 1703 г. СПб., 1853. С. 14.].
Согласно приказу, отданному под Нарвой 11 июля 1704 г., каждый день рано утром после пробития зори солдаты от каждого полка должны были приносить заготовленные ими туры и фашины и складывать на берегу в одном месте, откуда их грузили на лодки и везли к тому месту, где велись работы [194 - РГВИА. Ф. 2584. Оп. 1. Д. 6. Л. 1, 2.]. Очевидно, заготовка материалов велась ниже крепости по течению и ближе к устью р. Наровы; оттуда их доставляли наверх либо на левый берег для ведения апрошей либо на правый берег для строительства батарей.
Хворост для фашин русские солдаты рубили преимущественно топорами. Фашинные ножи как специфический инженерный инструмент в русских описях встречаются редко. В марте 1707 г. Петр распорядился изготовить и раздать в пехотные полки штыки («багинеты») с ножевидными лезвиями; предполагалось, что «вместо топора мочно ими рубить на фашины лесу» [195 - Сб. ИРИО.Т. 25. С. 21.].
Инструменты для земляных работ имелись в полках, а недостающие и дополнительные выдавались артиллерийским ведомством. Так, в 1705 г. перед осадой Митавского замка в августе 1705 г. по приказу царя из артиллерии было выслано 3000 лопат и 500 кирок с мотыгами [196 - ПиБ. Т. З.СС. 408, 895.]. Из письма Я. В. Брюса в Приказ артиллерии от 1 июля 1706 г. мы узнаем, что делавшиеся на тот момент для армии кирки и мотыги часто ломались, т. к. деревянные рукоятки были тонкими и не оковывались по концам железом. В связи с этим Брюс распорядился изготавливать лопаты, кирки и мотыги по шведскому образцу, видимо, более надежному[197 - Архив Брюса. Т. 2. СС. 116, 125, 130.].
Согласно Табели 1712 года, в каждом пехотном полку следовало иметь 200 топоров, 80 железных лопаток с кожаными нагалищами (чехлами), «дабы возможно было по случаю солдатам нести на себе»; 80 кирок и мотыг. У драгун на тысячу строевых чинов приходилось 800 топоров, 100 железных лопаток и 100 кирок[198 - Татарников К.В. Русская полевая армия 1700–1730. М., 2008. С. 152.]. Штатное количество шанцевого инструмента в полках в начальный период войны мы не знаем. Зато знаем, что в 1709 г. на каждый пехотный полк полагалось по 200 лопаток и 100 кирок; 23 мая 1709 г. было составлено «Ведение» о том, сколько кирок и лопат было выдано в полки дивизий Меншикова, Репнина и Алларта, сколько имелось фактически и сколько не хватало[199 - Труды РВИО. Т. 3. СС. 178–179.]. Из 2500 лопаток в этих трех дивизиях налицо осталось лишь 1273, из 1250 кирок – 660; в артиллерии хранилось еще 3099 лопат и 1755 кирок [200 - Молтусов В.А. Полтавская битва: Уроки военной истории. 1709–2009. М., 2009. С. 240.].
Как любое военное имущество, шанцевый инструмент терялся, ломался и приходил в негодность. В период, когда вся армия активно возводила инженерные сооружения в окрестностях Полтавы, исправность и наличие инструмента становились особой заботой командиров. Свидетельством тому служит серия приказов по Лейб-гвардии Семеновскому полку за июнь 1709 г. 11 июня: «Подать ведомость: лопатки железные все-ль целы и нет-ли ломаных? Сделать на роту по двадцати лопаток деревянных, как-бы можно с собою возить»[201 - Архив кн. Ф. А. Куракина. Кн. 3. СПб., 1892. С. 114.]. 14 июня: «Кирки и железные лопатки присадить на черенья и деревянные раздать по рукам» [202 - Там же. С. 115.]. 25 июня: «К походу быть в готовности; взять с собою хлеба на сутки, да на каждого человека по фашине; кирки и лопаты взять все с собою-ж» [203 - Там же. С. 121.]. По окончании военных действий с полным разгромом противника в июле было написано «Известие», сколько в ротах Семеновского полка осталось «добрых и худых» инструментов: «Итого… кос 24, ломаных 18, кирок 7, потеряно 15, лопаток 61, потеряно 53, топоры налицо 221, потеряно 92, переломано 100 топоров» [204 - Там же. С. 133.].
Еще одним расходным материалом был фитиль, который применялся гренадерами и артиллеристами. Этот пропитанный специальным составом шнур держали на постах тлеющим для поддержания постоянной боевой готовности. Какова была «фитильная издержка», мы узнаем у Сен-Реми: «Всякая сажень по 5-ти футов длиною, которая может гореть 12 часов», то есть в час чуть более 10 сантиметров [205 - Сен-Реми. Т. 2. С. 248.]. По подсчетам Монтекукколи, в час уходило в два раза больше, 9 дюймов[206 - Монтекукколи. С. 57.]. Во время сидения в Гродненском лагере в 1706 г. русские артиллеристы постоянно ожидали нападения шведов и извели большое количество фитиля: «Еще имеем нужду в фитиле, дабы оного изготовить 300 или 400 пуд. Понеже по неприятельском приходе принуждены были оной денно и ночьно жечь, от чего гораздо ево много изошло»[207 - Архив Брюса. Т. 2. С. 91.]. О большом расходе фитиля в траншеях под Полтавой упоминает в своем дневнике шведский фенрик Роберт Петре, которому король Карл лично приказал потушить фитиль ради экономии[208 - Дневник Р. Петре. С. 389.].
Израсходованные в ходе осады боеприпасы должны были пополняться из главного артиллерийского парка, как о том писал Б. П. Шереметев Я. В. Брюсу под Полтавой 18 июня 1709 г.: «Господам генералам предложено, дабы они от полков, которые у кого в дивизии обретаются, вместо выпаленных патронов с пули в опрошах и фитиль и иные к тому военные припасы требовали из артиллерии и того ради прислали б ведомости за своими руками. И когда оные господа генералы такие росписи пришлют, извольте приказать из артиллерии отпускать» [209 - Труды РВИО. Т. 3. С. 202.].
Все эти приготовления к осаде требовали значительного напряжения человеческих сил, решения сложных логистических проблем и, конечно же, значительных финансовых затрат. Огромное количество материалов, сил и средств стягивалось под атакованную крепость в осадный лагерь.
Осадный лагерь и его защита
Коль скоро мы много цитируем документы эпохи с их непростой речью, стоит остановиться на нескольких знакомых нам терминах, значение которых за последние три века изменилось. Осада в петровских документах часто называлась «белаге[а]р»[210 - ПиБ. Т. 2. С. 85.], от немецкого belagerung. А лагерь в современном понимании этого слова, т. е. расположение войск в поле с палатками, назывался русским словом «обоз». Заодно отметим, что выражение «бивак» (впрочем, в петровском лексиконе нам не встретившееся) в европейской военной терминологии обозначало расположение войска на ночь вне города и без палаток в полной боевой готовности[211 - Fdsch J. R. Kriegs- Ingenieur- und Artillerie-Lexikon. Nurnberg, 1726. S. 177; A military dictionary. London, 1704. P. [BE]; Richelet P. Nouveau dictionnaire fran^ois. Amsterdam, 1709. P. 149.]. В этой главе речь пойдет об «обозе».
Расположившись под стенами крепости, осаждающая армия подвергалась опасности с двух сторон: из крепости делал вылазки гарнизон, а извне попытаться снять осаду могла неприятельская полевая армия (т. н. «сикурс»). Защитой от вылазок служила контрвалационная линия – непрерывные валы, обращенные к осажденной крепости. Чтобы обезопасить осаждающие войска от неприятеля вне крепости, можно было огородиться сплошной циркумвалационной линией. Строительство линий считалось на рубеже XVII и XVIII вв. общеупотребительной практикой, однако у этих укреплений были свои недостатки, из-за которых от возведения циркум- и контрвалационных линий отказались уже в годы Северной войны. К недостаткам мы обратимся ниже, когда будем рассматривать случаи попыток снятия осады сикурсами извне, а пока попробуем представить, как выглядел осадный лагерь, обнесенный укрепленными линиями.