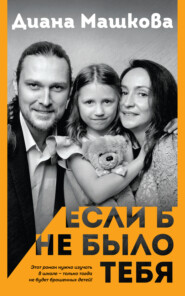скачать книгу бесплатно
Все равно, что будет потом. Сейчас нужно быстрее уйти, не видеть ребенка, не думать о нем. Дай бог, чтобы ему попались хорошие родители. Новорожденных да здоровеньких усыновляют быстро. Все сложится. А ей тут не место – нигде не место. Да и нет больше сил. Выпить хочется так, что нутро горит.
Глава 3
– Зачем вам это нужно?
«Пятнадцатая», – про себя отметила Маша. Когда бы ни заходила речь об усыновлении – во время бесед в опеке, в разговоре с близкими родственниками, – все, как один, задавали этот вопрос.
Она успела пожалеть о том, что сболтнула лишнего во время интервью с психологом. Теперь, когда программа выйдет в эфир, в полку задающих вопросы прибудет стократ. И кто только просил ее сознаваться в том, что она учится в школе приемных родителей? Маша бросила взгляд на пульт, убедилась, что запись закончена, и сняла с головы наушники. Нужно будет попросить ребят вырезать и уничтожить этот фрагмент, пока не поздно.
– У нас с мужем есть возможность, – объяснила она и тут же устыдилась того, что оправдывается перед гостьей.
Даже самой себе Маша, как ни пыталась, не сумела пока ответить на этот вопрос. Знала, что прекрасно доживет остаток своих дней и без оравы детей: будет работать, путешествовать, тратиться на приятные мелочи, наслаждаться жизнью, в конце концов. Дело было не в ее горячем желании «завести ребенка». Она поморщилась от нелепого сочетания слов: и кто только выдумал выражаться так, словно в семье появляется не личность, а котенок или щенок. Ей банально не давали покоя мысли о детях. Планируя день, она мысленно отмечала, как много теперь в ее графике не занятого работой времени: много лет упорно добивалась этой свободы, чтобы проводить больше времени с Дашей. А девочка тем временем выросла, ей больше не нужна мама каждую минуту. Гуляя с мужем по разноцветной детской площадке, на которой красовались хитроумные горки, лесенки, лабиринты и миниатюрные замки для малышни, она думала о том, как здорово здесь играть. Убираясь в доме, мысленно превращала гостевую комнату в детскую и представляла себя за чтением детских книг – Драгунского, Носова, Успенского. Дашка давно собрала все это богатство и запрятала на антресоли книжного шкафа. Ей казалось, переросла. А Маше так хотелось посмеяться над историями своего детства вместе с ребенком. Забивая продуктами кладовую после очередной поездки в магазин, размышляла, скольких еще детей они смогли бы прокормить. Выходило, что двоих точно, без особых усилий…
Но ведь недостаточно для усыновления только этого желания поделиться? Острой потребности помочь маленькому человеку? Должно быть, наверное, что-то большее: неукротимый материнский инстинкт, горячее желание обладать. Как ни старалась Маша, нащупать подобной страсти в себе не могла. Не было у нее иллюзий обязательного и моментального счастья с появлением малыша – слишком хорошо знала о том, как непросто растить детей.
– Не понимаю. – Дама вскинула брови.
– Нам бы хотелось кому-то помочь… Поделиться тем, что имеем.
Маша разозлилась на себя: неубедительно прозвучало. Глупо. Могла бы со своим почти пятнадцатилетним радийным опытом и не допускать таких осечек.
– Не возражаете, я скажу свое мнение? – высокомерно перебила профессорша. – Не для эфира.
– Конечно, – уже предчувствуя продолжение, Маша внутренне напряглась.
– Теория малых дел – вот великая сила! Вы лучше позвольте своему ребенку вырасти так, как нужно. Облагодетельствуйте своих. А в желании взять на себя чужую ответственность нет ничего хорошего.
Маша почувствовала, как щеки ее стали пунцовыми: в том же самом, разве что другими словами, убеждал ее собственный муж. Она опустила глаза. Профессорша продолжала смотреть на собеседницу с интересом, ожидая продолжения профессионально увлекшей ее беседы.
– Когда рожаешь, берешь на себя ту же ответственность. – Маша спокойно, но твердо возразила.
– Нет, это другое! – Разговор все больше распалял гостью. – Я вижу многих детей, которых взяли, и вижу, как это происходит. Больно потом и родителям, и ребенку.
– Что, возвращают в детские дома?
– Не обязательно возвращают. – Психолог вздохнула. – Просто не возникает контакта. Не совпадают люди по характерам, по типам, по многим качествам.
– А со своим всегда совпадают? – Маша усмехнулась: в памяти возникла череда ссор и скандалов с Дашкой.
– Родные дети – это другое дело, – изрекла профессорша, не вдаваясь в подробности. – Но взять ребенка из детского дома… Желание облагодетельствовать весь мир грозит ущербом своей семье.
Маша долго молчала. Гостья застыла в позе победительницы.
– Но ведь кто-то должен усыновлять? – отведя взгляд, спросила Маша.
– Есть специальные семьи, – отмахнулась гостья, – родители с педагогическим и медицинским образованием получают деньги за воспитание сирот. Отличная идея. Разновозрастный коллектив из шести-семи детей.
– Таких семей слишком мало.
– Может, и так, – психолог пожала плечами, – но к воспитанию нужно подходить осознанно. Профессионально. А у нас чаще всего и своих-то не умеют принять. Не то что чужих.
– Почему? – Маша замерла.
– Не любят! Не понимают. Вы знаете, с каким лицом матери смотрят на своих плачущих младенцев? В них столько раздражения, злобы! А ребенок в возрасте двух-трех месяцев уже прекрасно считывает выражение лица взрослого человека. У нас принято считать, что, мол, «он еще ничего не понимает». Зато чувствует даже слишком остро.
– Но ведь если женщина одна, с младенцем на руках, без возможности заработать и выжить, она не может улыбаться. Ей самой…
– А для матерей у меня оправданий нет! – не позволив договорить, профессорша включила менторский тон. – Ответственность за ребенка должна быть всегда. Начиная с первого мгновения отношений с мужчиной. Если этого нет, нужно научиться пользоваться презервативами.
Праведный гнев добродетельной женщины не оставлял сомнений: жизнь ее баловала. Не было в судьбе ни беззащитного одиночества, ни крайней бедности, ни врачебных ошибок. Маша жалела несчастных младенцев до слез, до сердцебиения, но сочувствия к брошенным и отчаявшимся матерям это не умаляло.
– Понятно…
– За свои поступки, за свою жизнь, за своего ребенка винить можно только себя! Это выбор взрослого человека, – не унималась гостья.
– Жизнь многолика. Я бы не стала судить.
Маша быстро поднялась, давая понять, что беседа окончена. Гостья взглянула на большие электронные часы в студии и обиженно встала с места.
– Уже четыре. Мне давно пора.
– Вас проводить?
– Я помню дорогу. – Психолог на несколько секунд задержала на Маше прищуренный взгляд и все же не удержалась: – Не надо вам усыновлять. Эти дети не оправдывают ожиданий родителей. Они не обязаны вас любить.
– А мы ничего не ждем, – Маша смотрела пожилой женщине прямо в глаза. – Просто есть желание помочь человеку выжить. И все.
– Тогда это опека, – профессорша обрадовалась возможности зафиксировать наконец «ничью», – если вас устроит просто дать путевку в жизнь. В семье, конечно, больше возможностей. Только, бога ради, не настраивайтесь на то, что он станет родным.
– Спасибо за совет.
– Будут вопросы, звоните.
– Конечно.
Они церемонно распрощались и дали друг другу обещание «оставаться на связи». Еще одна глупая и ничего не значащая формула новой речи. Маша твердо знала, что профессорше она больше не позвонит. Ей до смерти надоели пустопорожние рассуждения. Если бы эта дама вырастила хотя бы одного усыновленного ребенка, ее можно было бы выслушать, а мудрый совет – принять. В противном случае она, Маша, предпочитала роль неверующего Фомы. Когда ей в следующий раз понадобится комментарий психолога, попросит редактора пригласить кого-нибудь другого: желающих оказаться в эфире солидной радиостанции пруд пруди. А с этой дамой она не желала больше говорить как минимум до тех пор, пока у нее не появятся жизненные опровержения или подтверждения сказанных ею слов.
Маша заглянула в комнату к редакторам: продемонстрировать трудовое присутствие, перекинуться парой слов, а заодно сочинить вступительную часть к интервью. Она болтала, смеялась, шутила, но в голове все еще звучала фраза «Вы лучше позвольте своему ребенку вырасти так, как нужно». Вернулась в студию, записала подводки к программе и попросила при монтаже удалить все, что касалось детей-сирот. Ребятам можно довериться: сделают как нужно и не станут болтать лишнего. Потом спустилась в буфет выпить кофе.
В глубине души Маша знала, что профессорша права: нельзя ей никого усыновлять. Она не сумела как следует воспитать собственную дочь, а значит, попросту не имеет морального права на приемных детей. До сих пор Маша не могла отделаться от чувства вины перед Дашей за многие ошибки своей юности. И главная из них заключалась в том, что не мечтала она о дочери, не ждала малыша. Занятия в школе приемных родителей только подтвердили худшие опасения: мысли и чувства матери во время беременности и во время родов материальны – от них зависит не только характер, но и будущее ребенка. Совсем не так, как случилось это в ее жизни, дети должны появляться на свет.
Время от времени Маше казалось, что решение кого-то усыновить – это желание искупить ту давнюю вину перед Дашей. Но она тут же отбрасывала глупые мысли: дочь ни при чем! Ни размышлять, ни поступать так нельзя. Не должен ребенок играть роль лекарства для больной души: важно сначала излечиться самой, а потом уже втягивать в семью беззащитных детей.
Да и нужно ли это ей? Дашка принесла с собой такой разнообразный жизненный опыт, что его хватило бы на нескольких матерей. Все в жизни Марии Молчановой случилось: и родительские радости, и материнские слезы. Разве что с годами потерялось чувство осмысленности. Пока приходилось бороться за любимого человека, за место в этом мире и за саму жизнь, было не до мыслей о чужих бедах. А потом наметилась предательская стабильность – время смирения и покоя. Она уже не стала актрисой, как мечтала, и этого нельзя было изменить. Зато сделала выбор в пользу другой профессии. Перепахав все мыслимые нивы вещания в юности – от сводок новостей до рекламы, – Маша наслаждалась теперь тем, что нравилось ей больше всего: брала интервью у людей, которые были интересны радиостанции по определению или в свете важных событий. Она давно прекратила погоню за деньгами – насущные бытовые проблемы они с Олегом решили, а сходить с ума по тряпкам, менять каждые пару лет машину или бредить каким-нибудь домиком в Альпах ей было скучно. Жизнь в достатке необходима – она это знала, пройдя через унизительную нищету, – но бесконечное стремление к деньгам приводит к рабству: человек перестает принадлежать самому себе. Слишком часто Маша находила тому подтверждение в беседах с успешными и баснословно богатыми людьми – президентами, собственниками, инвесторами, чьи фамилии украшали список Forbes. Сама она высоко ценила свободу и не собиралась забивать голову тем, как заработать, а потом потратить очередной миллион. В профессии достигла своего идеала – делала только то, что любила, выкладывалась максимально и получала за эту работу столько, сколько было нужно, чтобы спокойно спать по ночам.
Именно вместе с этим состоянием стабильности и пришло желание кому-то помочь. Первая мысль – деньгами и собственным временем. Маша изучила несколько сайтов благотворительных организаций, которые работали с детьми-сиротами, написала в оргкомитеты, предложив себя в качестве волонтера. Ответа не было. Тишина.
Стала обращаться напрямую к директорам детских домов. В одном попросили купить фотоаппарат, в другом заказали цветы к празднику, в третьем был нужен автобус. Маша долго ломала голову, как реализовать эту идею с теми деньгами, которые у нее были, искала подержанные машины в хорошем состоянии, но при всем желании нужной суммы не набралось. В итоге договорились, что деньги, сколько есть, она переведет на счет приюта – брать наличными категорически запрещалось, – а директор самостоятельно решит вопрос. Долго и нудно выпрашивала номер счета. Десять раз дополнительно звонила, чтобы получить необходимые реквизиты. Наконец, устав и измучившись, отправила перевод через банк. Позвонила через три дня в детский дом, ей ответили, что деньги не поступали. То же самое услышала через неделю, через две, через месяц… Походы в банк и выяснение обстоятельств результата не принесли: сотрудники вежливо отвечали, что деньги были успешно переведены на указанный счет. Все, как она хотела. Чей это был счет и во что превратились в результате ее накопления, Маша так и не узнала.
Олегу о своих приключениях она решила не говорить – представляла себе его реакцию. И, конечно, он был бы прав.
Но для себя за время походов по детским домам сделала вывод: деньгами ничего не решить. Многие московские директора показывали ей шкафы и кладовые, забитые под потолок игрушками и одеждой от спонсоров. Люди несли и несли. Часто не то, что было нужно. А как-то раз, плутая по коридорам в поисках кабинета администрации, Маша столкнулась с детьми. Ребята, лет восьми-десяти, профессионально быстро отсканировали новое лицо. И разочарованно отвернулись, моментально утратив интерес. Каким-то чудом они за долю секунды поняли, что эта женщина пришла не с тем, что им было нужно. Она услышала за спиной презрительное «спо-о-онсор» и вздрогнула. Ей вдруг стало стыдно. Только тогда и поняла, чего именно ждут эти дети. Ни книгами, ни тетрадями, ни игрушками, ни фотоаппаратами нельзя было избавить их от гнетущего чувства одиночества, пустоты и ненужности в мире взрослых, которые наивно и безразлично решили, что все проблемы можно компенсировать их любимым способом – деньгами.
Тогда Маша и поняла то, о чем догадывалась с детства: единственная возможность помочь – это дать другую жизнь. Не может ребенок вырасти вне семьи. Не станет он человеком, способным устроить собственную судьбу, если рядом не будет любящих близких людей. Понятно, что с детдомовскими детьми никогда и никому не бывает легко – слишком много врожденных и приобретенных болезней, глубоких психологических травм. Долгие годы она боялась, что не справится. Считала непозволительным нарушить главный принцип жизни человека в обществе, о котором и говорил Олег, – «не навреди».
Маша никогда не говорила о себе, что она хорошая мать. Скорее наоборот. Ее собственная дочь даже появилась на свет так же, как большинство детдомовских детей – вовсе не по горячему желанию молодых родителей. Так случилось, и все. И были сомнения, было отчаяние… Если начистоту, все Дашкины подростковые выверты, начитавшись задним числом умных книг, Маша списывала теперь на тяжелый пубертатный период и собственные ошибки. Бесконечно много их было сделано в юности, пока дочка была младенцем. Вместо того чтобы постоянно носить малышку на руках, угукать с ней, читать книги вслух, петь забавные песенки, Машка хотела чего-то добиться в жизни. Она не до конца приняла на себя роль матери. Тогда, конечно, казалось, что делается великое дело, приобретается новая профессия взамен утраченной. Мысли – мыльные пузыри.
Лучше бы она составила список сказок, которые нужно прочесть дочери, собрала коллекцию музыки, чтобы с ней вместе слушать, сама научила ее всему, что нужно в жизни – от мытья посуды до умения получать информацию, – и позволяла малышке быть рядом с ней столько, сколько нужно. Но она полагала, что ребенку нужна «свобода», не стоит перегружать маленького человека влиянием мамы. А что, если это всего лишь родительский эгоизм, нежелание возиться с малышом и выполнять дополнительную работу? Надо было все делать вместе, подсказывать, направлять. Лет до пяти малышу все интересно, он не знает лени. Теперь уже поздно и даже бессмысленно ругать Дашку за то, что у нее хронически не заправлена постель («все равно вечером снова ложиться»), что комната вверх дном («не нравится, не заходи»), что учеба непонятна и неинтересна. Ее ребенок не научился трудиться. Она, Маша, не научила.
Разве таким женщинам доверяют детей? Разве не из страха не соответствовать она так и не смогла решиться на рождение второго, третьего малыша?
И она сомневалась не только в себе. Для Олега Дашкино детство и вовсе прошло незаметно. Он безропотно помогал молодой жене – делал все, о чем она его просила. Приятельницы, которым куда меньше повезло со «второй половиной», не раз объясняли Машке, что ее супруг – идеал. Но лишнему часу общения с ребенком он всегда предпочитал компьютер или книгу. Неудивительно, что теперь, когда Даша выросла, картина стала зеркальной: несмотря на желание матери и отца проводить больше времени с дочерью, она не нуждалась в их обществе. А требовать от подростка внимания и общения было бесполезно – все это нужно ребенку, пока он растет. Их время прошло.
Глава 4
Аннушка появилась на свет теплым весенним днем. Распахнула глазки, покричала, как полагается, и тут же уснула. В роддоме ее так и прозвали – Соней. Малышка получилась хорошенькая: светленькая, с вьющимися волосиками и любопытными глазами-пуговками. Только Аннушка редко их открывала, все больше спала. За это няньки ее и любили.
Девочка без труда освоилась в новом мире. Узнавала мамин запах среди многих других и тут же начинала крутить головкой в поисках молока. Нежное тело, теплые руки, мягкая грудь – все было рядом. Аннушка сосала изо всех сил, а когда наедалась, продолжала лежать у мамы на руках в сладкой полудреме. Мама ей улыбалась. Прижимала к себе и укачивала. Обе были счастливые и засыпали вместе, посапывая. Но тут обязательно прибегала какая-нибудь нянька, кричала: «Нарушаете технику безопасности! Положите ребенка в бокс!» Мама никогда не злилась, виновато просила прощения, переодевала Аннушку в сухую пеленку и перекладывала в кроватку.
Но настало утро, когда все в жизни Аннушки изменилось. Сначала ее забрали у мамы. Замотали так туго, что нельзя было даже дышать, завернули в одеяльце и понесли по белым извилистым коридорам. Девочка кричала что было сил.
– Вас на машине встречают? – звонкий голосок весело полетел к потолку.
Мама стыдливо опустила голову – новенькая медсестра, ничего не знает. Надо же, никто не рассказал.
– Ну что вы! Мы так…
Услышав мамин голос, Аннушка тут же успокоилась.
– Опаздывает папаша?
– У бати нашего характер такой. – Мамаша, приняв дочку из рук удивленной медсестры, попятилась к двери. – Спасибочки! Мы пойдем.
– Но как же… – девушка забеспокоилась, – так неправильно.
– Ничего, ничего. На улице подождем!
Выпустили их на волю. А там солнце, трава. Аннушке на лицо упал первый луч, и она зажмурилась. Завертела головкой.
– Что ж ты прячешься, – мама тихонько засмеялась, – смотри, как красиво.
Она приподняла дочку, показывая деревья, дома. Покрутилась с ней.
– В городе хорошо, – мечтательно вздохнула, – и братики твои где-то здесь. Ходят, наверное, в детский сад.
Она вдруг запнулась и замолчала. Воровато оглянувшись, побрела с Аннушкой от роддома и вышла из ворот. Медсестра, приоткрыв дверь, печально смотрела ей вслед. Конечно, все по-своему поняла: нет никакого мужа. Жалко ей стало Аннушку-Соню, маленького ангелочка. Что там ждет ее впереди?
Впервые в жизни Аннушка – мама сразу ее так назвала, давно хотела в честь бабушки – ехала по городу в трамвае. Потом впервые в жизни спала в электричке. А потом долго-долго тряслась на руках у матери, пока та шла через поле, исправно спотыкаясь о каждую кочку. После электрички пахло от мамаши уже по-новому. Не молоком. Так же, как от темной бутылки, к которой она то и дело прикладывалась, сидя на деревянной скамье в вагоне. Девочка хотела есть, всю дорогу от станции до деревни плакала. Но родительница, казалось, голодного крика не замечала. Только в конце пути Аннушку укачало. Так и попала домой в беспамятстве.
Очнулась малышка в старой кроватке посреди ветхой избы. Потемневшие бревенчатые стены, деревянный потолок в огромных щелях, заросшее паутиной и пылью крохотное окно и два склонившихся над кроваткой расплывчатых овала с красными пятнами ртов. Маму Аннушка узнала – слабый запах молока робко пробивался сквозь противную вонь, добираясь до голодных ноздрей. Она наморщила носик и хотела заплакать. Но мамаша наконец сообразила – взяла ребенка на руки и сунула ей набухшую грудь. Малышка скривила недовольно крошечный рот – молоко оказалось горьким, – но все равно продолжала сосать, скорбно нахохлившись.
Она наелась, а мамаша, запахнувшись, попыталась передать ее на руки чужому существу.
– Чего ты мне ее суешь? – Голос был гулкий и страшный, словно не из этого мира.
Аннушка снова захныкала.
– Ну, как же, Вась, дочка твоя. – Мать говорила заплетающимся языком.
– Зачем она мне? – новоиспеченный отец сплюнул на грязный пол. – Сама притащила, сама и возись. Я не просил.
Мамаша опешила.
– Так ведь ребенок…
– Мне дети не нужны! Я тебе сто раз говорил!
– Говорил… А сам все лез под подол: «давай, давай».
– Ты баба, значит, твоя забота! Нечего было рожать.
– Нельзя так, Вась. Страшный грех.
– Тогда убери с глаз долой!
– Куда же ее, маленькую?
– Откуда я знаю?! Нам и самим жрать нечего. Государству отдай! Накормят-напоят. По радио слыхала? Больше миллиона в год тратят на ребенка в детдоме. Это какие денжищи, а? Они там как сыр в масле катаются.
– Нехорошо, – мамаша покраснела, – по мамке будет тосковать.
Она положила притихшего младенца в кроватку.
– Ничего, привыкнет! А квартира? Сиротам жилье дают, и ты бы на старости лет пристроилась. Домишко твой долго не протянет.
– Какая же Аннушка сирота? – мамаша говорила теперь шепотом. – При живых отце с матерью…
– А государство спросило, как нам живется?! Мы им детей, а они на нас класть хотели! Вот пусть и воспитывают.
– Вась? Свою родную кровинушку…
– Откуда мне знать, моя – не моя?! Может, твой благодетель Петр Егорыч отметился! А я ни при чем.
Василий не дал возразить – вскочил из избы, со всей силы захлопнув дверь.
Вернулся пару часов спустя, уже пьяный, подобревший, с ополовиненной бутылкой водки. Уселся за шаткий стол. Прикрикнул на мать, чтобы накрывала. А в доме шаром покати – за три дня, что она в роддоме лежала, он все остатки подъел. Нашлось только немного муки и масла. Повязав застиранный до дыр передник, мамаша начала печь лепешки.
– Пока ты там прохлаждалась на всем готовом, я тут с голоду чуть не помер! – пожаловался Василий, жадно глядя на ловкие женские руки.