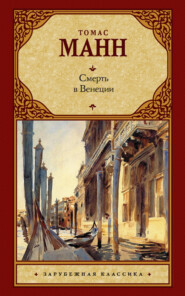скачать книгу бесплатно
Еще один день кончился, день, который, слава богу, нельзя упрекнуть в отсутствии наполнения; наступил вечер, шторы на окнах задернуты, на письменном столе горит лампа, уже почти полночь. Можно пойти спать, но ты, развалившись в кресле и положив руки на колени, упорно продолжаешь сидеть, смотреть в потолок и покорно следить за тем, как тебя буравит и пожирает какая-то полунеопределенная боль, которую не удается отогнать.
Всего пару часов назад я находился под воздействием большого искусства, одного из тех жутких, жестоких творений, которые с порочной напыщенностью кричаще гениального дилетантизма сотрясают, оглушают, истязают, дают блаженство, повергают в прах… Нервы еще дрожат, фантазия взбаламучена, волнами во мне плавно вздымаются редкие ощущения – тоски, религиозного рвения, триумфа, мистического мира, – и появляется потребность, все подстегивающая их, желающая их выстегнуть, потребность выразить эти ощущения, поделиться ими, показать, «что-нибудь из этого сделать»…
А что, если бы я в самом деле был художником, способным выразить себя в звуке, слове или зрительном образе, – а честно говоря, лучше во всем сразу? Но ведь это правда, я могу по-всякому! Как удачный пример – могу сесть за рояль и в тихой комнатке прекрасно излить свои чудесные чувства, и в общем-то этого мне должно бы хватать – ведь, чтобы быть счастливым, я, кажется, не нуждаюсь в «людях»… Предположим, все так и есть! Но вот если допустить, что мне чуть-чуть важен успех, слава, признание, похвалы, зависть, любовь?.. Ей-богу, вспоминая хоть ту сцену в салоне Палермо, должен признать, сейчас подобное несравненно благотворно подбодрило бы меня.
По здравом размышлении, не могу не согласиться с софистической и смехотворной разницей – между понятиями «внутреннее» и «внешнее» счастье. «Внешнее счастье» – что же это, собственно, такое? Бывают люди, баловни судьбы, счастье которых, судя по всему, состоит в гении, а гений – в счастье, люди света, которые легко, прелестно, обаятельно порхают по жизни с отражающимся, играющим в глазах солнцем; а вокруг них все теснятся, ими все восхищаются, завидуют, хвалят, любят, поскольку даже зависть не в состоянии их ненавидеть. Они же смотрят в жизнь, как дети, насмешливо, избалованно, надменно, с солнечной приветливостью, уверенные в своем счастье и гении, словно иначе и быть не может…
Что до меня, признаю свою слабость: я был бы не прочь принадлежать к числу таких людей, и мне все хочется думать – не важно, по праву или нет, – будто некогда я к ним и принадлежал, совершенно «не важно», ибо, давайте уж начистоту: все дело в том, за кого человек себя держит, как себя подает, кем у него хватает уверенности подать себя!
Может быть, все так и есть: я на самом деле отверг «внешнее счастье», отказавшись от службы «обществу», устроив свою жизнь без «людей». Однако в моем довольстве моей жизнью, само собой разумеется, нельзя усомниться ни на миг, в нем не возможно усомниться, никто не вправе в нем усомниться, ибо, повторю, и повторю с отчаянной настойчивостью: я хочу и должен быть счастлив! Понимание «счастья» как своего рода заслуженного вознаграждения, таланта, возвышенности, обаяния и понимание «несчастья» как уродства, чего-то презренного, что боится вылезти на свет, одним словом, чего-то жалкого, во мне, если честно, слишком глубоки, чтобы я мог уважать себя, будучи несчастлив.
Как же я могу позволить себе быть несчастным? Какую же роль в таком случае мне играть перед самим собой? Разве не пришлось бы мне тогда схорониться во тьме какой-нибудь летучей мышью, сычом и с завистью высматривать «людей света», обаятельных счастливцев? Мне пришлось бы возненавидеть их той ненавистью, которая есть не что иное, как отравленная любовь, – и презирать себя!
«Схорониться во тьме»! Ах, и сразу вспоминается все, что я думал, чувствовал в течение стольких месяцев в связи со своей выключенностью и «философским уединением»! И снова дает о себе знать страх, злосчастный страх! И сознание некоего негодования перед лицом мощной угрозы…
Несомненно, нашлось какое-то утешение, отвлечение, обезболивающее средство и на этот раз, и на следующий, и потом. Но оно возвращалось, все это, тысячи раз возвращалось на протяжении месяцев и лет.
XI
Бывают осенние дни, подобные чуду. Лето ушло, за окном давно желтеет листва, на улицах уже много дней свистит по углам ветер, а в сточных канавах бурлят грязноватые ручьи. Ты уже смирился, ты уже, так сказать, подсел к печке, чтобы перепустить зиму, но в одно прекрасное утро, проснувшись, не веря своим глазам, замечаешь, как сквозь щель между шторами в комнату пробивается узкая полоса сверкающей синевы. В полном изумлении ты вскакиваешь с постели, открываешь окно, тебе навстречу мчится волна трепещущего солнечного света, и одновременно сквозь уличный шум ты различаешь болтливый, задорный птичий щебет, а у самого на душе так, будто вместе со свежим и легким воздухом первого октябрьского дня ты вдыхаешь несравненно сладкую, многообещающую пряность, вообще-то свойственную майским ветрам. Весна, совершенно очевидно, что весна, вопреки календарю, и ты набрасываешь одежду, торопясь под мерцающее небо, на улицы, на простор…
Такой нечаянный, примечательный день выдался месяца четыре тому назад – сейчас у нас начало февраля, – и в этот день я увидел нечто удивительной прелести. Я вышел до девяти и, исполненный легкого, радостного настроя и неопределенной надежды на перемены, неожиданности и счастье, взял курс на холм Жаворонков. Я поднялся справа и прошел вдоль всего хребта, не отклоняясь от края главной эспланады, низенькой каменной рампы, чтобы в продолжение всего пути, занимающего около получаса, беспрепятственно видеть ступенчато спускающийся город и реку, излучины которой блестели на солнце, а за ними в солнечной дымке растворялся холмистый зеленый ландшафт.
Наверху еще почти никого не было. Вдоль дорожки одиноко стояли скамейки, то и дело из-за деревьев, мерцая белизной в солнечных лучах, выглядывали статуи, хоть время от времени на них плавно падали увядшие листья. Тишину, к которой я прислушивался при ходьбе, устремив взгляд в сторону, на светлую панораму, ничто не нарушало до самого края холма, где дорожка между старыми каштанами уходила вниз. Тут позади послышался быстро приближающийся стук лошадиных копыт и хруст гравия под колесами экипажа, которому где-то посередине спуска мне пришлось уступить дорогу. Я отошел в сторонку и остановился.
То была маленькая, совсем легкая двухколесная охотничья коляска, запряженная двумя крупными, лоснящимися, энергично фыркающими гнедыми. Поводья держала молодая дама лет девятнадцати-двадцати, возле которой сидел пожилой господин внушительной, благородной наружности с седыми, зачесанными вверх усами ? la russe[4 - На русский лад (фр.).] и густыми седыми бровями. Слуга в простой черно-серебристой ливрее украшал собою заднее сиденье.
В начале спуска лошади перешли на шаг, так как одна из них занервничала и забеспокоилась. Она сдвинулась влево в дышле, пригнула голову к груди и с таким судорожным упорством переставляла стройные ноги, что пожилой господин, несколько встревожившись, наклонился, дабы элегантной левой рукой в перчатке помочь молодой даме натянуть поводья. Управление коляской, судя по всему, было поручено ей на время и полушутя, по крайней мере она правила с какой-то детской важностью и вместе с тем неопытно. Пытаясь успокоить боязливое, упирающееся животное, она в серьезном негодовании слегка повела головой.
Девушка была стройной шатенкой. Волосы, повыше затылка стянуты в тугой узел, на лбу и висках лежали легко, свободно, так что виднелись отдельные светло-каштановые пряди, их покрывала круглая темная соломенная шляпка, украшенная лишь тонким плетением из лент. Одета девушка была в короткий темно-синий жакет и простого покроя юбку из светло-серой ткани.
На овальном, утонченных линий нежно-смуглом лице, посвежевшем и порозовевшем на утреннем воздухе, самым привлекательным, без сомнения, являлись глаза: пара узких, удлиненного разреза глаз – тоненький ободок радужки сверкал чернотой, – а поверх неправдоподобно равномерными дугами выгнулись будто пером выписанные брови. Нос, пожалуй, был немного длинен, а губам, хоть четким и изящным, полагалось бы быть потоньше. Сейчас, однако, им придавали очарования мерцающие белизной, чуть разреженные зубы, которыми девушка, силясь справиться с лошадью, крепко зажала нижнюю губу, почти по-детски выдвинув круглый подбородок.
Было бы неверно утверждать, что лицо это отличалось броской, восхитительной красотой. Оно обладало привлекательностью молодости и радостной свежести, и привлекательность эту словно разглаживала, утишала, облагораживала состоятельная беспечность, благородное воспитание и холеная роскошь; представлялось несомненным, что узкие блестящие глаза, с избалованной досадой смотревшие на упирающуюся лошадь, через минуту снова примут выражение уверенного, само собою разумеющегося счастья… Рукава жакета, широко взбитые у плеч, плотно обхватывали запястья, и до сих пор ничего не производило на меня столь неотразимого впечатления изысканной элегантности, чем то, как эти узкие, матово-белые руки без перчаток держали поводья!
Я стоял на дороге, меня никто не окинул взглядом, коляска проехала мимо, и, когда снова набрала скорость и быстро исчезла, я медленно двинулся дальше. Во мне затрепетали радость и восхищение, но в то же время всплыла какая-то странная острая боль, горькое, распирающее чувство – зависти? любви? – я не смел додумать до конца – презрения к себе?
Пишу эти строки, и мне представляется жалкий попрошайка перед витриной ювелирного магазина, уставившийся в дорогостоящее мерцание сокровищ. В нем никогда не родилось бы отчетливое желание обладать драгоценностями, ибо уже одна смехотворно-невероятная мысль о подобном желании превратила бы его в посмешище в собственных глазах.
XII
Хочу рассказать, как вследствие случайности через восемь дней я увидел молодую даму вторично – в опере. Давали «Маргариту» Гуно, и едва я вошел в ярко освещенный зал, чтобы занять свое место в партере, как она появилась с другой стороны в ложе у просцениума слева от пожилого господина. Попутно я отметил, что во мне при этом самым смехотворным образом ненадолго взмыл страх, какое-то смущение и что я по непонятной причине тут же отвел глаза на другие ярусы и ложи. Только с началом увертюры я решился рассмотреть пару несколько подробнее.
Пожилой господин в наглухо застегнутом сюртуке и черной бабочке с покойным достоинством сидел, откинувшись в кресле, одну руку в коричневой перчатке легко опустив на бархат бордюра ложи, другой же время от времени медленно поглаживая то бороду, то короткие поседевшие волосы. Зато молодая девушка – его дочь, без сомнения? – с живым интересом наклонилась вперед, положив обе руки, в которых держала веер, на бархатную обивку. Она то и дело быстро встряхивала головой, отбрасывая со лба, с висков распущенные светло-каштановые волосы. На ней была легкая блузка из светлого шелка, на поясе она закрепила букетик фиалок, а узкие глаза при резком освещении блестели еще большей чернотой, чем восемь дней тому назад. Кстати, я сделал наблюдение, что движение губ, подмеченное мною у нее давеча, свойственно ей вообще: ежеминутно она захватывала белыми, мерцающими, неплотно посаженными зубами нижнюю губу и слегка выдвигала подбородок. Это невинное лицо, лишенное какого бы то ни было кокетства, радостный, спокойный и вместе с тем блуждающий взгляд, нежная, белая шея, стянутая узкой шелковой ленточкой под цвет открытой блузки, жесты, когда она время от времени обращалась к пожилому господину, привлекая его внимание к чему-либо происходящему в оркестре, у занавеса, в ложах, – все производило впечатление невыразимо изящной, милой детскости, не имевшей при этом ничего трогательного или пробуждающего «сочувствие». То была возвышенная, уравновешенная детскость, вследствие элегантной состоятельности приобретшая уверенность и чувство превосходства, она свидетельствовала о счастье, не отличающемся никакой надменностью, скорее известным покоем, поскольку то само собой подразумевалось.
Умная, нежная музыка Гуно стала, мне показалось, удачным сопровождением к данной минуте, и я слушал, не обращая внимания на сцену, полностью отдавшись мягкому, задумчивому настроению, печаль которого без этой музыки, возможно, была бы болезненнее. Однако уже в первом антракте из партера поднялся человек где-то двадцати семи – тридцати лет, исчез и вскоре с ловким поклоном появился в ложе, бывшей предметом моего внимания. Пожилой господин тут же протянул ему руку, юная дама, приветливо кивнув, подала свою, которую он пристойно поднес к губам, после чего хозяева настояли, чтобы гость присел.
Изъявляю готовность признать, что человек этот обладал самой бесподобной манишкой, какую мне довелось видеть в жизни. Она вся была на виду, поскольку жилет представлял собой лишь узкую черную ленту, а фрак на одной пуговице, приходившейся на низ живота, имел необычайно широкий вырез, начинавшийся от самых плеч. Но манишка, широкой черной бабочкой подпирающая высокий стоячий воротничок с загнутыми уголками, с двумя крупными, четырехугольными и также черными, расположенными на умеренном расстоянии друг от друга пуговицами, была ослепительной белизны и восхитительно накрахмалена, не утратив при этом гибкости, так как в области живота образовывала некое приятное углубление, дабы затем снова округлиться симпатичной блестящей выпуклостью.
Понятно, такая манишка требовала львиной доли внимания. Однако темя совершенно круглой головы покрывали очень коротко подстриженные светлые волосы, далее ее украшали пенсне без оправы и шнура, не слишком сильные, чуть курчавые усы потемнее, а одну щеку до виска – множество мелких дуэльных шрамов. Человек был безупречно сложен и двигался уверенно.
За вечер – ибо он остался в ложе – я сделал наблюдение, что ему в особенности свойственны две позы. Когда беседа с хозяевами замирала, он сидел, перебросив ногу на ногу, поместив бинокль на колени, удобно откинувшись, опускал голову, сильно выпячивал губы, дабы погрузиться в рассматривание кончиков усов, судя по всему, совершенно загипнотизированный этим зрелищем, причем медленно, покойно водил головой из стороны в сторону. Вступая же в разговор с юной дамой, он из почтения переменял положение ног, однако откидывался еще больше, обхватывая при этом обеими руками подлокотники, как можно выше поднимал голову и обаятельно, с заметным чувством превосходства, довольно широко раздвигая губы, улыбался молодой соседке. Человек этот наверняка напоен сознанием удивительного счастья…
Если серьезно, я такое высоко ценю. Ни за одним его жестом, хоть их небрежность была все-таки дерзкой, не последовало мучительной неловкости; его преисполняло чувство собственного достоинства. А почему должно быть иначе? Ведь ясно: он, возможно, особо не выделяясь, идет верным путем, будет идти им, пока не достигнет ясной, полезной цели, живет в согласии со всеми и под солнцем всеобщего уважения. Сейчас вот сидит в ложе, беседует с молодой девушкой, чистому, изысканному очарованию которой, возможно, не вполне закрыт и надеяться на руку которой в таковом случае имеет все основания. Право, у меня нет никакого желания говорить что-либо презрительное об этом человеке!
А я? Что же я? Сижу внизу и довольствуюсь тем, что издали, из темноты мрачно наблюдаю, как изысканное, недосягаемое существо беседует и смеется с этим ничтожеством! Изгнанный, безвестный, бесправный, чужой, hors ligne[5 - Здесь: отверженный (фр.).], опустившийся, пария, жалкий в собственных глазах…
Я остался до конца и снова увидел всех троих в гардеробе, где, облачаясь в меховые пальто, они немного замешкались, чтобы переброситься парой слов со знакомыми – с какой-то дамой, с офицером… Молодой человек отправился к выходу вместе с отцом и дочерью, а я на небольшом расстоянии последовал за ними по вестибюлю.
Дождя не было, на небе виднелось несколько звезд, и они пошли пешком. Неторопливо беседуя, все трое шагали передо мной, а я двигался за ними на робкой дистанции – побитый, терзаемый остро болезненным, жалким, злорадным чувством… Идти им было недалеко; едва кончилась улица, как троица остановилась перед солидным домом с простым фасадом; сразу же после теплого прощания отец с дочерью исчезли, а провожатый, ускорив шаг, удалился.
На тяжелой резной двери дома можно было прочесть: «Советник юстиции Райнер».
XIII
Я решился довести записи до конца, хотя от внутреннего отвращения мне то и дело хочется вскочить и бежать. Я тут копал, буравил до полного изнеможения! И сыт всем этим до тошноты!..
Еще не прошло и трех месяцев, как газеты известили меня о благотворительном базаре, который устраивался в городской ратуше – с участием благородного общества. Я прочел анонс с вниманием и сразу решил сходить.
Она будет там, думал я, возможно, в качестве продавщицы, а в таком случае ничто не помешает мне к ней приблизиться. Если спокойно вдуматься, я человек образованный, из хорошей семьи, и если нахожу эту фройляйн Райнер симпатичной, то как и господину с восхитительной манишкой, мне не возбраняется при оказии заговорить с ней, обменяться парой шутливых слов…
День, когда я отправился в ратушу, перед порталом которой теснились люди и экипажи, стоял ветреный и дождливый. Я проложил себе путь внутрь, уплатил за входной билет, передал на хранение пальто и шляпу и с некоторым усилием поднялся по широкой, усеянной людьми лестнице на второй этаж в праздничный зал, откуда мне навстречу плыли душные испарения вина, блюд, духов, запах елок, беспорядочный шум, смех, разговоры, музыка, выкрики и удары гонга.
Невероятно высокое и просторное помещение украшали разноцветные флаги, гирлянды, а вдоль стен, как и по центру, тянулись торговые лотки – открытые прилавки и палатки, – посетить которые во всю мочь зазывали мужчины в фантастических масках. Дамы, повсюду продававшие цветы, сувениры ручной работы, табак, всевозможные освежающие средства, также были в разнообразных костюмах. В конце зала на уставленной растениями эстраде гремела музыкальная капелла, а по узкому проходу между лотками медленно тянулась плотная людская масса.
Несколько ошалев от грохота музыки, лотерей и веселой рекламы, я присоединился к потоку, и не прошло и минуты, как увидел в четырех шагах слева от входа ту, которую искал. Стоя за небольшим, увешанным елочными венками прилавком, она торговала винами и лимонадами, нарядившись в итальянский костюм: пестрая юбка, белый прямоугольный головной убор и короткий лиф селянки Альбанских гор; рукава рубашки обнажали нежные руки до локтя. Несколько разгорячившись, бочком облокотившись на стол, она поигрывала пестрым веером и беседовала с несколькими господами, которые с сигаретами обступили лоток и среди которых я сразу заметил мне уже хорошо известного; он стоял около самого стола ближе всех к ней, заложив четыре пальца каждой руки в боковые карманы пиджака.
Я медленно проплелся мимо, исполненный решимости подойти, как только представится возможность, как только она несколько освободится… Ах! Сейчас выяснится, располагаю ли я еще остатками радостной уверенности и решительной находчивости, или же мрачность и полуотчаяние последних недель были оправданны! А почему я, собственно, волнуюсь? Откуда в связи с этой девушкой такие мучительные, убогие смешанные чувства – зависть, любовь, стыд и раздраженная горечь, – которые вот опять, признаюсь, опалили мне лицо? Легкость! Обаяние! Веселое, прелестное самодовольство, какое, черт подери, полагается талантливому, счастливому человеку! И с нервозным усердием я обдумывал шутливый оборот, удачное словцо, итальянское приветствие, с которым обращусь к ней…
Прошло довольно много времени, прежде чем я в еле-еле движущейся толпе обошел зал; и в самом деле, когда снова очутился возле винной лавочки, господа, стоявшие полукругом, исчезли, и только хорошо известный мне человек облокачивался еще на прилавок, живейшим образом беседуя с юной продавщицей. Что ж, позволю себе прервать их беседу… Быстро свернув, я отделился от потока и стал у стола.
Что произошло? Ах, ничего! Почти ничего! Разговор оборвался, известный мне человек на шаг отступил, всеми пятью пальцами обхватил пенсне без оправы и шнура и принялся рассматривать меня сквозь эти самые пальцы, а юная дама смерила меня спокойным испытующим взглядом, захватив костюм и сапоги. Костюм отнюдь не новый, сапоги запачканы уличной грязью, я знал. Кроме того, я разгорячился, и, вполне возможно, волосы пришли в беспорядок. Я не был холоден, не был свободен, не был на высоте положения. Меня охватило чувство, будто я, чужой, бесправный, неотсюдошний, всем только мешаю и выставляю себя на смех. Неуверенность, беспомощность, ненависть, жалкость затмили взор… Одним словом, я осуществил свои бравые намерения, мрачно сдвинув брови и сиплым голосом коротко и почти грубо сказав:
– Бокал вина, пожалуйста.
Совершенно не важно, ошибся ли я, когда мне показалось, что я заметил, будто молодая девушка метнула на друга быстрый насмешливый взгляд. Молча, как молчали и остальные участники сцены, она подала мне вина, а я, не поднимая глаз, раскрасневшийся, подкошенный гневом и болью, несчастный, смешной, стоя между ними, сделал пару глотков, положил на стол деньги, растерянно поклонился, вышел из зала и бросился вон.
С той минуты со мной покончено, и крайне мало прибавляет к делу то обстоятельство, что несколько дней спустя я прочитал в газетах объявление:
«Имею честь покорнейше сообщить о помолвке моей дочери Анны с господином асессором д-ром Альфредом Витцнагелем. Советник юстиции Райнер».
XIV
С той минуты со мной покончено. Последние остатки сознания счастья, самодовольства затравлены, уничтожены, больше не могу, да, я несчастлив, признаюсь, я жалок и смешон! Но мне этого не выдержать! Я гибну! Застрелюсь – не сегодня, так завтра!
Моим первым побуждением, первым инстинктом была лукавая попытка вытянуть из истории побольше беллетристики, перетолковать свое убогое, мерзкое самоощущение в «несчастную любовь»: ребячество, само собой разумеется. От несчастной любви не погибают. Несчастная любовь – вовсе не такая скверная позиция. В несчастной любви себе нравятся. Я же гибну оттого, что покончено с моей приязнью к самому себе, и покончено безнадежно!
Любил ли я, спросим наконец, любил ли я, собственно, эту девушку? Возможно… но как и зачем? Не была ли эта любовь уродливым порождением моего давно уже раздраженного и больного тщеславия, которое при первом же взгляде на недосягаемую изысканность мучительно вспенилось и выкинуло зависть, ненависть, презрение к себе, для чего любовь, в свою очередь, стала просто предлогом, выходом и спасением?
Да, все дело в тщеславии! Разве еще отец не называл меня паяцем?
Ах, я был не вправе – я как никто другой – отходить в сторону, игнорировать «общество», это я-то, такой тщеславный, чтобы вынести его небрежение и неуважение, чтобы обойтись без его рукоплесканий! Но ведь речь идет не о праве? Ведь речь идет о необходимости? И моя бесполезная паяцеспособность не пришлась бы ни для какого социального положения? Но теперь я гибну именно из-за нее.
Ах, равнодушие было бы для меня своего рода счастьем… Но я не в силах быть равнодушным к себе, не в силах смотреть на себя иными глазами, кроме как глазами «людей», и от стыда гибну – совершенно невинный… Неужели стыд всегда есть лишь загноившееся тщеславие?
Существует только одно несчастье: перестать нравиться самому себе. Себе не нравиться, вот оно, несчастье – да, я всегда очень отчетливо ощущал это! Все остальное – игра и обогащение жизни, при любом другом страдании можно превосходно любоваться собой, так бесподобно смотреться. Жалкий, отвратительный вид придают тебе только разлад с собой, стыд в страдании, потуги тщеславия…
Объявился старый знакомый, господин по имени Шиллинг, с которым мы некогда совместно служили обществу на крупной лесоторговой фирме г-на Шлифогта. У него возникли дела в моем городе, и он заехал ко мне – «скептический индивид», руки в карманах брюк, пенсне в черной оправе и реалистически терпеливое пожимание плечами. Шиллинг приехал вечером и сообщил:
– Я здесь на несколько дней.
Мы пошли в винную.
Шиллинг говорил со мной, будто я еще был тем самодовольным счастливцем, каким он меня знал, и, искренне полагая, что просто делится со мной своим радостным мнением, сказал:
– Честное слово, славную жизнь ты себе устроил, малыш! Независим, да что там, свободен! Черт подери, ей-богу, ты прав! Живем-то всего один раз, правда? Вообще-то, что человеку до всего остального? Должен сказать, ты из нас двоих оказался умнее. Впрочем, ты всегда был гениален…
И он, как прежде, начал изо всех сил нахваливать меня, говорить любезности, не подозревая, что я обмирал от страха не понравиться.
Я отчаянно силился отстоять то место, что занимал в его глазах, силился казаться, как прежде, на высоте, казаться счастливым и самодовольным – тщетно! Не было стержня, никакого куража, никакого самообладания, я говорил с ним, полный тусклого смущения и сгорбившейся неуверенности, – и Шиллинг уловил это с невероятной быстротой! Было ужасно видеть, как он, в общем, готовый признать старого товарища счастливым, высокого пошиба человеком, начал проницать меня, смотреть с изумлением, набирать прохладцы, высокомерия, нетерпения, отвращения, и, в конце концов, он уже не скрывал своего ко мне презрения, сквозившего уже в каждой его гримасе. Он рано ушел, а на следующий день несколько беглых строк уведомили меня, что ему все-таки пришлось уехать.
Все очень просто: люди слишком усердно заняты собой, чтобы серьезно желать составить мнение о других; все с пассивной готовностью принимают ту степень уважения, которую ты уверенно выказываешь самому себе. Будь каким хочешь, живи как хочешь, но демонстрируй дерзкую победительность, никаких стыдливых сомнений, и ни у кого не достанет нравственной твердости презирать тебя. В противном случае, если утратится согласие с собой, уйдет самодовольство, проявится презрение к себе, все в мгновение ока сочтут, что ты прав. Что до меня, со мной покончено…
Я заканчиваю, отбрасываю перо – полный отвращения, полный отвращения! Положить всему конец, но для «паяца» не будет ли это чуть не геройством? Боюсь, получится так, что я стану дальше жить, дальше есть, спать, немножко чем-то заниматься и потихоньку отупленно привыкать быть «несчастным и жалким».
Боже мой, кто бы подумал, кто бы мог подумать, какое это проклятие, какое несчастье – родиться «паяцем»!..
Маленький господин Фридеман
I
Виновата была кормилица. Конечно, когда возникло первое подозрение, консульша Фридеман настоятельно увещевала ее покончить с этим пороком – и что толку? Помимо питательного пива она ежедневно выдавала ей еще по стакану красного вина – и что толку? Неожиданно выяснилось, что девушка пристрастилась и к спирту, предназначенному для горелки, и прежде чем ей нашли замену, прежде чем ее можно было рассчитать, беда уже стряслась. Когда мать и три ее дочери-отроковицы как-то раз вернулись с выезда, маленький, около месяца от роду Йоханнес, свалившись с пеленального столика, лежал на полу и ужасающе тихо поскуливал, а рядом стояла ослушница.
Врач, с бережной твердостью осмотрев конечности скрюченного, подрагивающего крохотного существа, сделал очень, очень серьезное лицо; три дочери, рыдая, сбились в угол, а охваченная сердечным смятением госпожа Фридеман принялась громко молиться.
Бедной женщине еще до рождения ребенка пришлось пережить смерть супруга, нидерландского консула, которого унесла сколь внезапная, столь и тяжелая болезнь, и она была слишком сломлена, дабы вообще иметь способность надеяться, что у нее останется маленький Йоханнес. Лишь через два дня врач, ободряюще пожав ей руку, заявил, что непосредственная опасность, безусловно, миновала, и прежде всего, организм совершенно справился с легкой аффектацией мозга, что заметно хотя бы по взгляду, не имеющему уже того застывшего выражения, как в начале… Однако в остальном нужно посмотреть, как будет развиваться дело, и надеяться, так сказать, на лучшее, надеяться на лучшее.
II
Серый дом с высоким фронтоном, где рос Йоханнес Фридеман, стоял у северных ворот старинного, но далеко не самого крупного торгового города. Через входную дверь вы попадали в просторную, выложенную каменной плиткой прихожую, откуда наверх вела лестница с белыми деревянными перилами. На стенных драпировках гостиной второго этажа красовались поблекшие пейзажи, а вокруг тяжелого стола красного дерева, покрытого бордовой плюшевой скатертью, стояли стулья с прямыми узкими спинками.
Здесь у окна, под которым всегда пышно цвели красивые цветы, он часто ребенком сидел на маленькой скамеечке в ногах у матери и, глядя на гладкий седой пробор, доброе, кроткое лицо, вдыхая всегда исходивший от нее еле уловимый запах, слушал какую-нибудь волшебную историю. Или послушно смотрел на портрет отца, приветливого господина с седыми бакенбардами. Отец теперь на небесах, говорила мать, и ждет их всех к себе.
За домом находился небольшой садик, где, несмотря на вечное сладковатое марево, наплывавшее с соседней сахарной фабрики, летом обычно проводили добрую половину дня. Там стояло старое, узловатое ореховое дерево, и в его тени маленький Йоханнес, расположившись на низеньком деревянном табурете, часто колол орехи, а госпожа Фридеман и три взрослые уже сестры сидели под тентом серой парусины. Взгляд матери, однако, часто отрывался от рукоделия, с печальной приветливостью обращаясь на ребенка.
Он не был красив, маленький Йоханнес; скорчившись на табурете, с ловким усердием вскрывая ореховую скорлупу, с высокой выпирающей грудью, сильно выступающей спиной и очень длинными, тонкими руками, он являл собой в высшей степени странное зрелище. Узкие кисти и стопы, впрочем, имели нежную форму; у него также были большие светло-карие глаза, мягко очерченный рот и чудесные светло-каштановые волосы. Лицо, хотя оно столь жалко вжималось в плечи, все же можно было назвать почти красивым.
III
Семи лет его отправили в школу, и годы полетели однообразно и быстро. Каждый день немного смешной, важной походкой, порой свойственной уродцам, он шествовал между островерхими домами и лавками к старому школьному зданию с готическими сводами, а сделав дома уроки, читал какую-нибудь из своих книг с красивыми пестрыми обложками или возился в саду, пока сестры вместо хворой матери хлопотали по хозяйству. Они выходили и в свет, так как Фридеманы принадлежали к высшим кругам города, но замуж еще, к сожалению, не вышли, ибо были не то чтобы богаты и довольно-таки уродливы.
Время от времени Йоханнес тоже получал приглашения от сверстников, но общение с ними приносило ему мало радости. В играх их он принимать участие не мог, а поскольку приятели в обращении с ним всегда сохраняли смущенную сдержанность, дружбы выйти не могло.
Пришло время, и он стал часто слышать, как одноклассники на школьном дворе рассказывают об известных приключениях; внимательно, широко раскрыв глаза, мальчик слушал мечтательные разговоры о какой-нибудь девочке и молчал. «Для всего этого, – твердил он себе, – что остальных, судя по всему, переполняет, я не гожусь, это как гимнастические трюки и игра в мяч». Порой его это огорчало, но, в конце концов, он с незапамятных времен привык быть сам по себе и не разделять общих интересов.
И все-таки случилось, что Йоханнеса – ему уже исполнилось шестнадцать – внезапно потянуло к одной сверстнице. То была сестра классного товарища, светловолосое, безудержно-радостное существо, познакомился он с ней у ее брата. В присутствии девушки он испытывал странное смущение, а то, как она обращалась с ним – натянуто и искусственно-приветливо, – иногда вселяло глубокую печаль.
Как-то летним днем, прогуливаясь в одиночестве по городскому валу, за кустами жасмина он услышал шепот и осторожно подглядел между ветвей. На стоявшей там скамейке сидела та самая девушка, а рядом с ней – высокий рыжий юноша, которого он прекрасно знал; парень обнимал ее одной рукой и прижимался к губам поцелуем, на который она, хихикая, отвечала. Увидев это, Йоханнес Фридеман развернулся и тихо ушел.
Голова его как никогда глубоко вжалась в плечи, руки задрожали, а из груди к горлу поднялась острая, распирающая боль. Но он затолкал ее обратно и решительно распрямился как мог. «Ладно, – сказал он сам себе, – с этим покончено. Никогда в жизни больше не буду обо всем этом думать. То, что другим дает счастье и радость, мне может принести лишь горе и страдание. Тут я подвел черту. Дело решенное. Никогда в жизни».
Решение пошло ему на пользу. Он отказался от этого, отказался навсегда. Йоханнес отправился домой и взял в руки книгу, а может, скрипку, на которой, несмотря на уродливую грудь, выучился играть.
IV
Семнадцати лет он оставил школу, чтобы заняться торговлей, которую в его кругах вели просто все, и поступил учеником в крупную лесоторговую контору господина Шлифогта, внизу, у реки. Обращались с ним бережно, он со своей стороны был вежлив и предупредителен, и так мирно отлаженно текло время. Однако, когда ему шел двадцать второй год, после долгих страданий умерла мать.
Это стало для Йоханнеса Фридемана источником огромной боли, он нес ее долго. Он наслаждался ей, этой болью, отдавался ей, как отдаются большому счастью, питал ее тысячами детских воспоминаний и смаковал как первое сильное переживание.
Разве жизнь не хороша сама по себе, не важно, складывается ли она для нас таким образом, который принято называть «счастливым»? Йоханнес Фридеман чувствовал так и любил жизнь. Никому не понять, с каким задушевным тщанием он, сумев отказаться от величайшего счастья, какое она только может нам предложить, наслаждался доступными ему радостями. Весенняя прогулка в загородном парке, благоухание цветка, птичье пение – разве можно за это не быть благодарным?
Он понимал и то, что со способностью получать наслаждение тесно связано образование, более того, что образование и является таковой способностью, – он понимал это и повышал свое образование. Он любил музыку и посещал все концерты, что давали в городе. Со временем сам, хотя и смотрелся при этом необычайно странно, стал неплохо играть на скрипке и радовался каждому удававшемуся красивому и нежному звуку. Он много читал и постепенно развил литературный вкус, который, пожалуй, не мог разделить ни с кем в городе. Он был осведомлен о новинках дома и за рубежом, умел почувствовать ритмическую прелесть стихотворения, поддаться воздействию душевного настроения изящно написанной повести… О, почти можно утверждать, что он был эпикурейцем.
Он выучился понимать, что способностью давать наслаждение обладает все и что почти нелепо различать счастливые и несчастные мгновения. И он с величайшей готовностью принимал все свои ощущения, настроения, лелеял их – как мрачные, так и радостные, в том числе и несбывшиеся желания – томление. Он любил это томление ради него самого и говорил себе, что с осуществлением лучшее окажется позади. Разве сладостная, болезненная, смутная тоска и надежда тихих весенних вечеров не доставляют большего наслаждения, чем все сбывшееся, что могло бы принести лето? Да, он был эпикурейцем, маленький господин Фридеман.
Но этого, по-видимому, не знали люди, приветствовавшие его на улице с той сострадательной вежливостью, к которой он привык с незапамятных времен. Они не знали, что этот несчастный калека, с комичной важностью вышагивающий по улице в светлом пальто и лоснящемся цилиндре – как ни странно, он был несколько щеголеват, – нежно любит жизнь, полегоньку утекающую от него без особых треволнений, однако исполненную тихого ласкового счастья, которое он умел обрести.
V
Однако главным увлечением господина Фридемана, его настоящей страстью являлся театр. Он обладал необычайно острым драматическим восприятием, и в случае мощного сценического воздействия, во время трагедийной развязки все его маленькое тело нередко начинала сотрясать дрожь. В первом ярусе городского театра у него было место, которое он занимал регулярно, иногда в сопровождении трех сестер. После смерти матери они одни вели свой и братнин старый дом, владея им совместно.
Замуж они, к сожалению, так до сих пор и не вышли, но уже давно вступили в тот возраст, когда обретается умеренность, так как Фредерика, старшая, обогнала господина Фридемана на семнадцать лет. Она и сестра Генриетта были слишком высоки и худы, а Пфифи, младшая, уродилась чрезмерно низкорослой и полной. Последняя, кстати, имела чудное обыкновение подергиваться при каждом слове, при этом уголки рта у нее покрывались продуктами слюноотделения.
Маленький господин Фридеман не особо заботился о трех девушках; они же крепко держались вместе и всегда были одного мнения. Особенно когда в кругу их знакомых случалась помолвка, они в один голос настаивали, что это о ч е н ь радостное известие.
Брат остался жить с ними, и когда покинул контору господина Шлифогта и обрел самостоятельность, переняв какое-то мелкое дело – что-то вроде агентства, не требовавшего особого попечения. Он занимал в доме несколько помещений нижнего этажа, чтобы подниматься по лестнице только к столу, так как по временам его немного мучила астма.
В свой тридцатый день рождения, светлый и теплый июньский день, он сидел после обеда в серой палатке в саду, подложив под голову новый валик, который смастерила ему Генриетта, с хорошей сигарой во рту и хорошей книжкой в руке. То и дело он отводил книгу в сторону, прислушивался к довольному чириканью воробьев на старом ореховом дереве, бросал взгляд на чистую, посыпанную гравием дорожку, ведущую в дом, и на газон с пестрыми клумбами.
Маленький господин Фридеман не носил бороды, и лицо его почти не изменилось, только черты стали чуть резче. Чудесные светло-каштановые волосы он гладко зачесывал на боковой пробор.
Он окончательно опустил книгу на колени, прищурившись, посмотрел в синее солнечное небо и сказал себе: «Что ж, прошло тридцать лет. Будет, может, еще десять или двадцать, кто знает. Они придут и уйдут так же тихо и бесшумно, как и минувшие, и я жду их с миром в душе».
VI
В июле того же года произошла смена коменданта округа, взбудоражившая всех. Дородного жовиального господина, долгие годы занимавшего этот пост, в обществе очень любили и отставке его опечалились. Бог весть вследствие каких обстоятельств, но только из столицы прибыл не кто иной, как господин фон Ринлинген.
Замена, впрочем, казалась неплохой, так как подполковник – женатый, но бездетный – снял в южном предместье весьма просторную усадьбу, из чего заключили, что он намерен принимать. Во всяком случае, слухи о том, что новый комендант изрядно богат, подтверждались в числе прочего и тем, что он привез с собой четверых посыльных, пять верховых и упряжных лошадей, ландо и легкую охотничью коляску.