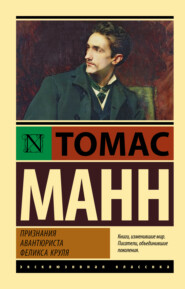скачать книгу бесплатно
Через час явился санитарный советник Дюзинг. Он стал нашим домашним врачом после смерти старого доктора Мекума, содействовавшего моему рождению. Дюзинг был долговязый, вечно сутулившийся мужчина со стоящими дыбом волосами, который то и дело защемлял свой нос между большим и указательным пальцами и потирал одна о другую широкие костлявые руки. Этот человек был мне опасен: не своим врачебным талантом – на этот счет дело у него обстояло неважно (впрочем, легче всего обмануть как раз хорошего врача, самоотверженно служащего науке ради нее самой), – но из-за грубой житейской смекалки, так часто свойственной заурядным натурам и составлявшей основу его карьеры. Ограниченный и честолюбивый, этот ученик Эскулапа раздобыл себе звание санитарного советника благодаря личным связям, знакомству с крупными виноторговцами – словом, по протекции – и часто ездил в Висбаден, где продолжал энергично продвигаться по служебной линии. Характерно для него было, что дома он принимал пациентов – я в этом убедился собственными глазами – не по порядку и очереди, а, ни капельки не стесняясь, пропускал вперед людей богатых и с положением в обществе, оставляя сидеть пришедших много раньше пациентов «из простых». Высокопоставленных больных он окружал чрезмерной заботой и попечением, с бедняками же обращался грубо, недоверчиво и в большинстве случаев старался объявить их жалобы необоснованными. По моему убеждению, он был способен на любую пакость, плутню, лжесвидетельство, если мог этим угодить «верхам», или зарекомендовать себя преданным слугой власть имущих. Низкопробный здравый смысл подсказывал ему, что именно так должен действовать человек бездарный, но желающий преуспеть в жизни. Дело в том, что мой бедный отец, несмотря на свое сомнительное положение, как фабрикант и налогоплательщик, принадлежал к видным горожанам, санитарный же советник в качестве домашнего врача от него зависел, а может быть, просто с жадностью хватался за любую возможность неблаговидного поступка. Так или иначе, но этот тип решил, что должен действовать со мною заодно.
Всякий раз, когда он обращался ко мне с наигранным докторским добродушием: «Ай-ай-ай, что же это с нами такое приключилось?» или: «Это что еще за фокусы, молодой человек?» – и садился возле моей кровати, чтобы выслушать и порасспросить меня, – повторяю, всякий раз неожиданное молчание, улыбка или даже подмигивание с его стороны должны были побудить меня ответить ему тем же и, значит, признать, что я просто праздную «святого лентяя», как он, надо думать, называл это про себя. Но я никогда, никогда не перебросил ему мостика. И удерживала меня от этого не осторожность (по всей вероятности, ему можно было довериться), а скорее гордость и презрение. Все его старанья вовлечь меня в заговор ни к чему не приводили, только глаза у меня делались все печальнее и растеряннее, щеки вваливались еще больше, губы бессильно опускались, дыхание становилось отрывистее; я всегда был готов, если это окажется нужным, и перед ним разыграть приступ неукротимой рвоты и с такой невозмутимой последовательностью продолжал свое притворство, что ему в конце концов пришлось признать себя побежденным, позабыть о своем здравомыслии и прибегнуть к помощи науки.
Это давалось ему нелегко, во?первых, потому что он был глуп, а во?вторых, потому что картина болезни, воссоздаваемая мною, грешила очень уж большой неопределенностью. Он выслушивал и выстукивал меня со всех сторон, засовывая мне в горло ручку чайной ложечки, докучал частым измерением температуры и затем изрекал:
– Мигрень. Никаких оснований для беспокойства нет. Склонность этого молодого человека к головным болям нам давно известна. К сожалению, на сей раз затронут и кишечник. Я рекомендую покой, никаких посетителей, поменьше разговаривать и побольше лежать в затемненной комнате. Очень хорошо в таких случаях попринимать кофеин с лимонной кислотой. Сейчас я выпишу рецепт.
Если же в нашем городке отмечалось два-три случая гриппа, то он говорил:
– Грипп, уважаемая госпожа Круль, грипп, осложнившийся гастритом. Кроме того, воспаление дыхательных путей, хотя и очень незначительное. У вас появился кашель, мой друг, не так ли? Температура немного поднялась, а в течение дня, несомненно, подымется еще на несколько десятых. Пульс учащенный и неровный.
Со свойственным ему отсутствием фантазии он прописывал кисло-сладкое укрепляющее вино; я его пил с удовольствием, и после выдержанной баталии оно приводило меня в умиротворенное, довольное настроение.
Конечно, профессия врача не составляет исключения в ряду других профессий, и многие ее представители – обыкновеннейшие дураки, готовые видеть то, чего нет, и отрицать то, что совершенно очевидно. Любой неученый знаток человеческого организма превосходит их в знании тончайших секретов такового, и ему ничего не стоит обвести вокруг пальца ученого медика. Катар дыхательных путей, который он у меня обнаружил, не был мною предусмотрен; я не сделал ни малейшего намека на него в придуманной мною клинической картине. Но так как мне все-таки удалось заставить санитарного советника отказаться от его пошлого диагноза: «празднует святого лентяя» – то ничего более остроумного, чем грипп, он придумать не сумел, и вот, боясь осрамиться, требовал, чтобы я страдал от приступов кашля, и утверждал, что у меня распухли миндалины, чего тоже не было. Что же касается повышения температуры, то здесь он не ошибался, хотя это и не служило к чести его школьной премудрости. Врачебная наука почему-то хочет, чтобы жар всегда был только следствием отравления крови возбудителями болезни, и утверждает, что повышение температуры связано лишь с физическими явлениями. Но это смешно! Читатель давно уже понял, в чем я его к тому же заверяю честным словом, что физически я не был болен, когда санитарный советник Дюзинг меня выслушивал; но возбуждение минуты, отважное предприятие, мной задуманное, своего рода опьянение, которое я испытывал, выгравшись в роль больного, роль, требовавшую участия всего моего организма и предельного совершенства исполнения, чтобы не стать комической, более того, известное вдохновение, которое требовало одновременно и напряжения и ослабления всех сил, для того чтобы нечто мнимое стало действительным для меня и других, – все это, вместе взятое, привело в состояние такого подъема деятельность моего организма, что санитарный советник черным по белому прочитал это на термометре. Учащение пульса, конечно, объяснялось теми же причинами; когда же голова советника легла ко мне на грудь и я почуял животный запах его сухих бурых волос, то под этим живым впечатлением мне удалось даже придать своему сердцу неровный – то замирающий, то убыстренный – ритм. Наконец, если доктор Дюзинг независимо от диагноза всякий раз объявлял затронутым желудок, то должен заметить, что этот орган всегда у меня отличался столь болезненной чувствительностью, что при любом душевном потрясении начинал биться и пульсировать, так что в иных жизненных случаях я, можно сказать, страдал не сердцебиением, как другие люди, а биением желудка. Санитарный советник только диву давался, наблюдая этот феномен.
Итак, прописав мне горькие пилюли или кисло-сладкое укрепляющее вино, он еще некоторое время сидел у постели больного, оживленно болтая с моей матерью, я же, прерывисто дыша полуоткрытым ртом, вперял в потолок усталый, потухший взор. Иногда к ним присоединялся и отец. Вид у него бывал смущенный, он старался не встречаться со мной глазами и пользовался случаем поговорить с санитарным советником о своей подагре. Оставшись наконец один, я проводил день, а иногда и два-три дня в мирном отдохновении и в сладких мечтах о жизни, о будущем, правда, получая лишь скудную диетическую пищу, но тем вкуснее она мне казалась. Если же протертый суп и сухарики не удовлетворяли моего юношеского аппетита, я осторожно вылезал из кровати, тихонько поднимал крышку своего маленького бюро и принимался поглощать шоколад, запасы которого у меня почти никогда не переводились.
Глава седьмая
Откуда брались у меня эти сласти? В мое владенье они попадали странным, можно сказать, фантастическим образом. В нижней части городка, на углу сравнительно оживленной торговой улицы, помещалась премило убранная гастрономическая лавка, если не ошибаюсь, филиал висбаденской фирмы, обслуживавшей богатую клиентуру. По дороге в школу и обратно я каждый день проходил мимо аппетитной витрины этой лавки, а случалось, и захаживал в нее с мелкой монетой в руке, чтобы купить в соответствии со своим капиталом немного дешевых пряников или ячменных леденцов. Однажды в обеденное время я застал лавку пустой, там не было не только покупателей, но и никого из приказчиков. Звонок (обыкновенный колокольчик, его при открывании и закрывании двери толкал зубец металлической штанги) зазвонил, но звук его либо не донесся до заднего помещения, отделенного от лавки застекленной дверью со сборчатой зеленой занавеской, либо там тоже никого не было в данную минуту. Во всяком случае, никто оттуда не появился. Удивленный, испуганный и даже взволнованный окружающим меня безмолвием и пустотой, я огляделся по сторонам. Никогда еще мне не удавалось так свободно осматривать этот соблазнительнейший уголок.
Помещение, узковатое, хотя и высокое, было снизу доверху набито разнообразной снедью. Плотные ряды окороков и колбас всевозможных форм и цветов – белых, желтых, красных и черных, круглых и твердых, как пушечные ядра, а также длинных, узловатых и крученых вроде веревки – затемняли окна. Жестяные консервные коробки, какао и цибики чая, разноцветные банки с вареньем, медом и засахаренными фруктами, стройные и пузатые бутылки с ликерами и пуншевыми эссенциями заполняли стенные шкафы от пола до потолка. Под стеклом на прилавке красовались тарелки и миски с дразнящими аппетит копченостями: макрелью, миногами, треской и угрями. Там же стояли блюда с итальянским салатом. На глыбе льда распростер свои клешни омар; шпроты, тесно прижатые друг к дружке, мерцали жирным золотом в открытых ящичках; редкостные фрукты, клубника и гроздья винограда, точно чудом заброшенные сюда из страны обетованной, громоздились среди башенок, построенных из жестянок с сардинами и соблазнительных белых баночек с икрой и паштетом из гусиной печенки. С верхних полок свешивались шейки жирной домашней птицы. Разносортные закуски, предназначенные для холодных ужинов, как то: ростбиф, гусиные грудки, ветчина, языки и копченая лососина – горками высились чуть подальше; рядом с ними лежали длинные и узкие ножи. Большие стеклянные колпаки прикрывали все виды сыров, какие только есть на свете: кирпично-красные, молочно-белые, мраморные с прожилками и такие, что лакомой золотистой волной вытекали из своей серебряной оболочки. Между ними зеленели артишоки, пучки спаржи, трюфеля и точно высыпанные из рога изобилия радужным блеском отливали печеночные колбаски в пестрых обертках из станиолевой бумаги. На отдельных столиках были расставлены открытые жестянки с лучшими сортами бисквитов, подносы со сложенными крест-накрест медовыми коврижками, излучавшими коричневое сияние, а среди них высились стройные стеклянные вазы, полные конфет и глазированных фруктов.
Я стоял как зачарованный, впивая трепещущей грудью чудесный воздух, в котором запахи шоколада и копченостей мешались с упоительно гнилостным благовонием трюфелей. Сказочные страны и подземные сокровищницы, где счастливчики смело набивают себе карманы и даже сапоги драгоценными камнями, вставали в моем воображении. Сказка это или сон? Удручающая законность и добропорядочность будней вдруг рассеялась, растворилась, исчезли условности и помехи, в обыденной жизни стеной встающие на пути вожделения. Радость от того, что этот изобильный уголок земли сейчас подчинен моей самодержавной власти, охватила меня с такой силой, что я почувствовал зуд во всем теле. С трудом подавил я в себе желанье вскрикнуть от неистового счастья, от наслаждения всей полнотой небывалой свободы.
– Добрый день, – проговорил я в пустоту, и мне еще сейчас слышится сдавленный, неестественно-спокойный звук моего голоса, потерявшийся в тишине.
Никто не ответил. И в это самое мгновенье у меня буквально потекли слюни изо рта. Быстро и бесшумно ступил я к одному из боковых столов, ломившихся от сластей, великолепным жестом запустил руку в ближайшую вазу с конфетами, высыпал всю пригоршню в карман пальто, прошел к двери и через секунду уже скрылся за углом.
Мне, конечно, скажут, что моя проделка – обыкновеннейшее воровство. А я смолчу, постараюсь пропустить это мимо ушей, ведь все равно я не могу помешать воспользоваться этим жалким словом тому, кому приятно его произносить. Но одно – слово, дешевое, истертое, лишь очень приблизительно рисующее жизнь, и совсем другое – живой, непосредственный, вечно юный поступок, блистающий неповторимой, несравненной новизной. Только привычка и леность заставляют нас полагать, что это одно и то же, тогда как на самом деле слово, поскольку оно должно характеризовать поступок, напоминает хлопушку для мух, то есть всегда бьет мимо. Вдобавок, когда речь идет о поступке, существенно не «что» и не «как» (хотя последнее все-таки важней), а «кто».
Что бы я в жизни ни делал, было прежде всего моим поступком, а не поступком некоего имярек, и хотя мне пришлось многое претерпеть и всякая шушера, в том числе блюстители правосудия, именовали мой поступок так же, как и десятки тысяч других, но я, в глубине души неколебимо считая себя любимцем богов, предпочтенной плотью и кровью, внутренне неизменно восставал против такого приравнивания. Да простит мне мой будущий читатель это отступление в область чисто умозрительного, которое, вероятно, не к лицу человеку малообразованному и по роду своих занятий непривычному к размышлениям, тем не менее я почитаю за долг по мере возможности примирить читателя со своеобразием моей жизни, а если это не удастся, то вовремя удержать его от чтения этих листков.
Вернувшись домой, я прошел в пальто к себе в комнату, чтобы выложить на стол и рассмотреть принесенную добычу. Я едва верил, что все это мое. Ведь во сне что только не дается нам в руки, а проснешься – и ничего у тебя нет. И только тот может хоть отчасти разделить со мной мою радость, кто живо себе вообразит, что богатства, дарованные ему в прельстительном сне, при свете утра, весомые, ощутимые, лежат у него на одеяле, словно он позабыл унести их с собою.
Конфеты самых дорогих сортов, с ликером или душистым кремом, были обернуты в цветные станиолевые бумажки, но меня опьянял не их прекрасный вид и вкус, а то, что они представлялись мне драгоценностями из сновидения, которые я спас для действительной жизни; и радость эта была столь глубока, что я, естественно, стал думать, как бы мне при случае вновь испытать ее. Читатель может отнестись к этому факту как ему угодно, – сам я не считал нужным долго над ним размышлять. Дело в том, что в обеденное время гастрономическая лавка иногда оставалась без присмотра – не часто, конечно, не регулярно, но через большие или меньшие промежутки времени это все же бывало, – что я и замечал, проходя с ранцем за плечами мимо застекленной двери. В таких случаях я входил, затворял за собой дверь тихо, осторожно, так что колокольчик не издавал ни звука, хотя язычок и терся об его стенки, на всякий случай говорил «добрый день» и живо брал то, что мне хотелось – немного, скромно: горсть конфет, кусок медовой коврижки, плитку шоколада, – но мало-помалу я перепробовал все. Когда в позднейших частых моих «перевоплощениях» я так же легко и свободно пригоршнями брал сладости жизни, мне казалось, что я снова испытываю то не поддающееся определению чувство, с которым я сроднился в силу своеобразного строя своих мыслей и различных психологических изысканий.
Глава восьмая
Неведомый читатель! Признаюсь, я даже на время отложил перо, чтобы собраться с мыслями, прежде чем вступить в область, которую я уже не раз затрагивал в своих воспоминаниях и на которой, как человек добросовестный, я хочу остановиться несколько подробнее. Спешу предупредить: того, кто ждет от меня фривольного тона и скользких шуток, неизбежно постигнет разочарование. В этих записях я, напротив, стремлюсь сочетать должную искренность с той сдержанной серьезностью, которую диктуют мораль и благоприличие. Ибо я, в противоположность многим, никогда не любил сальностей, более того, из всех видов распущенности распущенность языка мне всегда внушала наибольшее отвращение, так как она не оправдана никакою страстью. Когда человек острит и сквернословит, кажется, что речь идет о чем-то пустом, комическом, тогда как на самом деле мы здесь касаемся важнейшего таинства природы, и говорить о нем наглым, пошлым тоном – значит предавать это таинство глумлению черни. Но возвращаюсь к исповеди!
Прежде всего должен заметить, что известные отношения рано начали играть роль в моей жизни, занимать мои мысли, составлять предмет моих мечтаний и ребяческих игр, – многим раньше, чем я узнал, как это называется и сколь всеобщее значение имеет. Надо также сказать, что картины, рисовавшиеся моему живому воображению, и пронизывающее удовольствие, которое я при этом испытывал, казались мне моей личной, никому другому не понятной особенностью, странностью, о которой я предпочитал не говорить вслух. Не зная, каким словом обозначить этот подъем и сладостное волнение, я придумал для них два наименования: «наилучшее» и «великая радость», – и хранил их как бесценную тайну. В силу такой ревнивой замкнутости, в силу моего одиночества и еще третьего фактора, о нем я скажу ниже, я долгое время оставался в этом состоянии духовной невинности, никак не вязавшейся с живостью моих чувств. Ибо с тех пор как я себя помню, «великая радость» занимала главенствующее положение в моей душевной жизни; более того, она, видимо, пробудилась во мне еще за гранью памяти. Маленькие дети обычно невинны по незнанию; предположение, что они невинны в смысле подлинной чистоты и ангельской святости, – только сентиментальное суеверие, которое развеивается при ближайшем рассмотрении. Мне по крайней мере из достоверного источника (о котором я сейчас скажу подробнее) известно, что еще у груди кормилицы я выказывал недвусмысленные признаки чувства; этот рассказ представляется мне более чем вероятным и весьма характерным для моей энергичной натуры. И правда, моя способность к любовным утехам граничила почти уже с чудом и, как я теперь в этом убеждаюсь, далеко превосходила обычную меру. Основание предполагать это явилось у меня рано, но, для того чтобы предположение переросло в уверенность, понадобилось вмешательство одной особы (она-то и сообщила мне о моем бойком поведении у груди кормилицы), с которой я отроком в продолжение ряда лет состоял в тайных сношениях. Это была горничная по имени Женевьева, поступившая к нам совсем еще девочкой и в пору, когда мне минуло шестнадцать, достигшая уже тридцатилетнего возраста. Дочь фельдфебеля, давно уже помолвленная с начальником маленькой станции между Франкфуртом и Нидерландштейном, она тяготела к светской утонченности и хотя выполняла всякую черную работу, но по виду и манерам являла собой нечто среднее между горничной и наперсницей. Но так как приличное приданое все еще не было сколочено, то ее свадьба все откладывалась в долгий ящик, и Женевьеве, крупной, упитанной блондинке с зелеными тревожными глазами и изящными телодвижениями, необозримо долгая пора ожидания часто не в меру докучала. Проводя лучшие свои годы в воздержании, она не снисходила к домогательствам простолюдинов: солдат, рабочих, мастеровых, которые очень льстились на ее пышную юность. Не причисляя себя к простонародью, она презирала его язык и запах. Иное дело – хозяйский сынок да еще недурной собою и, надо думать, возбуждающий ее женское чувство. Удовлетворение его потребностей, с одной стороны, как бы входило в круг ее домашних обязанностей, с другой же – означало своего рода альянс с высшими классами. Так вот и получилось, что мои желания не встретили серьезного сопротивления.
Я отнюдь не намерен распространяться об эпизоде, слишком обычном, чтобы его подробности могли занять просвещенного читателя. Короче говоря, однажды вечером после ужина, когда крестный Шиммельпристер кончил наряжать меня во всевозможные костюмы, в темном коридорчике мансарды, у дверей моей комнаты, произошла встреча, конечно, не без умысла со стороны Женевьевы, встреча, которая имела продолжение уже в комнате и кончилась полным взаимным обладанием. Помнится, что в тот вечер я был более обыкновенного подавлен прозой жизни, наступившей после маскарада, и погружен в бесконечную печаль и тоску. Будничное платье, которое я натянул на себя после стольких переоблачений, претило мне, я ощущал непреодолимое желанье сорвать его с себя, но на этот раз не только для того, чтобы обрести успокоение во сне. Настоящее успокоение, казалось мне, я найду лишь в объятиях Женевьевы; говоря откровенно, мне даже мерещилось, что полная близость с нею будет своего рода завершением вечернего маскарада, более того, что она и есть истинная цель моих сегодняшних превращений. Как бы там ни было, а изнуряющее, небывалое наслаждение, которое я испытывал у белой, пышной груди Женевьевы, никакому описанию не поддается. Я кричал, мне казалось, что я возношусь на небо. И не своекорыстным было мое сладострастие, оно, как это свойственно моей натуре, распалялось тем больше, чем полнее делила его со мною Женевьева. Всякие сравнения здесь, конечно, немыслимы и неуместны. Но мое убеждение, столь же недоказуемое, сколь и неопровержимое, остается в силе: любовью я наслаждался вдвое острее и жарче, чем другие.
Однако было бы несправедливо полагать, что этот врожденный дар превратил меня в сладострастника, в селадона. Этого не могло случиться хотя бы по той простой причине, что трудная и опасная жизнь, которую я вел, предъявляла немалые требования к моей выдержке, а ее бы у меня, конечно, недостало, если бы я стал размениваться направо и налево. Ибо если для многих это сомнительное времяпрепровождение является, как я заметил, чем-то, что делают походя и после чего можно взять да и отправиться по делам, будто ровно ничего не произошло, то я отдавал ему всего себя, вставал полностью опустошенный и непригодный к какой-либо деятельности.
Я часто распутничал, ибо плоть слаба, а мир был всегда готов любострастно идти мне навстречу. Но, в конечном счете, я, как и подобает мужчине, был настроен серьезно, и из чувственной расслабленности меня вскоре вновь тянуло к напряженной и суровой жизни. Животный акт любви – не является ли он лишь наиболее грубым видом наслаждения тем, что я, исполненный смутных чаяний, когда-то назвал «великой радостью»? Ведь, слишком нас пресыщая, он нас опустошает, и мы перестаем быть любимцами жизни, ибо любви достоин лишь алчущий, а не пресыщенный. Что до меня, то я знаю куда более тонкие, радостные, окрыленные виды удовлетворения страсти, чем этот примитивный акт, в конечном счете являющийся лишь скудной, обманчивой пищей, и я полагаю, что плохо понимает в счастье тот, чьи помыслы направлены только на эту цель. Я всегда стремился к большему, к наиполнейшему и находил изысканную, пряную усладу там, где другие не стали бы даже искать ее. Мои чувства никогда не были направлены на точную, определенную цель, чем, наверно, и объясняется то, что я, несмотря на весь жар вожделения, так долго оставался в наивном неведении, вернее, навеки остался ребенком и мечтателем.
Глава девятая
На этом хватит о материи, трактуя которую я, как мне думается, ни разу не преступил границ благопристойности; пора уже приблизиться к поворотной точке, трагически заключившей мою жизнь в отчем доме. Сначала, правда, надо еще сказать несколько слов о помолвке моей сестры Олимпии с неким Юбелем – секунд-лейтенантом Второго Нассауского пехотного полка № 88, стоявшего в Майнце, – событии, отмеченном весьма торжественно, но так и не возымевшем серьезных последствий. Под натиском обстоятельств эта помолвка была расторгнута, и невеста, после того как все у нас окончательно рухнуло, стала опереточной артисткой. Юбель, болезненный, уже поживший молодой человек, был завсегдатаем наших вечеров. Распаленный танцами, игрой в фанты, вином «Бернкаслер доктор» и прелестями, которые так щедро демонстрировали ему наши дамы, он возгорелся любовью к Олимпии, со страстностью слабогрудого человека стал мечтать об обладании ею и вдобавок, по наивности сильно переоценивая наше материальное благополучие, однажды вечером на коленях, чуть не плача от нетерпения, попросил ее руки. Я и посейчас удивляюсь, как у Олимпии, почти не отвечавшей на его чувства, хватило наглости согласиться на это безумное предложение, – ведь она была многим лучше меня осведомлена о состоянии наших дел. Видимо, ей хотелось вовремя обеспечить себе хотя бы такой ненадежный кров, а может быть, ей внушили, что помолвка с носителем двухцветного мундира укрепит наше положение или по крайней мере отодвинет катастрофу. Мой бедный отец (Олимпия тотчас же к нему побежала), конфузясь, дал свое согласие на этот брак, после чего о событии было объявлено гостям, которые со страшным шумом начали приносить свои поздравления и, как они выражались, щедро «обмывать» помолвку «Лорелеей экстра кюве». Отныне лейтенант Юбель стал ежедневно приезжать к нам из Майнца, хотя долгое пребывание вблизи от предмета его болезненного вожделения шло ему очень и очень во вред. Когда мне случалось войти в комнату, где они сидели вдвоем, лейтенант выглядел совершенно изнуренным и бледным; он бы вконец извелся, если бы, на его счастье, ход дел не принял совсем иного оборота.
Но я снова возвращаюсь к своей особе. Все мои мысли в ту пору были заняты переменой фамилии, предстоявшей моей сестре после вступления в брак; мне живо помнится, что я до недоброжелательства ей завидовал. Подумать только, что она, всю жизнь называвшаяся Олимпией Круль, теперь станет писаться «Олимпия Юбель»! Сколько в этом новизны и прелести! Можно ли себе представить что-нибудь скучнее и утомительнее, чем весь век ставить под письмами и деловыми бумагами одну и ту же подпись? Рука сама отказывается выводить эти докучные буквы. Какое счастье, какой прилив свежих сил – откликаться на новое имя! Возможность хоть раз в жизни переменить имя казалась мне огромнейшим преимуществом слабого пола, – ведь нас, мужчин, закон лишает этой радости. Что до меня, неприспособленного, как большинство людей, вести под защитой буржуазного строя унылую и безопасную жизнь, то я впоследствии проявил немало изобретательности, чтобы обойти запрет, мешавший мне жить и зарабатывать себе на жизнь, и я уже сейчас позволяю себе отослать читателя к тому проникнутому легкой своеобразной прелестью месту моих воспоминаний, где я впервые, как изношенную, пропотевшую одежду, сбрасываю с себя свое родовое имя, чтобы не вовсе самочинно присвоить себе другое, по звучности и аристократизму далеко превосходящее имя лейтенанта Юбеля.
Но в то время как сестра моя была невестой, рок, выражаясь фигурально, костлявым пальцем уже стучался в наши двери. Ехидные слухи о состоянии дел моего бедного отца, распространившиеся в наших краях, недоверчивая сдержанность, с какой к нам стали относиться, беды, которые пророчили нашему не в меру гостеприимному дому, – все это, к величайшему удовлетворению грязных злопыхателей, сбылось, оправдалось и подтвердилось.
Потребитель решительно отвергал наши шипучие вина. Ни сильное удешевление (что, разумеется, мало способствовало повышению их качества), ни сверхсоблазнительные рекламы, которые мой крестный Шиммельпристер, вопреки своему убеждению, из чистой любезности сделал для фирмы, не привлекли симпатий винолюбивого общества к нашему товару. Последнее время заказы уже равнялись нулю; и вот в один из весенних дней, незадолго до моего восемнадцатилетия, на моего бедного отца надвинулась катастрофа.
В том нежном возрасте я ничего не понимал в коммерческих делах, да и позднее моя фантасмагорическая жизнь не давала мне возможности приобрести меркантильные знания. Посему я не буду вдаваться в предмет, мне почти незнакомый, и утруждать читателя профессиональными подробностями краха фабрики шампанских вин. Но о сердечном участии, которое мне в то время внушал мой бедный отец, я все же скажу несколько слов. С каждым днем он все глубже и глубже погружался в меланхолию, выражавшуюся в том, что он целыми днями сидел где-нибудь на стуле у стены со склоненной набок головой, пальцами правой руки неторопливо поглаживая свое брюшко и часто-часто моргая глазами. Иногда он ездил в Майнц, – эти печальные поездки предпринимались, надо думать, в надежде достать денег или сыскать какие-нибудь источники помощи; приезжал он оттуда совершенно подавленный и то и дело вытирал батистовым платочком лоб и глаза. Прежнее благодушие возвращалось к отцу, разве когда он, повязанный салфеткой, с бокалом вина в руке, председательствовал за пиршественным столом, – по вечерам в нашем доме все еще собиралось шумное общество. Но однажды во время такого собрания между моим бедным отцом и евреем-банкиром (супругом обвешанной драгоценностями особы) возникла пренеприятная и достаточно отрезвляющая словесная перепалка. Банкир этот, как я тогда же узнал, был одним из самых отчаянных живодеров, что заманивают в свои сети незадачливых и легкомысленных коммерсантов. Вскоре наступил тот знаменательный, роковой, но для меня все же интересный и бодрящий день, когда фабрика и контора фирмы остались закрытыми, а в нашем доме появилась кучка почтенных господ с холодным взором и поджатыми губами, чтобы описать наше имущество.
На суде мой бедный отец в изысканных выражениях подтвердил свою неплатежеспособность и скрепил бумагу наивно вычурной подписью, которую я умел так мастерски воспроизводить, после чего дело было торжественно передано конкурсному управлению.
В тот день из-за нашего позора, уже известного всему городу, я не пошел в школу, вернее в реальное училище, окончить которое, замечу мимоходом, мне так и не было суждено: во?первых, потому, что я ни в малейшей мере не скрывал своего отвращения к деспотической тупости, характерной для этого заведения, и, во?вторых, потому, что подозрительные слухи, а затем и полное крушение нашего торгового дома восстановило против меня весь учительский персонал, более того, преисполнило его ненавистью и презрением ко мне. И на сей раз, после банкротства отца, меня не только не перевели на Пасху в следующий класс, но поставили перед выбором – либо и впредь терпеливо сносить уродливые проявления тирании, в моем возрасте уже нестерпимые, либо уйти из школы и тем самым поставить крест на тех общественных преимуществах, которые дает окончание реального училища. В задорном сознании, что личные мои качества с лихвой возместят мне утрату этих жалких привилегий, я, разумеется, выбрал последнее.
Катастрофа, постигшая нас, была непоправимой, и мне стало очевидно, что мой бедный отец оттягивал ее приближение, все безнадежнее запутываясь в сетях ростовщиков, потому что точно знал – торги сделают нас не только бедняками, но нищими. Все пошло с молотка – складские запасы (впрочем, не знаю, кто согласился дать хоть грош за эту злополучную субстанцию, именовавшуюся шипучим вином); недвижимость, как то: погреба и наш загородный дом, обремененные долгами по закладным, составлявшими более двух третей их стоимости, проценты по которым не платились в течение ряда лет; гномы, грибы и зверюшки из нашего сада, даже стеклянный шар и эолова арфа не избегли этой печальной участи. Дом наш лишился всего своего приветливого изобилия – прялка, пестрые подушки, полированные ларчики и флаконы с благовониями были вынесены на аукцион; конкурсное управление не пощадило даже алебард и веселых занавесей из раскрашенного тростника, и если забавное устройство над входной дверью уцелело в этом разгроме и по-прежнему тоненько выводило «Жизни возрадуйтесь», то только потому, что судейские его не заметили.
Собственно говоря, мой бедный отец не производил впечатления вконец сломленного человека. В нем замечалось даже известное удовлетворение по поводу того, что дела, распутать которые ему не представлялось возможным, теперь находятся в надежных руках, а так как правление банка, в чье владенье перешла наша недвижимость, сердобольно разрешило нам до поры до времени проживать в голых стенах нашего загородного дома, то у отца как-никак была еще и крыша над головой. Легковерный и добродушный по природе, он и других людей не считал за жестокосердных педантов и не думал, что они всерьез его оттолкнут; у него даже достало наивности явиться в местное акционерное общество по выработке шампанских вин и предложить свои услуги в качестве директора. Получив насмешливый отказ, он сделал еще несколько попыток встать на ноги, для чего храбро возобновил свои вечера и фейерверки. Когда и это средство не помогло, отец впал в уныние; а так как он еще полагал, что стоит нам поперек дороги и что без него мы легче пробьемся в жизни, то и решил покончить с собою.
Со времени торгов прошло пять месяцев. Наступила осень. Я уже с Пасхи не посещал школы и радовался временной свободе и переходному своему состоянию без определенных видов на будущее. Мы – моя мать, сестра Олимпия и я – собрались в столовой, единственной еще кое-как обставленной комнате, и довольно долго не приступали к скудной трапезе, дожидаясь главы семейства. Но когда отец не появился и после того, как суп был уже съеден, сестра Олимпия, к которой он питал особую нежность, была послана в кабинет звать его к обеду. Через какие-нибудь три минуты мы вдруг услышали, что она с криком мчится вниз по лестнице, потом опять вверх и зачем-то снова вниз. Я весь похолодел и, готовый к наихудшему, ринулся в комнату отца. Он лежал на полу в расстегнутом сюртуке; одна его рука покоилась на выпуклом животе, а рядом лежал блестящий опасный предмет, из которого он выстрелил в свое чувствительное сердце. Горничная Женевьева и я подняли его и положили на софу. Покуда прислуга бегала за врачом, Олимпия с воплями носилась по дому, а мать не отваживалась выйти из столовой, я стоял, закрыв глаза руками, возле стынущей оболочки моего родителя, щедро воздавая ему дань сыновних слез.
Книга вторая
Глава первая
Долго пролежали эти бумаги в запертом ящике; более года нежелание писать и сомнение в плодотворности задуманного удерживали меня от того, чтобы в строгой последовательности, листок за листком, продолжать свою исповедь. На предыдущих страницах я хоть и неоднократно заверял, что веду свои записи главным образом и прежде всего для собственного развлечения, но так как я и здесь намерен воздать должное правде, то хочу откровенно признаться: садясь за письменный стол, я втихомолку все же помышлял о читателях, и без подкрепляющей меня надежды на их участие и поощрение у меня, наверное, не хватило бы усидчивости довести свою работу хотя бы до нынешней ее стадии. И уж конечно, я не раз задавался вопросом – смогут ли мои правдивые признания, скромно почерпнутые из действительной жизни, соперничать с вымыслом писателей и заслужить благоволение публики, давно пресытившейся пряностями искусства? Одному Богу известно – не раз говорил я себе, – каких очарований и потрясений ждут от книги, которая в силу своего заглавия как бы становится в один ряд с детективными романами, тогда как история моей жизни временами хотя и кажется необычной, даже неправдоподобной, но, конечно же, вовсе не знает ошеломляюще внезапных эффектов и запутанных интригующих положений. От всех этих мыслей мужество едва не оставило меня.
Но сегодня мне случайно попались на глаза уже написанные главы; не без чувства растроганности я сызнова прочитал хронику моего детства и первых отроческих лет; воодушевившись, я опять предался воспоминаниям и, в то время как передо мной оживали наиболее памятные моменты моей биографии, невольно подумал, что подробности, столь живительно действующие на меня, будут небезынтересны и широкому читателю. Стоит мне, например, припомнить, как я в одной из знаменитых столиц империи под именем бельгийского аристократа сижу с сигарой за чашкой кофе в избранном обществе, среди которого находится и начальник полиции, на редкость гуманный сердцевед, и веду беспечный разговор об авантюризме и криминалистике, или же роковой час моего первого ареста, когда один из вошедших ко мне чиновников уголовного розыска, пораженный величием момента и сбитый с толку роскошью моей спальни, постучался в открытую дверь и, старательно вытерев ноги, тихо проговорил: «Прошу прощения за смелость», – за что был вознагражден негодующим взглядом своего толстого начальника, – и я преисполняюсь радостной надежды, что мои признания, пусть уступающие вымыслам романистов в захватывающей интересности, пусть менее полно удовлетворяющие пошлое любопытство публики, тем не менее решительно превзойдут их утонченной проникновенностью и благородной правдивостью. Вот почему я снова возгорелся желанием продолжить и завершить свои записки. Отныне я намерен с еще большим тщанием следить за чистотой стиля и благоприличием оборотов, дабы вышедшее из-под моего пера могло читаться и в самых лучших домах.
Глава втoрая
Я возобновляю свой рассказ на том самом месте, где некогда прервал его, а именно на самоубийстве моего бедного отца, загнанного в тупик людским жестокосердием. Предать его земле по религиозному обряду было затруднительно, ибо церковь отворачивает свой лик от подобного деяния, осуждаемого, впрочем, и моралью, свободной от канонических воззрений. Жизнь, разумеется, не высший дар небес, за который, обольщенные ее прелестью, мы должны цепляться; по-моему, ее скорее следует рассматривать как заданный, в известной мере даже нами самими выбранный, тяжелый и трудный урок, каковой нам надлежит выполнять со старательным упорством, ибо преждевременное бегство от него является величайшей нерадивостью. Но в этом частном случае я воздержался от сурового приговора и всецело отдался чувству жалости. Похоронить отца без благословения церкви мы, оставшиеся, считали невозможным – моя мать и сестра из-за людской молвы и из ханжества (они были ревностными католичками), а я в силу врожденного традиционализма, всегда меня побуждавшего предпочитать благодетельно устоявшиеся формы претензиям новейшего прогресса. Итак, поскольку у женщин не хватило на то мужества, я взялся уговорить настоятеля нашего собора, консисториального советника Шато, совершить обряд погребения.
Этот жизнелюбивый клирик, лишь недавно получивший приход в нашем городе, которого я застал за вторым завтраком, состоявшим из омлета и бутылки легкого вина, удостоил меня отменно любезного приема. Дело в том, что консисториальный советник Шато был пастырем самого светского толка, убедительно олицетворявшим своей особой блеск и аристократизм католической церкви. Кругленький и низкорослый, но отнюдь не лишенный известного изящества, он при ходьбе проворно и приятно покачивал бедрами и радовал глаз удивительной округлостью жестов. Речь у него была изысканная, можно сказать образцовая, а из-под его отлично сшитой шелковисто-черной сутаны выглядывали черные шелковые чулки и лакированные туфли. Правда, масоны и антипаписты утверждали, будто он вынужден постоянно носить лакированную обувь из-за того, что у него потеют и скверно пахнут ноги, но мне это и посейчас кажется злостным измышлением.
Несмотря на то что я предстал перед ним впервые, он своей белой пухлой рукой пригласил меня сесть за стол, разделить с ним трапезу и любезно сделал вид, что верит моим лживым показаниям: я утверждал, будто мой отец, рассматривая давно не бывший в употреблении револьвер, нечаянно всадил в себя пулю. Всему этому он счел нужным поверить по соображениям чисто политическим (в нынешние худые времена церковь бывает рада, когда к ней кто-нибудь прибегает, хотя бы с нечистой совестью), сказал мне в утешенье несколько ласковых слов и высказал пастырскую готовность отслужить панихиду и совершить обряд погребения, расходы по которому великодушно взял на себя крестный Шиммельпристер. С моих слов его преподобие сделал себе несколько заметок относительно жизненного пути покойного. Я постарался обрисовать этот путь как радостный и почетный. Потом он задал мне ряд вопросов о моих личных обстоятельствах и видах на будущее. Я отвечал на них пространно, но довольно уклончиво.
– Вы, милый сын мой, – сказал он, – до сей поры были не очень строги к себе. Но я полагаю, что не все еще потеряно, вы производите весьма приятное впечатление, и мне в особенности пришелся по душе ваш голос. Не сомневаюсь, что фортуна будет к вам благосклонна. Рожденных в счастливый час и угодных Богу я распознаю с первого взгляда, ибо судьба человека начертана на его челе письменами, которые без труда читает посвященный.
С этими словами он отпустил меня.
Радуясь услышанному, я помчался, чтобы сообщить домашним о благоприятном исходе моей миссии. К сожалению, похороны отца, хотя и церковные, нимало не походили на величаво торжественный обряд, который нам представлялся: народу собралось очень мало, и в этом, поскольку речь идет о жителях нашего города, ничего удивительного не было. Но куда подевались иногородние друзья, которые в хорошие времена так часто любовались фейерверками моего бедного отца и так охотно распивали с ним бутылку-другую «Бернкаслер доктор». Они не почтили его похорон своим присутствием, надо думать, не потому, что были людьми неблагородными, а потому, что все серьезное, все заставляющее вспоминать о вечности было им просто не по нутру и они избегали церемоний, способных омрачить их существование, что, конечно, свидетельствует об известной душевной низости. Явился один только лейтенант Юбель из Второго Нассауского, и лишь благодаря ему мой крестный Шиммельпристер и я оказались не единственными сопровождающими гроб к разверстой могиле.
Тем не менее предсказание духовного отца все время стояло у меня в ушах; совпадая с моими чаяниями и надеждами, оно вдобавок еще исходило от институции, которая в столь глубоких и тайных вопросах представлялась мне законополагающей. Объяснять почему – не дело профана, и все же я возьму на себя смелость хотя бы поверхностно коснуться этого предмета. Во-первых, почтенное место на одной из ступеней иерархии римской церкви, без сомнения, помогает куда тоньше разбираться в людских рангах, чем пребывание в обывательском болоте. Высказав эту самоочевидную мысль, я попытаюсь пойти еще дальше, неуклонно придерживаясь логического ее развития. Здесь речь идет о чувстве – следовательно, об элементе чувственности. Католическая же форма богопочитания, для того чтобы ввести человека в сверхчувственный мир, опирается прежде всего на чувственное восприятие, она прокладывает для него все мыслимые пути и больше, чем любая другая религия, старается проникнуть в его тайны. Ухо, привыкшее к возвышенной музыке, к гармонии, как бы предвосхищающей хоры небожителей, может ли оно оказаться недостаточно чутким и не уловить внутреннего аристократизма в звуке человеческого голоса? Глаз, искушенный в благочестивой роскоши, в красках и в формах, представляющих на земле великолепие горних чертогов, разве может он не прозреть таинственной прелести, самой природой заложенной в счастливого избранника? Орган обоняния, который всегда вдыхает услажденную ладаном атмосферу алтаря, орган, досрочно чующий благоухание святости, неужели не ощутит он нематериального и все же плотского духа, что исходит от счастливца, от человека, рожденного в воскресенье? Тот, кому дано свершать величайшее таинство этой церкви, таинство причастия, неужели он посредством высшего чувства осязания не отличит высокую человеческую субстанцию от низменной? Льщу себя надеждой, что при помощи этих тщательно подобранных слов я по мере возможности ясно выразил свою мысль.
Во всяком случае, пророчество патера не сказало мне ничего такого, что не подтверждалось бы моими собственными ощущениями и тем, что я видел в зеркале. Правда, временами я чувствовал упадок духа, ибо мое тело, уже однажды во всей своей мифической красе нанесенное на холст рукою художника, пока что прикрывалось уродливым поношенным платьем, а мое положение в городе было не только унизительным, но и внушающим подозрение. Отпрыск семьи с весьма сомнительной репутацией, сын банкрота-самоубийцы, бросивший ученье, молодой человек без каких бы то ни было видов на будущее, я постоянно чувствовал на себе пристальные, хмурые взгляды своих сограждан – людей достаточно пустых и для меня лишенных всякого обаяния; но в силу особенностей моей натуры эти взгляды больно ранили меня, почему я, не имея еще возможности уехать из нашего города, старался как можно меньше показываться на улице.
Издавна присущие мне робость и нелюдимость, кстати сказать, отлично уживались в моем сердце с алчной приверженностью к жизни и к людям. Вдобавок эти хмурые взгляды выражали – и не только у женской половины населения – нечто вроде невольного участия, что при более благоприятных обстоятельствах очень бы меня обнадежило.
Ныне, когда лицо мое исхудало и тело начало стариться, я могу сказать без лишней скромности, что в мои девятнадцать лет сбылось все, что сулило мне отрочество, и в ту пору я, даже по собственному мнению, расцвел в прелестного юношу. Белокурый и в то же время смуглый, с мерцающими синими глазами, со скромной улыбкой на губах, с шелковистыми волосами, зачесанными кверху надо лбом, я должен был привлекать к себе сердца моих простодушных земляков – если бы взгляд их не затуманивало неприятное сознание ложности моего положения, – как впоследствии привлекал сердца жителей всех частей света. Моя фигура, удовлетворявшая даже взыскательный глаз крестного Шиммельпристера, была отнюдь не плотной, но равномерно и пропорционально развитой, как у любителей спорта и гимнастических игр, хотя я, истый мечтатель, в жизни не занимался физическими упражнениями и ничего не делал для своего физического развития. К тому же кожа моя была столь нежна, что, несмотря на свою стесненность в деньгах, я всегда покупал самое мягкое и дорогое мыло, так как дешевые сорта заставляли ее кровоточить.
Врожденные преимущества, природные дары, неизменно внушают их обладателю живой и благоговейный интерес к своему происхождению, потому-то я так любил рыться в изображениях предков, в фотографиях, дагеротипах, медальонах и силуэтах, служивших мне подспорьем в моих исследованиях; горя желанием узнать, кому я обязан наибольшей благодарностью, я старался отыскать в лицах предков черты, подготовившие возникновение моей особы. Но сколько-нибудь значительным успехом эти поиски не увенчались. Правда, в облике некоторых родичей со стороны отца можно было заметить подготовительные упражнения природы (я ведь уже говорил, что и сам мой бедный отец, несмотря на свою тучность, был на короткой ноге с грациями). Но в общем, я убедился, что особенно благодарить мне некого; и если отказаться от мысли, что в какой-то неизвестный момент история моего рода претерпела загадочные коллизии, вследствие которых одним из моих предков стал аристократ или вельможа, то для обоснования преимуществ, дарованных мне природой, я должен был углубиться в размышления над самим собой.
Почему, собственно, слова консисториального советника произвели на меня такое огромное впечатление? На этот вопрос я и сейчас могу ответить с неменьшей уверенностью, чем в те далекие годы. Он меня похвалил, за что? За приятный голос. Но ведь это свойство или дар, явно ничего общего с понятием «заслуги» не имеющий, и считать его похвальным так же не принято, как порицать кого-нибудь за косоглазие, хромоту или зоб. Ведь, по мнению нашего буржуазного общества, хвалы или хулы достойно только нравственное, а не природное начало; восхвалять начало природное считается нелепым и несправедливым. То, что Шато, видимо, держался обратного мнения, поразило меня своей новизной и смелостью, показалось мне выражением сознательной и упрямой независимости, к которой примешивалось даже нечто от языческой простоты, и натолкнуло меня на приятные размышления. «Очень трудно, – думал я, – провести границу между врожденным и нравственным преимуществами. Все эти портреты дядьев, теток и дедов ясно доказали, сколь немногие из моих преимуществ перешли ко мне по наследству. Но в таком случае, значит, я сам в какой-то мере выработал их? Разве верное чувство мне не подсказывает, что достоинства, которыми я обладаю, в значительной мере моя заслуга, что голос мой мог быть вульгарным, взгляд тупым и ноги кривыми, если б душа моя тому попустительствовала? Тот, кто по-настоящему любит жизнь, создает себя ей в угоду. Иными словами, если природные достоинства и не являются следствием нравственных усилий, то похвалы, которые патер расточал благозвучию моего голоса, по здравому размышлению, отнюдь не простая его причуда».
Глава третья
Через несколько дней после того, как бренные останки моего отца были преданы земле, все мы во главе с крестным Шиммельпристером собрались на семейный совет. Нам было официально предложено к Новому году очистить дом, а посему принятие решения относительно дальнейшего нашего местожительства стало насущной необходимостью.
Я до сих пор не знаю, как благодарить крестного за советы и участливое внимание, с каким он, имея в виду каждого из нас в отдельности, разработал планы на будущее, впоследствии оказавшиеся (в частности, для меня) поистине благодетельными. Семейный совет состоялся в нашей бывшей гостиной, некогда уютно обставленной мягкой мебелью и полной веселья и праздничного угара, а теперь голой, разгромленной, почти пустой. Мы сидели в углу на бамбуковых стульях с ореховыми сиденьями, когда-то стоявших в столовой, за зеленым столиком – остатком гарнитура, состоявшего из вдвигающихся один в другой четырех или пяти хрупких закусочных столиков.
– Круль, – начал крестный (в фамильярном своем дружелюбии он и мать обычно называл по фамилии). – Круль, – сказал он и обратил к ней свой крючковатый нос и пронзительные глаза без бровей и ресниц, своеобразно обрамленные целлулоидными кругами очков, – вот вы нос повесили и руки опустили, а ведь совсем напрасно. На самом деле радостные и разнообразные возможности по-настоящему открываются человеку как раз после жестокой катастрофы, которую так метко называют гражданской смертью, и самое обнадеживающее положение – это то, когда нам до того плохо, что, кажется, хуже и быть не может. Уж поверьте, друг мой, человеку, который сам переживал подобные удары судьбы если не материального, то нравственного порядка. Впрочем, вам до такого состояния еще далеко, и это-то, вероятно, и подрезает вам крылья. Не падайте духом, дорогая, побольше предприимчивости. Да, в этом городе у вас со всем покончено, но что с того? Перед вами широкая дорога. Ваш личный, правда скромный, счет в Коммерческом банке еще не окончательно исчерпан. С этими деньгами вы подадитесь куда-нибудь в большой город – в Висбаден, Майнц, Кельн, пусть даже в Берлин. В кухне вы как дома, простите мне неуклюжий оборот. Вы умеете стряпать пудинг из хлебных крошек и отличное кисло-сладкое жаркое из остатков вчерашнего мяса. Кроме того, вы привыкли видеть у себя множество людей, потчевать их, занимать разговором. Итак, вы снимете несколько комнат, дадите объявление, что по сходной цене принимаете нахлебников или просто жильцов без стола, и будете жить так же, как жили до сих пор, с той только разницей, что ваши гости будут вам платить. А снисходительное отношение к людям и бодрое состояние духа позволят вам устроить приятную, уютную жизнь своим пансионерам, и я, право, буду удивлен, если ваше предприятие вскоре не начнет процветать и расширяться.
Тут крестный умолк, давая нам высказать свою восторженную признательность и радость; та, к которой он обращался, тоже в конце концов к нам присоединилась.
– Что касается Лимпхен, – продолжал он (этим ласкательным именем крестный всегда величал мою сестру), – то самым простым для нее, конечно, было бы сделаться помощницей матери и скрашивать жизнь ее постояльцев, причем я не сомневаюсь, что она проявила бы себя как достойная и энергичная filia hospitalis[3 - Юная хозяйка (лат.).]. Но эта возможность никогда от нее не уйдет. А пока что я имею для нее в виду нечто лучшее. В дни вашего процветания она училась петь; настоящей певицы из нее не вышло – голос у Олимпии слабый, хотя он не лишен благозвучия и в сочетании с ее внешними данными производит весьма приятное впечатление. Салли Меершаум из Кельна – мой давнишний друг, а главное из его предприятий – это театральное агентство. Он с легкостью устроит Олимпию в опереточную труппу, пусть поначалу даже не первого ранга, или в какую-нибудь певческую капеллу; свой гардероб на первых порах она пополнит из моей костюмерной. Начало ее карьеры будет, по всей вероятности, нелегким, возможно, что ей придется вступить в борьбу с жизнью. Но если она проявит характер (который важнее таланта) и сумеет извлечь профит из своего дарования, состоящего из множества разнообразных дарований, то быстро пойдет в гору и, кто знает, может быть, достигнет блистательных вершин. Я могу, конечно, только указать вам направление, наметить возможности – остальное уж ваше дело.
Взвизгнув от радости, моя сестра кинулась на шею советчику и спрятала голову у него на груди.
– А теперь, – продолжал он, и по всему было видно, что следующий пункт он принимает еще ближе к сердцу, – теперь перейдем к нашему «оборотню» (читателю понятно, на что он намекал, называя меня этим именем). – Я немало поломал себе голову над проблемой его будущего и, несмотря на значительные трудности, думается все же, нашел решение, конечно временное. По этому поводу я даже затеял переписку с заграницей, точнее говоря с Парижем, – сейчас я объясню вам, с кем именно и на какой предмет. По моему разумению, надо прежде всего открыть ему дорогу в жизнь, которая, как в силу прискорбного недоразумения полагают почтенные вершители судеб, для него закрыта. Как только он очутится на просторе, течение подхватит его и, я в этом уверен, принесет к прекрасному берегу. По моему мнению, наилучшие виды на будущее сулит Феликсу работа в большой гостинице, хотя бы в должности кельнера: я говорю не только о прямом пути (который тоже может привести к весьма почтенному положению в обществе), но и о всевозможных отклонениях и неожиданных кружных тропинках, которые не в меньшей мере, чем проторенные дороги, порой благоприятствуют счастливцу. Я помянул о переписке. Так вот, я списался с директором гостиницы «Сент-Джемс энд Олбани», Париж, улица Сент-Оноре, неподалеку от Вандомской площади (самый центр, следовательно; я покажу вам это место на плане Парижа), с Исааком Штюрцли, – мы с ним на ты еще с моих парижских времен. Я не только выгоднейшим образом отозвался о воспитании и характере Феликса, но поручился за тонкость его обращения и расторопность. Он немного говорит по-французски и по-английски и в ближайшее время должен еще подучиться этим языкам. Штюрцли готов сделать мне одолжение и взять его на испытательный срок, конечно без жалованья. Питание и помещение он получит бесплатно, а ливрею, которая, несомненно, будет ему к лицу, сумеет приобрести по достаточно льготной цене. Одним словом, это путь в жизнь, благоприятное поприще для развития его дарований, и я надеюсь, что наш Феликс сумеет угодить знатным постояльцам «Сент-Джемс энд Олбани».
Само собой разумеется, что я высказал этому прекрасному человеку не меньше благодарности, чем моя мать и сестра. Ненавистная ограниченность родного городишка, казалось, уже уходила в прошлое, широкий мир открывался передо мною; и Париж, город, при одном воспоминании о котором мой бедный отец впадал в сладостную истому, уже вставал перед моим внутренним взором во всем своем жизнерадостном великолепии. Но на деле все было не так просто, вернее, как говорят в простонародье, была тут одна загвоздка: я не имел права покинуть родину, так как подлежал призыву на военную службу. Государственная граница являлась для меня непреодолимым препятствием, покуда в моих бумагах черным по белому не будет стоять, что я освобожден от воинской повинности; вопрос о военной службе тем более тревожил меня, что я, как известно, не пользовался привилегиями окончивших учебное заведение и в случае, если б меня признали годным, должен был бы явиться в казармы как обыкновеннейший рекрут. Эта подробность, о которой я до сих пор просто старался не думать, в минуту, исполненную столь радужных надежд, тяжелым камнем легла мне на сердце. И когда я нерешительно об этом заговорил, выяснилось, что ни моя мать, ни сестра, ни сам Шиммельпристер не принимали этого обстоятельства в расчет – первые по женскому своему неведению, последний же потому, что, всю жизнь занимаясь живописью, имел очень неточное представление о таких формальностях. С досадой заявив, что он совершенно беспомощен в подобном деле, ибо знакомств с военными врачами не имеет, а следовательно, не может повлиять на тех, от кого это зависит, крестный предложил мне выпутываться из петли собственными силами.
Итак, в этом щекотливом деле я был предоставлен самому себе; благосклонный читатель вскоре узнает, насколько я оказался способным с ним управиться. Сначала мой живой юношеский ум был отвлечен предстоящей переменой обстановки, всевозможными приготовлениями к переезду. Поскольку моя мать намеревалась обзавестись нахлебниками уже к Новому году, то переселение наше должно было состояться еще перед Рождеством. Местом нашего нового жительства был избран Франкфурт-на-Майне: в таком большом городе легче может подвернуться счастливая случайность.
Как легко, как нетерпеливо, презрительно и жестокосердно покидает жаждущий простора юноша свою тесную родину, ни разу даже не оглянувшись на ее башни и холмы, покрытые виноградниками! Он уже отчужден от нее и впредь будет отчуждаться еще больше, но ее до смешного знакомый образ останется жить в глубинах его сознания и после долгих лет забвения вдруг снова всплывет на поверхность. Прошлое покажется ему тогда достойным уважения, в своих делах и успехах на чужбине, при каждой жизненной перемене, при каждом новом взлете он будет оглядываться на тот покинутый малый мирок, станет спрашивать себя, что бы сказали об этом или уже говорят там, в родном его городе. Так сделает любой одаренный юноша, к которому родина была глуха, неблагожелательна, несправедлива. Завися от нее, он всем существом ей противился, но после того, как ей пришлось его отпустить и она, вероятно, о нем уже позабыла, он добровольно предоставит ей право голоса в своей жизни. Более того, по истечении пестрых, полных событий лет его повлечет взглянуть на гавань, из которой он отплыл в житейское море, он не сможет противостоять искушению на удивленье тамошним жителям и с боязливой насмешкой в сердце, узнанным или неузнанным, побродить среди старых стен в том новом, чуждом и блистательном обличье, которое успел приобрести. В должном месте я расскажу, как это было в моем случае.
Я написал в Париж учтивое письмо господину Штюрцли, сообщая ему, что вынужден повременить с отъездом до того, как будет решено, годен я или нет к военной службе; при этом я выражал ни на чем не основанную уверенность, что по причинам, не имеющим отношения к будущей моей работе, ответ окажется благоприятным.
Остатки нашего имущества приобрели вид тюков и чемоданов, в одном из которых лежало полдюжины роскошных рубашек с крахмальными манишками; крестный вручил их мне на прощанье, выразив уверенность, что в Париже они сослужат мне добрую службу. И вот в тусклый зимний день мы все трое, высунувшись из окна отходящего поезда, видим, как исчезает трепыхающийся на ветру красный платок нашего друга. С этим прекрасным человеком мне довелось свидеться еще только однажды.
Глава четвертая
Не буду долго останавливаться на первых суматошных днях нашего пребывания во Франкфурте. Мне неприятно вспоминать о той жалкой роли, которую мы играли в этом богатейшем торговом городе, к тому же я боюсь наскучить читателю подробным изложением наших тогдашних обстоятельств. Умолчу и о грязной харчевне или постоялом дворе, меньше всего заслуживающем названия гостиницы, где мы с матерью (сестра Олимпия сошла с поезда в Висбадене, чтобы попытать счастья в кельнском агентстве Меершаума) из соображений экономии провели много ночей: я спал там на диване, который просто кишел кусачими, злобными насекомыми. Умолчу и о мытарствах, которые мы претерпели, разыскивая в этом большом, бессердечном, враждебном беднякам городе хоть мало-мальски подходящую квартиру, покуда наконец не наткнулись в одном из отдаленных кварталов на помещение, в известной мере отвечающее житейским планам моей матери. Это были четыре маленькие комнаты и малюсенькая кухня в нижнем этаже флигеля с видом на безобразный двор и без единой капли солнечного света. Но поскольку эта квартира стоила всего сорок марок в месяц, а нам было не к лицу строить из себя прихотливых жильцов, то мы тут же дали задаток и поспешили в нее перебраться.
В молодости любая новизна бесконечно привлекательна, и хотя это унылое жилище не могло идти ни в какое сравнение с нашим светлым загородным домом, на меня в столь необычной обстановке нашел приступ необузданного веселья и радости. Я рьяно помогал матери в неотложных работах: передвигал мебель, вынимал из ящиков со стружками тарелки и чашки, старался покрасивее расставить в шкафу и на полках кухонную посуду и терпеливо вел переговоры с хозяином, омерзительно пузатым мужчиной подлейшего характера, относительно необходимого ремонта, от которого этот брюхач так упорно уклонялся, что матери пришлось за собственный счет произвести кое-какие поделки, дабы предназначенные ею к сдаче комнаты не имели слишком неприглядного вида. Ей это далось очень нелегко, так как расходы по переезду оказались весьма значительными и в случае задержки с пансионерами делу, еще не открытому, грозило банкротство.
В первый же вечер, когда мы с матерью, стоя в кухне, ужинали яичницей-глазуньей, решено было в память доброго старого времени наречь наше предприятие «Пансион Лорелея», и мы тут же вместе написали открытку, испрашивая на то одобрения крестного Шиммельпристера. Уже на следующий день я побежал в редакцию одной из наиболее читаемых франкфуртских газет со скромно, но заманчиво составленным объявлением; предполагалось, что напечатанное жирным шрифтом поэтическое название будущего пансиона непременно проймет франкфуртских жителей. Относительно же дощечки, которую мы намеревались прибить у дверей, для того чтобы привлечь внимание прохожих к нашему предприятию, мы с матерью несколько дней пребывали в затруднении – она оказалась нам не по средствам. Как же описать нашу радость, когда на шестой или седьмой день нашего водворения во Франкфурте из родного города вдруг прибыла посылка весьма необычной формы; отправителем ее значился крестный Шиммельпристер, а в ящике лежала продырявленная по всем четырем углам прямоугольная дощечка, на которой красовалась собственноручно сотворенная им женская фигура с наших этикеток, в одежде из одних колец и браслетов, и надпись золотистой масляной краской: «Пансион Лорелея». Эта вывеска, прибитая к углу выходившего на улицу дома, выглядела очень эффектно: мы сумели так ее прикрепить, что дева скал указывала своей унизанной драгоценностями рукой на подворотню и двор, в котором находилась наша квартира.
И правда, скоро объявились постояльцы; первым пришел не то техник, не то инженер-механик, серьезный, молчаливый, даже угрюмый и явно недовольный своим жребием молодой человек, который, однако, платил аккуратно и вел размеренный, степенный образ жизни. Он не прожил в «Пансионе Лорелея» и недели, как у нас оказалось еще двое нахлебников, принадлежавших уже к театральному миру, а именно: комический бас, оставшийся без работы из-за полной потери голосовых средств, толстый и смешной с виду, но озлобленный свалившимся на него несчастьем. Он тщетно пытался нескончаемыми упражнениями укрепить свой голос, и когда он пел эти упражнения, казалось, что кто-то, задыхаясь, взывает о помощи из пустой бочки. Вместе с ним явилась его тень женского пола – рыжая хористка в неопрятном капоте, с длинными, выкрашенными в розовый цвет ногтями, – до ужаса худое и, видимо, слабогрудое созданье, которое наш певец, то ли за какие-нибудь упущения, то ли просто чтобы дать выход накопившейся горечи, нередко «учил» посредством своих подтяжек, что, впрочем, ни разу не поколебало ее безусловной уверенности в чувствах своего сожителя.
Итак, эта пара занимала одну комнату, механик – другую, третья служила нам столовой, где все мы ели обеды, умело приготовленные из мизерного количества продуктов. Не желая, по соображениям благопристойности, делить комнату с матерью, я спал на кухне, постилая себе постель на лавке, и мылся над раковиной, в уверенности, что такое мое житье долго продлиться не может.
«Пансион Лорелея» начал процветать, нам приходилось тесниться, уступая место гостям, и моя мать уже с полным правом помышляла о том, чтобы расширить предприятие и нанять кухарку. Одним словом, дело налаживалось, и помощь моя была не нужна, а до отъезда в Париж или до дня, когда мне придется повязать двухцветный шарф, у меня оставалось еще много свободного времени, столь желанного и необходимого всякому незаурядному юноше. Образование дается не тупой учебной повинностью, оно – дар свободы и досуга; его не добиваются в поте лица, а вдыхают, как воздух; на него работают незримые инструменты. Потайное усердие чувства и мысли, отлично уживающееся с тем, что люди считают пустой тратой времени, ежечасно обогащает тебя знаниями, я бы даже сказал, что на избранника судьбы образование нисходит во сне. Ибо поистине надо быть созданным из податливого материала, чтобы стать просвещенным человеком. Никто не усваивает того, что не заложено в нем от рождения, и не алчет того, что ему чуждо. Тупому человеку образования не добиться, кто его приобрел, никогда не был мужланом. И здесь опять-таки очень трудно провести прямую и четкую демаркационную линию между личной заслугой и тем, что мы называем «благоприятными обстоятельствами»; ведь если доброжелательная судьба в самый подходящий момент забросила меня в большой город и от своих щедрот одарила меня временем, то, с другой стороны, начисто лишенный средств, которые раскрывают перед человеком двери тех мест, где он может пополнить свое образование и получить духовное наслаждение, я был обречен заглядывать в цветущий таинственной прелестью сад только через великолепную решетку.
В ту пору я предавался сну даже чрезмерно, спал большей частью до обеда, нередко еще позднее, и, встав, наспех съедал в кухне какие-нибудь разогретые, а не то и холодные остатки, потом закуривал папиросу, дар нашего механика (он знал, как я падок до этой сладостной утехи и как редко могу себе ее позволить), и уходил из «Пансиона Лорелея» уже в предвечернее время, часа в четыре, в пять, когда светская жизнь в городе достигает высшей точки, богатые женщины отправляются с визитами или ездят в экипажах из лавки в лавку, кафе наполняются посетителями и витрины начинают сиять огнями. В это время я пускался в свои одинаково поучительные и занимательные прогулки по многолюдным улицам прославленного города. И частенько, внутренне обогащенный, возвращался домой уже при бледном свете зари.
А теперь представьте себе невзрачно одетого юношу и то, как он, без друзей и знакомых, одиноко пробирается сквозь пеструю сутолоку чужого города! У него нет денег, чтобы насладиться радостями цивилизации. Об этих радостях так проникновенно возвещают расклеенные на столбах афиши, что даже самый тупоголовый малый неминуемо должен утратить спокойствие и почувствовать прилив любопытства, а он, столь легко возбудимый, вынужден довольствоваться тем, что читает их названия, узнает о том, что они существуют. Он видит празднично освещенные подъезды театров, но ему нельзя слиться с людским потоком, устремляющимся в них, он стоит, ослепленный ярчайшим светом, который огни мюзик-холлов и варьете отбрасывают на тротуар, где у дверей торчит сказочный великан мавр в треуголке, держа в руках жезл, с лицом, обесцвеченным, как и пурпурная его ливрея, непомерной яркостью света, и, скаля зубы, зазывает гостей на каком-то непонятном наречии; а бедному юноше нельзя откликнуться на эти зазывания! Но чувства его возбуждены, ум напряжен; он смотрит, наслаждается, воспринимает, и если шум и толчея поначалу оглушают, страшат и сбивают с толку уроженца сонного городишка, то у него все же хватает юмора и самообладания, чтобы постепенно освоиться с этой суматохой и даже обратить ее на пользу себе и своей жажде познания.
А какая великолепная выдумка – витрины! Как хорошо, что лавки, базары, художественные салоны – эти склады роскоши – не скопидомничают, не таят сокровищ в своих недрах, а широко, щедро, прельстительно выставляют их напоказ за широкими стеклами. В зимние вечера эти выставки сияют, точно солнечный день; гирлянды маленьких газовых горелок, пристроенных внизу окна, не дают стеклам покрыться изморозью. Я стоял возле них, защищенный от холода только шерстяным шарфом, обмотанным вокруг шеи (пальто, доставшееся мне в наследство от моего бедного отца, давно уже было заложено в ломбарде за весьма скромную сумму), и пожирал глазами все эти прекрасные, изящные, дорогостоящие вещи, не обращая внимания на холод и сырость, пронизывавшие меня до мозга костей.
В витринах мебельщиков устроены целые комнаты: кабинеты строгие и комфортабельные; спальни, демонстрирующие утонченность интимных привычек; очаровательные столовые, где на столе, покрытом камчатной скатертью, окруженном удобными стульями, стоят цветы, мерцает серебро, тончайший фарфор, ломкие бокалы; аристократические гостиные в строгом стиле, с канделябрами, каминами и креслами, обитыми гобеленом. Я не мог досыта наглядеться на то, как ножки уютных кресел, такие изящные и благородные, тонут в багряном свечении персидских ковров. Чуть подале мое внимание привлекли витрины элегантного портняжного заведения. Здесь я увидел весь гардероб богача или вельможи – от бархатного шлафрока или подбитой атласом домашней куртки до торжественно-черного фрака, от воротничка изысканнейшей формы, точно сделанного из алебастра, до ласковых гамаш и ослепительно блестящих лакированных туфель, от рубашек в полоску или крапинку до драгоценной шубы. Здесь же перед моим взором предстали и дорожные вещи богатых путешественников, эти вместилища роскоши из эластичной телячьей шкуры или ценнейшей крокодиловой кожи, с виду состоящей из сплошных заплат. У этих витрин я познакомился с принадлежностями красивой, изысканной жизни: флаконами, щетками, несессерами, футлярами для провизии и складными спиртовками в блестящем никеле. Среди всех этих предметов были соблазнительно разложены пестрые жилеты, великолепные галстуки, тончайшее белье, шляпы на атласной подкладке, замшевые перчатки и шелковые носки. Созерцая всю эту роскошь, юноша мог усвоить обиход элегантного джентльмена вплоть до последней удобно выгнутой пуговицы. А затем, стоило мне только, осторожно лавируя между звенящими трамваями и экипажами, перейти улицу, как я уже оказывался у витрины магазина художественных изделий. Тут была выставлена продукция изящных ремесел, вещи, предназначенные тешить просвещенный, опытный глаз: картины выдающихся мастеров, всевозможные зверюшки из фарфора, красивая керамика, бронзовые статуэтки; руки мои так и тянулись обласкать их стройные, благородные тела. А что значит блеск несколькими шагами дальше, такой блеск, что у прохожего ноги прирастают к земле? Это витрина известного ювелира и золотых дел мастера, и ничто, ничто, кроме хрупкого стекла, не отделяет продрогшего мальчика от всех сокровищ сказочной страны. Здесь у меня, больше чем где бы то ни было, безудержный восторг соединялся с неутолимой жаждой познания. Бледно мерцающие на кружевах нити жемчуга с крупной, как вишня, жемчужиной посредине и равномерно уменьшающимися по мере приближения к бриллиантовому замку, – нити, которые стоят целое состояние; бриллиантовые украшения, холодно сверкающие на темном бархате, переливающиеся всеми цветами радуги и достойные украшать шею, грудь и голову королев; гладкие золотые портсигары и рукоятки для тростей, соблазнительно разложенные на стеклянных подставках; между ними небрежно рассыпанные драгоценные камни, поражающие глаз величавой игрою красок: кроваво-алые рубины, смарагды – ярко-зеленые, как хрусталь, сапфиры, излучающие звездный свет из своей прозрачно-синей глуби; аметисты, о которых говорят, будто их изумительная лиловость – следствие органической примеси; опалы, меняющие цвет в зависимости от точки, с которой ты смотришь на них; несколько топазов и еще какие-то неведомые камни всех оттенков солнечного спектра. Это зрелище не только услаждало мои чувства, я изучал камни, всем существом своим углублялся в них, сравнивал их и мысленно взвешивал; в те дни я впервые осознал свою любовь к драгоценным камням, этим совершенным по составу, но, собственно, ничего не стоящим кристаллам, простейшие элементы которых соединяются в бесценное целое лишь благодаря игривой прихоти природы; и тогда же я заложил основу серьезных знаний, впоследствии приобретенных мной в этой волшебно-прекрасной области.
Не знаю, говорить ли мне еще о цветочных магазинах, из дверей которых, стоило им приоткрыться, лились влажно-теплые благоухания рая, а в окнах стояли корзины, украшенные огромными атласными бантами, те, что в знак внимания посылаются женщинам. Или о писчебумажных лавках; заглядывая в их окна, я узнал, какую бумагу должен выбирать джентльмен для своей корреспонденции, и еще – что на ней должны быть выгравированы его инициалы, корона и герб. Или о витринах парфюмеров и парикмахеров, где в больших граненых флаконах были выставлены французские духи и ароматические эссенции, а в роскошно обитых футлярах лежали всевозможные аксессуары для полировки ногтей и массажа лица. Дар созерцания, а им я обладал в ту пору, составлял для меня все – это дар, воспитующий уже потому, что он обращен на вещественное, на все заманчиво-поучительное, что только есть в мире. Но насколько же глубже бывают затронуты чувства, когда ты пожираешь глазами не вещи, а людей – возможность, щедро предоставленная мне большим городом, вернее, его фешенебельными кварталами, в которых я преимущественно вел свои наблюдения! Как совсем по-другому, нежели безжизненные вещи, занимают люди мысль и внимание юноши!
О, эти сцены светской жизни! Никогда не являлись они взору более восприимчивому! Кто знает, почему одна из картин, наполнявших мое сердце тоской и вожделением, картина, ничем не примечательная и вполне заурядная, так врезалась мне в память, что я и сейчас еще трепещу от восторга, вспоминая о ней? Нет, я не в силах противиться искушению воссоздать ее на этих страницах, хотя отлично знаю, что рассказчик – а им я сейчас являюсь – не должен отвлекать читателя происшествиями, из которых, вульгарно выражаясь, «ничего не проистекает», ибо они не способствуют развитию того, что принято называть «действием». Но, может быть, хоть при описании собственной жизни дозволено руководствоваться велениями сердца больше, чем законами искусства?
Еще раз повторяю: ничего особенного в этой картине не было, но она была очаровательна. Место действия находилось у меня над головой – балкон бельэтажа большой гостиницы «Франкфуртское подворье». Однажды зимним вечером на него вышли – да, да, прошу прощенья, так просто все и обстояло – двое молодых людей не старше меня, по-видимому брат и сестра, может быть даже двойняшки. Головы у них были не покрыты, на себя они тоже ничего не накинули, из озорства. Оба темноволосые, явно уроженцы заморских стран, то ли южноамериканцы испано-португальского происхождения, то ли аргентинцы или бразильцы, а может быть – я ведь просто гадаю, – может быть, и евреи – предположение, нисколько не умаляющее моего восторга, так как воспитанные в роскоши дети этого племени бывают очень и очень привлекательны. Оба были до того хороши, что словами не скажешь, и юноша по красоте не уступал девушке. Они уже были одеты для вечера; на манишке молодого человека я заметил бриллиантовые запонки, у девушки в темных, красиво причесанных волосах сверкал бриллиантовый аграф, другой точно такой же был приколот на груди, там, где красноватый бархат платья переходил в прозрачное кружево; из таких же кружев были у нее и рукава.
Я дрожал за их туалет, ибо несколько мокрых снежинок, покружив в воздухе, уже легли на темные кудри брата и сестры. Да и вся-то их ребяческая шалость длилась не больше двух минут и была затеяна, верно, только для того, чтобы, со смехом перегнувшись через перила, посмотреть, что творится на улице. Затем они сделали вид, будто у них зуб на зуб не попадает от холода, стряхнули снежинки со своего платья и скрылись в комнату, где тотчас же зажегся свет. Исчезла чудесная фантасмагория, исчезла, чтобы уже никогда не возникнуть вновь. Но я еще долго стоял и смотрел поверх фонарного столба на балкон, мысленно пытаясь проникнуть в жизнь этих существ. И не только в эту ночь, но еще много ночей кряду, когда я, усталый от ходьбы и созерцания, засыпал на своей кухонной скамье, снились мне эти двое.
То были любовные сны, исполненные восторга и жажды слияния. Иначе я сказать не могу, хотя взволновало меня не отдельное, а двуединое явление – мельком увиденная пара, сестра и брат. Иными словами – существо моего пола и пола противоположного, то есть прекрасного. Но красота возникла здесь из двуединства, из очаровательного двоякого повторения, и я отнюдь не уверен, что образ юноши на балконе – если не говорить о жемчужинах в его манишке – хоть сколько-нибудь взбудоражил бы мои чувства, как сомневаюсь и в том, чтобы девушка без ее мужского повторения могла заставить мой дух предаться столь сладостным мечтаниям. Любовные сны – сны, которые я люблю, пожалуй, именно за первозданную нераздельность и неопределенность, за двусмысленность, а стало быть, полносмыслие, охватывающее человеческую природу в двуряде обоих полов.
«Мечтатель и разиня! – уже слышу я голос читателя. – Где же твои приключения? Уж не собрался ли ты на протяжении всей книги занимать нас чувствительными ламентациями и треволнениями твоей сладострастной расслабленности. Что ж, так ты и продолжал прижиматься лбом и носом к огромным стеклам и сквозь щелку в кремовых занавесах заглядывать внутрь элегантных ресторанов или стоял, одурманенный пряными запахами, проникавшими из кухонь, и смотрел, как кельнеры обслуживают избранных франкфуртцев, сидящих за маленькими столиками, на которых стоят канделябры со свечами, затененными изящными экранчиками, и диковинные цветы в хрустальных вазах?»
Да, все это я проделывал и только удивляюсь, как метко удалось читателю описать зрительные наслаждения, похищенные мною у красивой жизни; кажется, будто он и сам прижимался носом к вышеупомянутым стеклам. Что же касается «расслабленности», то он скоро поймет, сколь неуместно здесь это определение и, как джентльмен, поспешит от него отказаться, предварительно извинившись передо мной. Но пора уже довести до его сведения, что, не ограничиваясь созерцанием, я искал и нашел способ прийти в известное соприкосновение с миром, к которому влекла меня моя природа, а именно: по окончании спектаклей я терся у театральных подъездов и, будучи малым ловким и услужливым, подзывал заждавшиеся экипажи для избранной публики, когда она, смеясь и болтая, разгоряченная сладостным зрелищем, устремлялась к выходу. Я бросался чуть не под ноги лошадям, чтобы заставить их остановиться у крытого подъезда, где дожидались мои «клиенты», или пробегал изрядный кусок по улице, разыскивая чью-то карету, усаживался на козлы рядом с кучером и, подкатив к театру, снова соскакивал, как лакей, стремглав летел открывать дверцу и при этом отвешивал владельцам экипажа столь учтивый поклон, что они чувствовали себя озадаченными. Для того чтобы доставить к подъезду эти ландо и кареты, я искательно просил счастливцев, которым они принадлежали, назвать мне свое имя и не знал большего удовольствия, как звонким голосом выкрикнуть его в воздух и обязательно с прибавлением титула, к примеру: «Карету господина тайного советника Штрейзанда! Господина генерального консула Акерблома! Господина полковника Штраленбейма или Адельслебена!»
Некоторые носители особенно мудреных имен колебались, прежде чем назвать их, не надеясь на мою способность выговорить таковые. Одна супружеская чета, например, которую сопровождала взрослая, но, видимо, незамужняя дочь, носила фамилию Крен де Монт-ан-Флер; эти люди были прямо-таки растроганы корректной элегантностью, с которой я, точно петух на заре, прогорланил их поэтически цветистое, сплошь состоящее из хруста и шелеста имя. Заслышав его в отдалении, старик кучер немедленно подал своим господам старомодную, но чисто вымытую карету, запряженную парой откормленных буланых.
Вожделенные монеты, порой даже серебряные, скользили мне в руку за эти услуги, оказанные сильным мира сего. Но моему сердцу дороже были менее весомые и более обнадеживающие награды, иногда выпадавшие мне на долю, ненароком подмеченные знаки благоволения со стороны большого света: приятно удивленный взгляд, остановившийся на моей особе, любопытная улыбка. Я так заботливо отмечал про себя все эти скромные успехи, что еще и теперь мог бы поделиться воспоминаниями если не о любом из них, то уж, безусловно, о каждом мало-мальски значительном.
Как странно обстоит дело, если вдуматься поглубже, с человеческим глазом, этой жемчужиной органического строения, когда он останавливается, собираясь сосредоточить свой влажный блеск на другом человеческом существе. Изумительный этот студень, что состоит из такой же обыкновенной материи, как и все творение, подобно драгоценным камням, наглядно показывает нам: материя – ничто, все – удачное и замысловатое ее сочетание. Покуда плесень, скопившаяся в нашей орбите и предназначенная к тому, чтобы со временем, разлагаясь в могиле, вновь смешаться с жидкой грязью, одухотворена хоть искоркой жизни, ей дано строить и перекидывать воздушный мост через любую пропасть отчуждения, могущую возникнуть между людьми!
О явлениях тонких и трудно уловимых говорить надо тоже без всякого нажима, а, следовательно, отступления допустимы здесь лишь при соблюдении сугубой осторожности. Счастье можно испытать только на двух полюсах человеческих взаимоотношений – где еще или уже не возникают слова: во встрече глаз и в объятии; только там царят безусловность, свобода, тайна и глубокая откровенность. Все отношения в промежутке между этими полюсами – не теплы и не холодны, условны, ограниченны, скованы принятой формой светской условности. Здесь властвует слово, это слабое, половинчатое средство, первое порождение цивилизованной умеренности, настолько чуждое страстной и молчаливой сфере природы, что можно было бы сказать: любое слово само по себе – фраза, риторика. И это говорю я, задавшийся целью написать свою автобиографию и, уж конечно, прилагающий все старания, чтобы дать ей наилучшее беллетристическое выражение.
Глава пятая
Но мне кажется, читатель уже начинает опасаться, что за всеми этими отступлениями я легкомысленно позабыл о нависшей надо мной угрозе военной службы, а потому спешу заверить его, что дело обстояло совсем не так и что я, напротив, почти все время с тоской размышлял об этом роковом для меня вопросе. Правда, по мере того как я мысленно распутывал завязавшийся узел, моя тоска уступала место тому радостному стеснению сердца, которое мы чувствуем, готовясь направить все свои способности на решение большой, даже грандиозной задачи, но… тут я должен попридержать перо, ибо поддаться искушению и забежать вперед было бы весьма нерасчетливо. Поскольку я все больше и больше укрепляюсь в намерении опубликовать свое сочиненьице, конечно, если мне будет суждено его закончить, то я не вправе пренебрегать теми положениями и правилами, которыми руководствуются романисты, стремясь возбудить любопытство и волнение читателя; не устояв перед соблазном и наперед выболтав все самое интересное, я бы прежде времени расстрелял свой порох и, конечно, грубо нарушил бы упомянутые правила.
Прежде всего замечу, что я с большим тщанием, можно даже сказать – строго научно, приступил к делу, остерегаясь недооценивать трудности, которые могли мне встретиться. Действовать наобум в серьезных случаях – не моя метода; напротив, я всегда старался невероятно дерзкую, по обывательскому мнению, отвагу сочетать с холодной рассудительностью и продуманнейшей осторожностью, дабы однажды начатое не кончилось для меня поражением, позором и осмеянием, и это стало залогом моих успехов. В данном случае я не только разузнал все подробности относительно предстоявшего мне прохождения медицинского осмотра, но приобрел самые точные сведения о требованиях, предъявляемых к состоянию здоровья военнообязанного, почерпнув их отчасти из разговора с нашим пансионером-механиком, в свое время отбывавшим военную службу, отчасти же из многотомного «Всеобщего справочника», который этот сокрушавшийся о своей недостаточной образованности человек водрузил на полке у себя в комнате. Наметив в общих чертах план действий, я скопил полторы марки из чаевых, полученных у театральных подъездов, и купил выставленный в окне книгопродавца медицинский труд, в чтение которого тут же и погрузился не только с великой горячностью, но и с большой пользой для себя.
Талант нуждается в знаниях, как корабль в песчаном балласте, но не менее достоверно и то, что мы по-настоящему усваиваем, более того, что мы имеем право усваивать лишь те знания, которые талант жаждет обрести в особых частных случаях, когда они нужны ему позарез, чтобы при их помощи сотворить непреложную действительность, весомую реальность. Что касается упомянутой книги, то я ею буквально зачитывался, а ночью при свече, поставленной у зеркальца в нашей кухне, спешил подкрепить почерпнутые мною знания практическими упражнениями, которые всякий, если бы кому случилось их подсмотреть, счел бы крайним дурачеством; но, занимаясь этими упражнениями, я преследовал очень ясную и разумную цель! Однако ни слова более! Скажу только, что вскоре читателю будет возмещено сторицей это необходимое здесь умолчание.
Уже в конце января я, согласно предписанию, явился в часть, имея при себе чин чином выправленное метрическое свидетельство и свидетельство о поведении, взятое из полицейского участка, сдержанно-уклончивая форма которого (в справке значилось, что полиции ничего предосудительного обо мне не известно) меня по-ребячески огорчала и беспокоила. В марте, когда весна уже дала знать о себе сладостным дуновением ветерка и птичьим гомоном, я получил предписание явиться в призывной округ для медицинского освидетельствования и, взяв билет четвертого класса, немедленно отбыл в Висбаден в настроении, впрочем, довольно бодром. Я знал, что участь моя в тот день еще не решится, так как почти не было человека, который не направлялся после предварительного осмотра в так называемую главную призывную комиссию, выносящую окончательное решение о годности или негодности рекрутов к военной службе. Ожидания мои оправдались. Процедура освидетельствования оказалась быстрой, ничем не примечательной и не оставила по себе никаких воспоминаний. Врач измерил мой рост, ширину плеч, выслушал меня, задал несколько беглых вопросов и воздержался от каких бы то ни было заключений. Отпущенный до особого распоряжения и чувствуя себя как собака на длинной сворке, то есть относительно свободным, я прогулялся по великолепным паркам, которыми изобилует богатый источник Висбаден, постоял, восхищаясь и тренируя свой вкус, у витрин роскошных курортных торговых рядов и вечером вернулся во Франкфурт.
Но прошло еще два месяца (была уже вторая половина мая, и в наших краях преждевременно установилась летняя жара), и настал день, когда моя отсрочка истекла, длинная сворка – выше я прибег к этому образному выражению – укоротилась, и мне предстояло безотлагательно явиться в комиссию. Как билось у меня сердце, когда я снова сидел среди простонародья в вагоне четвертого класса висбаденского поезда и на крыльях пара несся навстречу решению своей участи. Мои спутники, разморенные жарой, клевали носом, но мне надо было оставаться в полном обладании сил; я сидел выпрямившись, инстинктивно избегая прислоняться к спинке, и старался вообразить себе обстоятельства, при которых мне придется испытать свои силы и которые, как это всегда бывает, конечно, сложатся совсем по-иному, чем мне сейчас представляется. И хотя меня попеременно обуревали боязнь и веселость, но исход задуманного не внушал мне тревоги. Я твердо решил идти на любую крайность и, если понадобится, пустить в ход все свои душевные и физические силы (без такой готовности, по моему твердому убеждению, вообще глупо идти на серьезный риск), а потому не сомневался в моем конечном успехе. Страшила меня только неизвестность: я не знал, сколько сил мне придется собрать и принести в жертву для достижения цели. Такая свойственная мне нежная заботливость о собственной персоне легко могла бы обернуться расслабленностью или трусостью, если бы не уравновешивалась другими, более мужественными чертами моего характера.
Как сейчас вижу низкое, но большое сводчатое помещение, куда направил меня суровый перст военного ведомства, переполненное множеством молодых людей мужского пола. Комиссии отвели первый этаж обветшавшей и запущенной казармы, унылую комнату, всеми четырьмя окнами выходившую на глинистую пригородную лужайку, закиданную всевозможным мусором, щебнем, жестянками и отбросами. За некрашеным кухонным столом сидел какой-то усатый служивый, унтер-офицер или фельдфебель, и выкликал имена тех, кому надлежало через узкую дверь идти в закут для раздевания, отгороженный от соседней комнаты, где происходил медицинский осмотр. Повадки у этого служивого были грубые, рассчитанные на запугивание новичков. Он громко зевал, выбрасывал вперед руки и ноги или потешался над образовательным цензом тех, кого ему надлежало отправлять в «судилище». «Доктор философии», – выкрикивал он с насмешливым видом, словно говоря: «Мы эту философию из тебя выколотим, дружище!» Все это исполнило мое сердце страхом и отвращением.
Осмотр был на полном ходу, но подвигался медленно. И так как рекрутов вызывали по алфавиту, то те, чьи фамилии начинались на последние буквы, волей-неволей были обречены на долгое ожидание. Напряженная тишина царила в помещении, где собрались молодые люди самых различных сословий. Были здесь деревенские олухи и задиристые юнцы – представители городского пролетариата; господчики из торговых учеников, простодушные ремесленники, даже какой-то тип, причастный к театральному миру, чья упитанная, синяя физиономия возбуждала сдержанное веселье: лупоглазые парни неопределенной профессии, без воротников, в продранных лакированных башмаках; маменькины сынки, только что со школьной скамьи; и бледные господа, уже в летах, с остроконечными бородками и благовоспитанными манерами ученых, которые, чувствуя всю нелепость своего положения, беспокойно расхаживали по залу. Трое или четверо призывников, чьи имена должны были вот-вот выкликнуть, уже стояли у дверей босиком, раздетые до рубахи, перекинув через плечо свое платье, со шляпой и башмаками в руках. Другие, расположившись вдоль стен на узких скамейках или бочком присевши на подоконники, уже завязали знакомство и вполголоса перебрасывались словами о своем здоровье и превратностях рекрутского набора. Временами – никто не знал, каким образом, – из комнаты, где заседала врачебная комиссия, проникали слухи, что годными признано уже много юношей, а это значило, что для еще не освидетельствованных повышались шансы на благополучный исход; впрочем, эти сообщения никто не мог проверить. В толпе перемигивались, грубовато подшучивали над теми, что стояли под всеми взглядами почти голые, так как их имена уже были названы, или направлялись к двери, сопровождаемые все более фривольным смехом, покуда злобный окрик фельдфебеля не водворял положенную тишину.
Я, по обыкновению, держался особняком, не принимая участия в праздной болтовне и соленых шутках, а когда ко мне обращались, отвечал холодно и уклончиво. Стоя у открытого окна (в переполненном зале сделался очень тяжелый воздух), я, чтобы скоротать время, смотрел то на замусоренную лужайку, то на пеструю толпу в помещении. Мне очень хотелось заглянуть в соседнюю комнату, где правила суд медицинская комиссия, чтобы получить хоть самое беглое представление о грозном штаб-лекаре, но это было невозможно, и я усиленно внушал себе, что дело не в личности этого господина и что моя судьба вовсе не в его руках, а в моих собственных. Скука тяжело давила на все умы и сердца вокруг, но я не страдал от нее. Во-первых, я от природы терпелив, могу долго обходиться без всякого занятия и люблю досуг, который одурманивающая деятельность не заволакивает, не вспугивает, не стирает из памяти. Кроме того, мне было отнюдь не к спеху приниматься за выполнение смелого и трудного урока, меня ожидавшего, и я даже радовался возможности на свободе освоиться и свыкнуться с ним.
Было уже около полудня, когда мой слух уловил имена, начинавшиеся на букву «К». Но судьба, как видно, хотела сегодня благодушно подшутить надо мной: Каммахерам, Келлерманам, Килианам, Кналлям и Кроллям, казалось, конца не будет, так что, когда наконец было произнесено мое имя и я начал разоблачаться, мои нервы были очень натянуты. Впрочем, обстоятельство это не поколебало моей решимости, а, напротив, только укрепило ее.
В день призыва я надел одну из тех крахмальных рубашек, которыми крестный снабдил меня для новой жизни и которые я из бережливости обычно не носил, но я заранее решил, что здесь хорошее белье произведет выгодное впечатление. Итак, я стоял у дверей кабинета в сознании, что мне не стыдно показаться людям между двух парней в застиранных клетчатых рубашках из бумажной материи. Насколько я мог заметить, по моему адресу не было отпущено ни одного насмешливого словца, и даже сержант за столом смотрел на меня с тем уважением, в котором человек подчиненного положения никогда не отказывает недоступному для него изяществу и щегольству. Я видел, что он сравнивает с моим обличьем данные, занесенные в его список, – это занятие настолько увлекло его, что он прозевал момент, когда надо было выкрикнуть мое имя, так что я даже был вынужден спросить, не пора ли мне идти, что он тут же и подтвердил. Итак, я переступил босыми ногами порог и, оказавшись один за перегородкой, положил свою одежду рядом с одеждой моего предшественника на скамью, сунул под нее свои башмаки, снял наконец крахмальную рубашку и, аккуратно расправив, присовокупил ее к остальному гардеробу. Затем я прислушался и стал ждать дальнейших приказаний.
Напряжение мое дошло до предела, сердце билось неровно и кровь, наверно, отхлынула от лица. Но к этому состоянию примешалось и другое чувство, радостного порядка, для описания которого не так-то легко подыскать слова. Не помню уже, в виде ли эпиграфа к газетной статье, или обрывка какой-то мысли, вычитанной в тюрьме, мне однажды попалась на глаза сентенция, утверждавшая, что нагота – тот образ, который нам сообщила мать-природа, – всех нас уравнивает в правах и что среди голых не может быть ни табели о рангах, ни несправедливого предпочтения. Эта мысль, очень меня рассердившая, несомненно, должна польстить черни, но в ней нет и крупицы правды, ибо подлинная табель о рангах устанавливается как раз первобытной природой, и наготу можно назвать справедливой лишь постольку, поскольку она-то и подтверждает установленную самой природой несправедливую аристократическую иерархию людского племени. Я понял это, когда мой крестный Шиммельпристер впервые чудесно перенес на полотно мой образ, сообщив ему идеально обобщающее значение, и укреплялся в этой мысли всякий раз, когда видел человека освободившимся, ну хотя бы в общественных банях, от всех случайных условностей и выступающим в том виде, в каком он родился. Вот почему я ощущал живую радость, даже гордость оттого, что мне надлежало предстать перед высокой комиссией не в случайном нищенском платье, а в моем истинном, первозданном обличье.