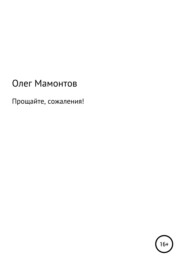скачать книгу бесплатно
Прощайте, сожаления!
Олег Николаевич Мамонтов
В книге рассказывается о россиянах, которые не только решают проблемы выживания в непростых условиях нашей действительности, но и думают о судьбах Отечества, размышляют о российской истории, ищут в ней ключи для понимания современности. Притеснения со стороны сильных мира сего, искушение лёгкого богатства, потеря работы и любимых, тяжелые недуги – с этими испытаниями сталкиваются герои, и некоторые из них переживают душевную ломку, идут на преступления… Автор постарался обозначить больные проблемы наших дней, не пытаясь дать на них готовые ответы.
Олег Мамонтов
Прощайте, сожаления!
1
В Москве Александра Петина чувствовала себя несчастной, неловкой, никчёмной неудачницей, хуже того – прощелыгой, не заслуживающей ни счастья, ни хотя бы сострадания. Столица – нелюбимая и всё-таки притягательная, сумбурная, суматошная, неуютная, хмурая, всегда заполненная спешащим народом, как гигантский проходной двор, обманчиво простецкая, распахнутая как будто для всех и каждого – в действительности оказывалась неприступной. Во всяком случае, для неё, маленькой, совсем немолодой женщины. Она искала и не находила в этом каменном лабиринте самого необходимого – своего места в жизни.
На днях в очередной раз тучи сгустились над её головой. Она ездила по заданию редакции интернет-издания antikorrupzia.ru в Верхневолжск для освещения истории об аресте по обвинению во взяточничестве тамошнего мэра Трушина, имевшего репутацию либерала, и подготовила материал, который редактор отверг, а вместо объяснений сказал как отрезал: «Так писать нельзя». С этим приговором рушилась её надежда на закрепление в издании, где она была только на испытательном сроке и за месяц подготовила лишь два материала, одобренных редактором. Причем оба представляли собой репортажи о маловажных мероприятиях, и из второго взяли только сделанные ею фотографии, а текст опубликовали другой, хотя и за её подписью.
Александра не могла понять, чем же плох её материал о Трушине. Написан он был с обычным для неё тщанием, с изложением множества обстоятельств дела и цитированием всевозможных источников. Ей удалось даже встретиться с женой арестованного и осветить событие глазами этой несчастной женщины, потрясённой случившемся, убеждённой в невиновности мужа и достойной безусловного сочувствия. Правда, при написании статьи она допустила некоторую передержку, слишком горячо, пристрастно настаивая на версии защиты о заказном характере уголовного дела и сходу отметая улики против бывшего мэра как сфабрикованные. Но разве это дело – не ещё одно поле борьбы двух партий, либералов и консерваторов, и разве не должна она, журналист, открыто поднять свой либеральный стяг и выступить в защиту Трушина с партийной позиции? Тем более – в либеральном СМИ?
Примером для неё было любимое радио «Слухи Москвы», на котором даже анонс воскресной программы для малышей и их родителей ведущая со сдобным голосом заслуженной кормилицы завершала словами: «За наше и ваше будущее!», перефразируя знаменитый лозунг польских инсургентов: «За нашу и вашу свободу!». А уж в своей популярной передаче «Тайны Кремля» блистательная Полина Бреус по-настоящему бралась за превращение слушателей в революционеров, не боясь показаться пристрастной и не упуская ни одной возможности лягнуть ненавистный режим. Совершая экскурсы в прошлое разных государств, она проповедовала необходимость для просвещённого меньшинства взять судьбу отечества в свои руки вопреки мнениям отсталого большинства. Александра всей душой желала участвовать в делах революционного меньшинства, хотя затруднилась бы с ответом на вопрос о том, почему так уверилась в необходимости радикальных перемен в стране. Ни её относительно благополучное прошлое, ни даже не слишком успешное настоящее не объясняли как будто такого ожесточения.
Александра родилась и выросла в Ордатове, в семье рядовых инженеров, в школе училась средненько, проявляя склонность не к литературе и истории, как приличествовало будущему журналисту, а к математике, и поступила потому в местный университет на специальность «прикладная математика», где освоила начала программирования. По окончании вуза она поработала немного в местном проектном институте программистом, а когда зарплату там стали задерживать, легко сорвалась с места и уехала в Москву, где стала рекрутером в кадровом агентстве.
В рекрутеры она попала по милости человека, с которым у неё вскоре возникли романтические отношения, – Михаила Обожина, открывшего в Москве рекрутинговое агентство «Рандеву». Он был романтиком рынка, каких в ту пору было много, и смело ринулся в неизвестную ему сферу деятельности, выбранную только потому, что она представлялась сравнительно несложной и не требовала значительного начального капитала. Михаил и приглянувшаяся ему молодая и симпатичная Александра, а также ещё две девушки-сотрудницы вместе изучали азы рекрутинга по одним и тем же учебникам и тут же пытались применить полученные познания на практике.
Довольно скоро Михаил и его сотрудницы убедились в том, что в России ещё не сложилась практика регулярного обращения работодателей в рекрутинговые агентства и что серьёзную конкуренцию рекрутерам составляет интернет, при помощи которого работодатели и соискатели рабочих мест находят друг друга без посредников. Они узнали также, что и внутри их отрасли высока конкуренция, что многие заказы на услуги рекрутеров проходят через тендеры, что зачастую над одной вакансией работают несколько агентств, и оплата достаётся лишь тому, которое быстрее остальных находит дельного специалиста. А разве преуспеешь в этом, если ты не психолог и не знаешь, как оценить психологические характеристики кандидата на вакансию – его мотивацию, гибкость и способность адаптироваться в коллективе? И ещё сложнее с оценкой профессионального уровня соискателей. А если нужный кому-то специалист спокойно трудится где-то и не даёт о себе знать? Как выйти на него?
Кого основатель «Рандеву» нашёл точно, так это своих возлюбленных. Сначала он полюбил Александру, и она ответила взаимностью. Дело шло как будто к свадьбе, но когда Александра забеременела, Михаил резко охладел к ней и полюбил другую сотрудницу. Александре пришлось ехать в Ордатов и делать аборт, после которого она стала бесплодной. Затем заболела её мать, и Александра, ухаживая за ней, застряла в родном городе почти на десять лет.
По возвращении в Ордатов Александра решила попробовать себя на новом поприще: стала сотрудницей «Ордатовских новостей». На новом месте она вошла во вкус прежде незнакомой ей журналистской работы и сошлась с трудившимся в той же редакции Дмитрием Камориным. Недовольная правкой своих материалов редактрисой Анжелой Чермных, Александра затем перешла в «Ордатовскую неделю», где не ужилась по той же причине. После чего она уехала в Москву с намерением работать в столичной журналистике.
Амбициозные стремления Александры не слишком соответствовали её объективным данным. И дело было не в отсутствии журналистского образования и даже не в недостатке грамотности, из-за чего, к примеру, в предлоге «несмотря» она писала «не» раздельно. Её отличала тяга к пышному, многословному стилю с обилием красочных выражений, метафор, сравнений и реминисценций, что мало подходило для большинства изданий, в особенности тех, где многие публикации были заказными, платными и каждый квадратный сантиметр полосы подлежал строгому учёту. Но главная беда была в её преувеличенном мнении о своих способностях, из-за чего она слишком полагалась на свою интуицию при выяснении сути описываемых событий и слишком рьяно отстаивала свои сомнительные словесные «перлы», когда те не нравились редакторам. При всём том журналистское дарование, пусть небольшое и необработанное, у неё всё же имелось. Она подошла бы для маленькой местной газеты с терпеливым редактором, лучше всего немолодым мужчиной, но её тянуло в столицу, в большую журналистику. Уступая упорству странной сорокалетней дебютантки, её принимали на работу в третьестепенные столичные СМИ, внештатную или с испытательным сроком. Но добиться того, чего она больше всего желала и с чем связывала главные свои надежды на успех в столице, – аудиенции у «великой» Полины Бреус и попадания в штат «Слухов Москвы», – ей так и не удалось.
А между тем именно Полина Бреус была её кумиром, именно по её примеру она хотела выступать перед большой аудиторией на острые политические темы. Бреус поразила её тем, как вольно и дерзко можно говорить даже о первых лицах государства, называя их власть, то ли в шутку, то ли всерьёз, «кровавым режимом», и при этом быть уверенной в том, что ничто не заглушит её голос, проникающий под каждую кровлю в бесчисленных российских градах и весях, и что ничего ей за это не будет. Александра поверила не столько в то, о чём говорила Бреус, сколько в то, как она говорила, – с ехидной, полублатной интонацией то ли прожжённой плутовки, всезнающей базарной бой-бабы, то ли девочки-оторвы из подворотни, с характерным смачным причмокиванием губками и резкими, глумливыми выражениями в адрес власть предержащих. Ведь Александра сама сознавала себя такой или, вернее, хотела быть такой и сама любила ввернуть при случае крепкое словцо.
Если власть допускает, чтобы о ней говорили таким образом, значит она действительно слаба и порочна – в этом Александра была совершенно уверена. И ей очень захотелось поучаствовать в деле устранения такой власти, казавшемся очень верным и благородным, попасть в ряды тех, кого либеральная пресса заискивающе именовала «креативным классом», возвыситься над миллионами остальных россиян. Она стала ходить на «белоленточные» митинги и шествия и на них окончательно уверилась в правоте назревавшей «белой революции», увидела в лице предводителя «белоленточной» толпы господина Надильного настоящую власть, вот-вот готовую утвердиться в этом качестве. Этот либеральный кумир, этнический украинец со смазливой среднеевропейской внешностью, который мог бы сойти за чеха, немца и даже еврея-ашкенази, чем-то похожий на американского актёра Джерарда Батлера, такого убедительного в ролях героев-бунтарей в фильмах «Робин Гуд» и «Проповедник с пулемётом». Похожий, может быть, умением придавать своему взору выражение одновременно проникновенное и жёсткое, подобающее вождю мятежа. Надильный поразил её угрозой повести толпу на Кремль. Сильное впечатление произвело на неё и то, как телохранители кумира отшвырнули, точно котёнка, её коллегу – некстати сунувшегося репортёра. «Вот так ведёт себя настоящая власть, которая не стесняется дать окорот враждебным писакам!» – решила Александра.
В памятный для многих день 6 мая 2012 года Александра пришла с видеокамерой на Болотную площадь, где оказалась в самой гуще толпы, навалившейся на линию оцепления. Кто-то из своих, из толпы, ненароком толкнул её руку с видеокамерой, которую она держала у лица, непрерывно снимая происходившее, и тяжёлый аппарат ударил её по лицу. Из рассечённой ударом венозной жилки возле левого глаза сразу обильно потекла кровь. Сосед из толпы попытался вытереть ей лицо листовкой, но кровь всё шла. Несмотря на это, Александра продолжала снимать. Впрочем, в её объектив в тот день не попало ничего интересного, кроме группы странных молодых людей в одинаковых чёрных куртках с капюшонами, бросавших дымовые шашки. Она решила, что это провокаторы, но не могла понять, кто же вывел их на площадь. Они вполне могли быть сторонниками леворадикального лидера Удальцова, который считался главным организатором мероприятия, членами одной из руководимых им организаций – «Левого фронта» или «Авангарда красной молодёжи». На следующий день она выложила кадры из снятого ею видео в своём «живом журнале».
В числе этих кадров оказалось и фото-«селфи» самой Александры. Изображение немолодой женщины с тонким окровавленным лицом на фоне толпы демонстрантов стало на короткое время популярным в либеральной тусовке, но известности Александре не принёсло. Правда, в пору безденежья один прежде незнакомый ей читатель её «живого журнала», узнав о её ситуации, предложил небольшую помощь – две тысячи рублей. Тем не менее она с гордостью вспоминала о том дне: тогда она почувствовала себя нераздельной частью большой массы людей, объединённых общей целью, «солдатом революции».
Она вспоминала обо всём этом и в печальное утро своего последнего рабочего дня в столице, уже предчувствуя, что не сегодня-завтра ей в очередной раз придётся стать безработной. Предчувствие не обмануло её. Сразу после обеденного перерыва её вызвал к себе в кабинет заместитель главного редактора Тугаринов, предложил сесть и, глядя не на неё, а на какую-то точку на своём столе, сказал:
– Мы благодарны вам за ваше усердие, Александра Викторовна, но вы нам не подходите.
После этих слов он бросил на неё быстрый косящий взгляд исподлобья, проверяя её реакцию. Александра показалась ему спокойной, поэтому, снова опустив глаза, он продолжил:
– Полагаю, вам не нужна запись в трудовой об увольнении во время испытательного срока. Нет? Тогда возьмите трудовую без записи. А расчёт у бухгалтера.
Он положил на край стола трудовую книжку и поднялся в знак окончания разговора. Она тоже поднялась, не без удивления отметив, что во время краткой аудиенции ей не пришлось произнести ни слова. Всё за неё решил и сказал этот невзрачный мужичок с уклончивым взглядом, в облике которого было что-то семинаристское: аккуратно подстриженные усы и бородка, довольно длинные волосы, зачёсанные назад, чёрный мятый костюм и серая рубашка с расстёгнутым воротом, без галстука.
Расчёт оказался невелик: всего семнадцать тысяч с «копейками». А от «заначки», заведённой в лучшие дни, осталось лишь чуть более четырёх тысяч. Вместе этого не хватало даже на то, чтобы заплатить за квартиру, не говоря уже о жизни в Москве с её соблазнами, к которым она успела привыкнуть, вроде деликатесов из супермаркетов «Азбука вкуса». Оставалось одно: возвращаться в Ордатов. Думать о трудоустройстве в столице по одной из прежних её специальностей, в качестве программиста или рекрутера, было нельзя. Первой своей профессией она владела слабо и ушла из неё уже полтора десятилетия назад – как оказалось, бесповоротно, поскольку за прошедшее время технологии программирования шагнули вперёд, она же успела забыть и то немногое, что знала. А о своей неудачной карьере в качестве рекрутера она вспоминала со слезами и стыдом. Последняя, отчаянная попытка найти в Москве хоть какую-то работу, приличную для женщины с высшим образованием, не увенчалась успехом: на вакансию оператора call-центра, отысканную в интернете, её не приняли.
Конечно, при желании она могла бы остаться в Москве в каком-то более скромном амплуа. Например, бывший любовник и владелец рекрутингового агентства Михаил Обожин занимался теперь бизнесом по доставке пиццы и во время недавней случайной встречи позвал её к себе. Причём даже не курьером, а офисным менеджером, контролирующим работу курьеров. Но она остереглась сходу соглашаться, помня предыдущую катастрофу с ним, и взяла время на размышление.
Всё взвесив, она склонилась к тому, что надо возвращаться в Ордатов. Это было трудное решение, хотя Москву она едва терпела, воспринимая огромный город как суматошный человеческий муравейник. Не любила она и москвичей, завидуя им и считая их заносчивыми. В столице ей нравились только тихие спальные окраины вроде Отрадного, отчасти похожие на микрорайоны Ордатова. Но проблема заключалась в том, что возвращение в родной город было равносильно признанию поражения. Во всяком случае, именно так будут думать все её ордатовские знакомые, для которых само по себе проживание в столице означало успех. Однако выбора не было. Не идти же, в самом деле, на стыдную для неё работу вроде сотрудницы службы доставки на дом еды из ресторанов, к тому же под началом бывшего неверного любовника…
Проститься с Москвой она решила в том месте, которое считается «знаковым» для этого города, – на Арбате. Там она любила гулять, делая при помощи смартфона снимки-«селфи» для своего «живого журнала», как бы вписывая себя в культурную и историческую среду столицы. На этот раз она сфотографировалась на фоне особняка Хитрово, где жил Пушкин, и «дома с привидениями», с которым связана какая-то романтическая легенда. Она смотрела прощальным взглядом на неширокую улицу с разномастными дворянскими особняками и старинными доходными домами, на толпы нарядных людей, гулявших по сплошному тротуару, и чувствовала, как что-то обрывается в её душе. Когда ещё она вернётся сюда?
Внезапно к ней пришла мысль о том, что потомков живших на Арбате в дореволюционные времена нет среди тех, кто ныне гуляет здесь. Или их очень-очень мало. Это же был «спальный район» аристократической Москвы, в этих домах представители родовитых семейств ходили в халатах и пили кофе перед тем, как отправиться на светский раут или на бал. И ни Пушкин, ни Гоголь, ни Аксаков, ни Лев Толстой, жившие на Арбате или в ближайших переулках, ничего не написали о нём в своих произведениях. Во всяком случае, Александра не припоминала описаний Арбата у классиков. Эта географическая среда московского дворянского быта считалась в их пору, наверно, слишком будничной, всем известной и никому не интересной «материей». И только после революции, когда в дворянских домах были устроены коммуналки, здесь появились будущие «певцы Арбата» – дети выходцев из национальных окраин, которые в своих произведениях изобразили Арбат как некое особое, замечательное и родное для них место. Странно, что оба знаменитых «певца», литературно обозначив своё присутствие здесь и тем самым как бы «застолбив» за собой право на Арбат в качестве его законных насельников и «детей», умерли за границей: один – в Париже, другой – в Нью-Йорке. Не потому ли, что именно туда их на самом деле влекло всю жизнь? Зато теперь неподалёку находится редакция радио «Слухи Москвы», у половины сотрудников которой предки не только не жили в Москве, но и не могли покидать «черту оседлости»…
Арбат с его новодельной брусчаткой, вазонами, фонарями «под старину» и ряжеными аниматорами вдруг показался Александре огромной декорацией, и ей стало скучно. Ей захотелось домой. И так было бы хорошо, если бы её там ждала хоть какая-то работа! Прежде, чем спрятать смартфон, она отправила короткую эсэмэску Каморину, своему давнему ордатовскому знакомому и одно время даже любовнику: «Дмитрий, мне надо вернуться. Нет ли для меня в Ордатове работы?» Отправив послание, она вздохнула: на самом деле ей хотелось получить весть о таком повороте судьбы, который позволил бы ей остаться в Москве. Вот если бы о ней вспомнил кто-то из редакторов столичных изданий, в которых она пробовала работать!.. И ещё ей взгрустнулось о том, что не вернуть то время, когда она, ещё молодая, крутила любовь с Камориным…
Воспоминания о Каморине оставались в числе тех эмоциональных скреп, которые привязывали её к ордатовскому прошлому. Правда, в последнее время, живя в Москве, она не часто думала о нём, поскольку считала, что отношения с ним уже в прошлом. Но порой ей приятно было представлять себе, что вот живёт в Ордатове человек, для которого она дорога. Она сошлась с ним после начала своей работы в «Ордатовских новостях», где он в ту пору считался уже опытным сотрудником. А спустя два года бросила, когда Аркадий Пиковец позвал её в «Ордатовскую неделю». В её выборе в пользу Пиковца расчёт если и был, то лишь подсознательный, интуитивный: ведь в женскую природу заложено стремление ко всему сильному, внушающему доверие. И именно таким казался ей Пиковец, пусть уже очень немолодой и давно женатый. Изначально, сходясь с ним, она знала, что он останется в своей семье, что между ними возможна только тайная связь.
В отличие от Каморина, невысокого нервного человека без журналистского образования и настоящей журналистской хватки, которого терпели в «Ордатовских новостях», может быть, только из милости, в Пиковце ей всё казалось надёжным, основательным: высокий рост, массивный костяк, невозмутимое спокойствие уверенного в себе человека, репутация опытного профессионала и обширные связи. К таким мужчинам она льнула всегда, и лишь в отсутствие их мог привлечь её на какое-то время кто-то вроде Каморина. Но эсэмэску она отправила всё-таки именно Каморину, потому что знала: этот невзрачный неудачник всё ещё вздыхает о ней…
2
В ночь на пятницу Каморин спал плохо. В самое глухое время, около двух часов, он проснулся и затем до утра ворочался, не в силах уснуть снова. Из его головы не выходила Александра Петина, или Сандра, как в пору их любовных отношений она именовала себя в подражание голливудским героиням. На её страницу в социальной сети «вконтакте» он забрёл накануне, получив в конце рабочего дня от неё эсэмэску, и заодно просмотрел и её последние публикации, ссылки на которые выдал Google. Судя по ним, Сандра не только не сделала себе имени в столичной журналистике, но даже не сумела закрепиться надолго в каком-то издании. Её имя мелькало в разных СМИ, в основном электронных, малоизвестных. Скорее всего, она была всюду только внештатной сотрудницей, «фрилансером». Впрочем, ничего иного он от неё и не ждал.
Сандра, вопреки своему «голливудскому» имени, совсем не походила на актрису из блокбастеров, ещё меньше – на «пробивную», настырную журналистку, способную сделать карьеру в Москве: была маленькой, хрупкой, женственной, с нежным личиком, любительницей пошутить и посмеяться задорным, звонким смехом. Но чаще она была задумчивой, печальной, и именно такой осталась запечатлённой на немногих фотографиях, сохранившихся у него от поры их близости. И теперь, оглядываясь в прошлое, в те полузабытые, впустую растраченные годы, он мог отыскать там едва ли не единственное отрадное воспоминание – её образ. В это тёмное утро она снова пришла к нему в воспоминаниях, такая же, какой он помнил её по фотографиям, – красивая, нежная и печальная, уже на пороге увядания, с молчаливым вопросом в глазах: понимаешь ли ты, что я отдаю тебе своё последнее цветение, свои последние хорошие годы?
А между тем он в ту пору мало дорожил ею. Она бывала с ним нечасто, объясняя долгие разлуки необходимостью ухода за своей больной матерью. Ему казалось, что его отношения с ней – лишь замена настоящей любви, прелюдия к ней. И потому он продолжал искать что-то лучшее, в том числе при помощи объявлений о знакомстве. Однажды прямо из постели с ней он заторопился на свидание с другой, которая, точно в насмешку, не пришла. А теперь он видит, что годы прошли, а никого лучше Сандры в его жизни не было. Да и не будет, наверно.
В половине шестого его мобильный телефон разразился резкими сигналами будильника, и волей-неволей он поднялся, чтобы прекратить эти отвратительные звуки. Сразу после этого он засобирался в дорогу: предстояло по заданию редактрисы «Ордатовских новостей» ехать в пригородный посёлок Оржицы, где на консервном заводе губернатор проводил совещание местных товаропроизводителей. Без четверти восемь он подошёл к зданию областной администрации. Там возле колонн дорического портика уже маячила Маша Вострикова из пресс-службы: рыжие волосы, волной ниспадающие на воротник чёрного приталенного пальто из неопрена, оранжевый шарфик под цвет волос, прижатая к груди папка со списком участников и хитрый взгляд с прищуром, выискивающий в толпе прохожих участников мероприятия. Хотя Каморин не входил в журналистский губернаторский пул и на губернаторские выезды попадал изредка, Маша сразу узнала его, приветливо замахала рукой и показала на серую «Газель», стоявшую на обочине неподалёку. Садясь в машину, Каморин подумал о том, что Маше мудрено было не узнать его – полуседого, с одутловатым лицом и толстыми линзами очков. Из других редакций на подобные выездные мероприятия, по которым нужно спешно отписываться в ближайший номер, обычно посылали кого-то помоложе.
В машине уже сидели пять журналистов, в том числе двое телеоператоров с видеокамерами и штативами к ним, разложенными в проходе. Осторожно, чтобы не задеть аппаратуру, Каморин пробрался на одно из самых дальних мест. Журналисты, все люди молодые, оживлённо переговаривались, а Каморин лишь прислушивался к их разговору, чувствуя себя чужим этому «племени младому, незнакомому», к тому же более успешному, чем он сам – представитель непопулярного, мало кому известного частного издания. К восьми подошли ещё трое, а ровно в восемь в двери «Газели» показалась Маша, оглядела собравшихся и скомандовала водителю:
– Едем!
Маша раздала журналистам пресс-релиз, из которого они узнали, что Оржицкий консервный завод лидирует в регионе по выпуску томатной пасты, лечо, кабачковой икры, кетчупов и соусов. Это производство способно переработать в икру шестьдесят тонн кабачка в сутки, а за сезон – три тысячи тонн. Всего же предприятие пропускает через себя в год семь тысяч тонн овощей.
Пока журналисты вникали в пресс-релиз и придумывали вопросы, которые следует задать руководству завода, «Газель» выбралась из лабиринта городских улиц и выехала на загородную трассу. За окнами потянулись поля рыжевато-бурой стерни, перемежавшиеся с тёмной, припудренной инеем, зеленью озимых посевов. Каморин скоро задремал, прислонив голову к холодному оконному стеклу, и стряхнул дремоту только минут через сорок, когда машина остановилась на просторном заводском дворе и его спутники начали выбираться наружу.
Исполнительный директор завода Александр Саматов, приземистый, плотный, с плешью до темени, встретил журналистов улыбками, но пройти в помещение не пригласил. Все поняли: нужно дождаться губернатора. Журналисты с удовольствием втягивали густые пряные ароматы, доносившиеся из заводских корпусов, предвкушая получение вкусных «сувениров», и расспрашивали Саматова об успехах предприятия. Тот отвечал скупо, посматривая на ворота, через которые с минуты на минуту должен был въехать губернаторский кортеж. Рядом с Саматовым были два его заместителя, десятка полтора участников предстоящего совещания и один человек из пишущей братии, приехавший на своей служебной машине раньше коллег, – главный редактор «Вечернего Ордатова» Аркадий Пиковец, лишь недавно назначенный на эту должность. Губернатор подъехал через пять минут на чёрном автомобиле Mercedes-Benz в сопровождении свиты на второй такой же машине. При виде хозяина телеоператоры и фотокорреспонденты встрепенулись и нацелили на него свою аппаратуру. Каморин, совмещавший обязанности пишущего журналиста и фотокорреспондента, тоже защёлкал фотоаппаратом.
Губернатор Анатолий Горбонос, выйдя из машины, победительно улыбнулся, привычно готовый обаять каждого, особенно женщин, своей унаследованной от предков казацкой статью и мужской красотой сухой, породистой головы – седовласой и седоусой, с чёрными густыми бровями. Но улыбка быстро слетела с его губ, когда он увидел, что встречают его только кучка людей, толпившаяся на фоне невысоких корпусов из силикатного кирпича с частыми бельмами заложенных окон. Очевидно, даже ради дорогого гостя директор не счёл нужным прерывать производственный процесс и выводить коллектив во двор.
Лицо губернатора стало озабоченным. Чтобы скрыть досаду, он пробормотал: «Ну показывайте, что тут у вас хорошего», – поскольку знал, что экскурсия по заводу включена в заранее согласованную программу мероприятия. Директор повёл всех к одному из корпусов, где перед входом каждому вручили накидки из голубоватого прозрачного пластика и такие же шапочки. Переступив порог, гости оказались на отгрузочной площадке, где громоздились штабеля поддонов, уставленных стеклянными банками с овощными консервами. Губернатор заулыбался одобрительно при виде такого изобилия и благословляющим жестом прикоснулся к банкам. Затем все проследовали в кетчупный цех и начали знакомство с ним с варочного отделения, где всё, как в бане, обволакивал туман из горячего пара. В основной части того же цеха было светло и почти безлюдно: там работали автоматические линии под управлением нескольких наладчиков.
Каморин шёл следом за директором и прислушивался к его разговору с губернатором. Речь шла о том, что заводу трудно с закупкой сырья. Чтобы работать не в убыток, кабачки нужно закупать по цене три с половиной рублей за килограмм, тогда как предприятия других регионов платят за килограмм пять рублей. Так что местные селяне если и выращивают этот овощ, то стараются сбывать его за пределами области. Не так-то просто закупать и другое сырьё, например сладкий перец, потому что первый, летний, сбор его идет в магазины и на рынок, где цена выше и плата наличными. А завод наличными платить не может. Поэтому для него сезон переработки перца начинается только в середине сентября. Но в этом году третьего октября случились заморозки на почве, и еще не убранный урожай погиб. Вот почему переработать запланированное количество перца предприятие не сможет…
Губернатор спросил о численности работающих. Оказалось, ныне, в самый разгар сезона переработки, на предприятии трудятся триста двадцать человек. Если объем товарной продукции за год, – а это шестьсот миллионов рублей, – разделить на число работающих, то на каждого получится почти два миллиона рублей.
– Это мало, потому что и самый хреновый крестьянин столько производит, в среднем же больше – на пять-десять миллионов рублей, – пробасил губернатор, с явным удовольствием ввернув мужицкое просторечие.
– Нужно учитывать, что у нас сезонный характер работы, – заметил директор. – Вот переработаем к зиме всё закупленное сырьё и закроемся до следующего сезона.
– О ваших проблемах с сырьём мы поговорим на совещании, – пообещал губернатор. – Как раз для решения их нами предлагается специальная программа.
Другие производства директор счёл, по всей видимости, недостойными показа, и по завершении осмотра кетчупного цеха экскурсия закончилась. Все вышли во двор, где под открытым небом состоялась краткая пресс-конференция. Губернатор торопливо раскрыл журналистам суть новой программы поддержки производителей и переработчиков сельскохозяйственной продукции за счёт средств областного бюджета. Идея этого начинания заключалась в поощрении кооперации предприятий аграрно-промышленного комплекса через предоставление их объединениям в виде кооперативов бюджетной поддержки – грантов и субсидий. В областной администрации полагали, что благодаря этому все заинтересованные стороны решат свои проблемы: производители сельскохозяйственной продукции получат её гарантированный сбыт, переработчики будут надёжно обеспечены сырьём, финансовые организации смогут увереннее кредитовать тех и других, областная же администрация, под эгидой которой всё это будет происходить, получит возможность более эффективно контролировать местную экономику к выгоде для всего региона.
– Рубль, вложенный в производство, как минимум пятью рублями вернётся в бюджет со всех этапов производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции, – уверенно заявил губернатор. – Для нас такая схема финансирования отрасли через кооперативы будет прозрачная. Рассчитываем привлечь к этому банки. Мы продотируем расходы на заготовку сельскохозяйственной продукции и финансировать будем исключительно под контракт, под накладные.
Губернатор говорил ещё о том, что «склады нужны обязательно», и обещал хозяйствам возместить из бюджета половину средств, которые они затратят на строительство хранилищ. Их в регионе хватает для хранения лишь ста пятидесяти тысяч тонн овощей и фруктов, тогда как одних овощей произведено в этом году один миллион тонн, в том числе триста девяносто тысяч тонн – крупными хозяйствами. Недостаточны и мощности местных предприятий, которые ныне перерабатывают в год только около тридцати тысяч тонн овощей – вдвое меньше, чем в советское время. Предвосхищая вопрос о том, куда сбывать консервную продукцию, губернатор заявил:
– Местные предприятия аграрно-промышленного комплекса мы рассчитываем привлечь к обеспечению продуктами питания больниц и школ. Ныне на питание в учреждениях так называмой закрытой социальной сети областная казна ежегодно тратит один миллиард рублей. Мы хотим, чтобы этот миллиард обязательно вернулся в бюджет. А для этого нам нужно, чтобы сельхозтоваропроизводители, переработчики и пищевики были наши. Им следует объединяться в кооперативы. Кооператив, который представит на тендере широкий ассортимент, победит и отыграет справедливую цену.
Взглянув на часы, губернатор предложил задавать вопросы. Журналисты правильно поняли начальственный жест и вопросов задали совсем немного. После чего губернатор отбыл на совещание, на которое журналисты приглашены не были. Не вручили им и вкусных «сувениров», отчего почти каждый из них был разочарован. Впрочем, фотокорреспонденты были довольны и тем, что им разрешили сделать общее фото участников совещания за большим столом в конференц-зале здания заводоуправления.
Каморин сделал два снимка в конференц-зале и собирался покинуть мероприятие, тоже испытывая разочарование, но только не из-за отсутствия угощения. Ведь вся интрига была в том, как ответят хозяйственники на предложение областной власти, какие аргументы с обеих сторон прозвучат, о чём им удастся договориться! Но журналистов без церемоний выставили за дверь. Что, впрочем, было совсем не удивительно: ведь все приглашённые должны были написать заказные материалы на основе лишь той дозированной информации, которую им дали. Пресс-службе администрации области требовались только трёхминутные сюжеты на местных телеканалах и краткие сообщения в газетах о новых инициативах губернатора.
Уже подходя к «Газели», Каморин почувствовал, что сзади кто-то коснулся его плеча, и обернулся. Перед ним стоял Аркадий Пиковец. Усталый взгляд, резкие складки, идущие от носа к уголкам губ, изрытый морщинами лоб, плешь над ним, прикрытая седым зачёсом, высокий рост и довольно плотное сложение – все эти телесные признаки Пиковца сразу выделяли его в толпе местных журналистов, большей частью молодых особ женского пола. Оба они, Каморин и Пиковец, примелькались на разного рода мероприятиях для прессы, раза два коротко переговарились и кивали друг друг другу при встрече, считая себя знакомыми. Хотя это, конечно, было только так называемое шапочное знакомство. При виде Пиковца Каморин не раз думал о том, что такому старику пора бы уж выйти в начальство и посылать на пресс-конференции и брифинги кого-то помоложе. Впрочем, то же самое мог бы думать и сам Пиковец про Каморина.
– Давайте поедем на моей машине и поговорим по дороге, – предложил Пиковец, слегка улыбнувшись.
От разговора, предложенного старшим коллегой, отказаться было просто неудобно, к тому же предоставлялась возможность замолвить слово о Сандре, поэтому Каморин согласился не раздумывая. Оба направились к машине, на которой приехал Пиковец, – то была «Лада-Приора» серого цвета с водителем за рулём. Журналисты сели сзади, чтобы им удобнее было разговаривать. Каморин подумал о том, что Пиковец выбился в начальники и предстоящий разговор как-то связан с этим новым назначением коллеги. Пиковец тотчас подтвердил эту догадку.
– А я теперь главный редактор в «Вечернем Ордатове». Ещё не слышали об этом?
– Не доводилось.
– Прежнего, Бакуркина, сняли через два дня после отстранения мэра Лемзякова. Вы же знаете, что Бакуркин активно участвовал на стороне Лемзякова в информационной войне против губернатора.
– Как же не знать!
– Теперь приходится расставаться и с наиболее рьяными соратниками Бакуркина внутри редакции, а на их места приглашать новых сотрудников. В связи с чем у меня к вам предложение перейти к нам. Что скажете?
– Да я же стар, поэтому хотелось бы работать спокойно на одном месте. Как говорится, коней на переправе не меняют.
– Сколько же вам?
– Пятьдесят в этом году стукнуло. В таком возрасте не хочется перемен.
– В самом деле так чувствуете? Ну тогда это серьёзно! Это значит, что вы действительно состарились. Только не обольщайтесь насчёт того, что в «Ордатовских новостях» вам дадут спокойно доработать до пенсии. Дела у вашей газеты не блестящи…
Пиковец поскучнел. Тот вопрос, который он собирался обсудить с Камориным, оказался исчерпанным, и теперь он не знал, о чем ещё говорить с ним. Конечно, настаивать на переходе Каморина, обещая ему спокойную жизнь в «Вечернем Ордатове», было нельзя. Какая уж там спокойная жизнь в условиях, когда любой газете приходится бороться за выживание! Буквально на глазах, с катастрофической скоростью, менялся рынок масс-медиа, читатели всё больше уходили в интернет, а следом за ними устремлялись и рекламодатели. Как бы угадав его мысли, Каморин заговорил именно об этом, наболевшем.
– Так ведь и у вас дела не блестящи. Читатели всех бумажных газет вымирают. А из молодых, продвинутых кто полезет искать электронную версию «Вечернего Ордатова», когда в интернете так много разных соблазнов? Голомазов – знаете такого? он ещё пытался издавать маленькую газету для бухгалтеров – как-то поделился со мной своим профессиональным видением проблемы: в Ордатове восемьдесят шесть газетных киосков, и в каждом покупают газет одного наименования от двух до десяти экземпляров, за исключением, конечно, «Комсомолки». Получается, что в розницу уходит в лучшем случае пятьсот экземпляров каждого выпуска. Откуда же тогда берутся официальные многотысячные тиражи у местных изданий? Ведь подписки у всех кот наплакал.
– Газеты распространяются ещё по договорам об информационной поддержке с разными организациями…
– Да, это когда пачки номеров штабелями выкладываются на проходной или в приёмной, и предполагается, что кто-то их берёт и читает. Хотя в этом можно очень сомневаться. Короче, многотысячные тиражи местных изданий – это фикция, приманка для рекламодателей. И если вам в этом отношении легче, чем нам, то лишь потому, что «Вечерний Ордатов» – муниципальная газета и может рассчитывать на субсидию из бюджета, а также на распространение по муниципальным организациям и библиотекам. Но читателей вам это особенно не прибавляет.
– Экий вы пессимист! – засмеялся Пиковец, желая обратить сказанное собеседником в шутку. – Непонятно, как с таким настроением вы работаете в газете. А я-то думал, судя по вашему блогу, что вы бодрый участник всего позитивного, что происходит в стране.
– Что же такого позитивного вы видите вокруг? Может быть, это последняя инициатива губернатора? Кстати, что вы думаете о ней?
– Думаю, что сельским товаропроизводителям не резон объединяться в кооперативы с местными переработчиками, привыкшими платить за сырьё значительно меньше, чем покупатели из других регионов. Учтём и то, что речь идёт о судьбе мизерной части урожая овощей в нашей области – около трёх процентов. К существенным сдвигам это не приведёт, в лучшем случае лишь поможет обеспечить местные детские дома, интернаты для инвалидов и другие богоугодные заведения дешёвыми овощными консервами.
– И заодно даст областным чиновникам возможность поруководить не только социальными учреждениями, но и предприятиями реальной экономики. Это при условии, что кто-то из сельских руководителей купится на посулы и согласится войти в кооперативы с переработчиками и банкирами. Так в чём же позитив?
– Я имею в виду то, что после всеобщего раздрая и хаоса девяностых страна с началом нового века успокоилась и стала налаживать свою жизнь. Усмирили и сепаратистов, и олигархов, повысили рождаемость, укрепили армию, улучшили положение бюджетников. Да вы же сами всё это видите и знаете! Вы же так горячо выступили в своём блоге против «белой революции»!
– Да, мне противно, когда толпа столичных хипстеров пытается говорить от имени чуждого им народа и отменить итоги общероссийских выборов. Ведь это уже было, и мы знаем, к чему это привело! Большевики в семнадцатом году захватили власть, не дожидаясь выборов в Учредительное собрание, а когда оно двенадцатого ноября было всё-таки избрано и большевики оказались там в меньшинстве с двадцатью четырьмя процентами голосов, они разогнали его. Власть оказалась в руках людей, совершенно чуждых подавляющему большинству населения России. Они устроили грандиозный погром российского народа, в первую очередь крестьянства, растянувшийся на двадцать с лишним лет.
– Вы помните эти даты и проценты? – спросил удивлённо Пиковец, повернув голову и всматриваясь в лицо Каморина.
– Выучил в своё время, будучи историком по образованию, к тому же выборы в Учредительное собрание и его разгон – это роковые события для всех россиян. Они отразились на судьбе каждой семьи и в немалой мере предопределили судьбу каждого россиянина ещё до его рождения. В тридцать седьмом году были расстреляны мой родной дед по матери вместе со своим старшим сыном, а также двоюродный прадед по отцу – все бывшие крестьяне, раскулаченные и вынужденные покинуть родные сёла. Кстати, этот двоюродный прадед был воспитателем моего родного деда по отцу из-за ранней смерти своего брата, моего родного прадеда. В какой другой стране возможно подобное число жертв режима в родне одного человека? Притом в «просвещённом» двадцатом веке, в «самом справедливом обществе»! А ныне впервые за всю историю России у нас есть власть, свободно избранная большинством народа, которая настолько демократична, что терпит и злобную оппозицию, к примеру на радио «Слухи Москвы», передачи которого ретранслируются во всех крупных городах. Будь президентом я, прикрыл бы это подрывное радио, потому что оно объявляет российскую власть нелегитимной, а во время провалившейся «белой революции» звало людей на уличные акции, то есть на беспорядки! Молодчик во главе уличной толпы грозился даже повести её на Кремль!
– Да, это радио подрывное и русофобское, – согласился Пиковец, тоже заметно волнуясь. – Что не случайно. «Страшно далеки они от народа», как говорил основоположник. Достаточно заглянуть в «Википедию», чтобы убедиться в этом. У самых известных сотрудников этого радио родители и другие ближайшие родственники в советское время преуспевали, занимали номенклатурные посты, а то и служили в карательных органах. Я уже не говорю о праве многих из них на зарубежную репатриацию.
– И самая неистовая из них – Полина Бреус, современная Брешко-Брешковская, «бабушка» несостоявшейся «белой революции»!
– Ну не стоит преувеличивать её роль. Хотя вещает она еженедельно по часу, вы почти ничего конкретного из её речей не припомните, не так ли? Вы же не будете вникать в её конспирологические хитросплетения, проверить которые на вашем уровне невозможно. Тем более, что вы понимаете, что она руководствуется правилом: «всякое лыко в строку». То есть всё подтасовывает и извращает таким образом, чтобы опорочить российскую власть. От её передач остаётся в памяти только ехидная интонация. Это всего лишь упражнения в искусстве злословия, смесь полуправды с многозначительными намёками на несуществующие обстоятельства и прямой лжи. Вот, к примеру, она постоянно твердит о российской агрессии на Украине, а мы видим на телеэкранах мирные города и сёла Донбасса, которые разрушаются украинской артиллерией. Мы понимаем, что если бы наша армия действительно вмешалась в эту ужасную ситуацию, то от бандеровской хунты не осталось бы и мокрого места! Но чёрт с этой Бреус! По-настоящему плохо то, что ту же самую русофобскую, прозападную пропаганду, только не столь явную, распространяют и все так называемые оппозиционные СМИ. Что и неудивительно: практически все они в своё время вышли из карманов олигархов, ориентированных на Запад, как орудия борьбы за власть. И хотя олигархов давно «ушли» из политики, эти СМИ остались верны своему прозападному пропагандистскому амплуа. Они подхватывают все аргументы западной антироссийской пропаганды и дополняют их собственными спекуляциями.
– Но кое-что в речах Бреус всё-таки врезается в память. Вы не заметили, как часто она предаёт анафеме всеобщие равные и прямые выборы? Мол, пока их не ввели в Англии и других ведущих странах, там всё было благополучно, всё укреплялось и динамично развивалось. А ныне Европа с её всеобщими выборами катится в бездну. Это вроде постоянного призыва Катона Старшего: «Карфаген должен быть разрушен».
– Заметил. И это, на мой взгляд, замечательно! Устами Бреус так называемая «либеральная оппозиция» призывает россиян к ограничению избирательного права, в сущности к диктатуре! Это равнозначно признанию того, что суть конфликта власти и оппозиции не в якобы произошедшей фальсификации выборов, а в стремлении оппозиции вообще отменить в России всенародные демократические выборы, победить на которых она и не рассчитывает. Впрочем, в последнее время Бреус значительно реже бранит всеобщие выборы, что и понятно: подобные высказывания не так актуальны, как в пору «белоленточных» митингов. Тогда она фактически подстрекала хипстеров к протестам против результатов выборов, то есть к массовым беспорядкам.
– А я в последнее время просто перестал слушать Бреус из-за её глумления над христианством. Но я заметил другое: к красноречию бабушки «белой революции» особенно восприимчива вполне определённая публика: это интеллигентные люди без гуманитарного образования, особенно без хорошего знания российской истории. Чаще всего это обычные технари, которые не понимают, как драгоценен и хрупок дар свободы, которой у России не было никогда за всю её тысячелетнюю историю, за исключением последних десятилетий. И чаще это жители Москвы и Петербурга, которые не знают положения в провинции, где позиции коммунистов всё ещё сильны, особенно в депрессивных регионах. Ведь у нас, в богоспасаемом Ордатове, до самой кончины в прошлом году принимала народ в своей приёмной в здании областного краеведческого музея депутат Государственной Думы от коммунистов несгибаемая Валентина Кандаурова. Та самая, что стращала земляков: «Мы всё видим, кто как ведёт себя в нынешнее смутное время, и затем спросим с каждого». То есть, мы ещё вернёмся к власти и призовём вас к ответу за то, что вы делали при проклятых капиталистах!
Пиковец при этих словах с удовольствием рассмеялся, как от хорошей шутки.
– И эта Кандаурова знала, о чём говорила! – продолжал Каморин с нарастающим жаром. – У её партии в регионе самые развитые организационные структуры и самый дисциплинированный электорат. Более того, здесь и старые номенклатурные кадры КПСС, пусть поредевшие и перекрасившиеся, всё ещё на властных постах. Помните, как шутили при Горбачёве: «Перестройка – это как буря в тайге: верхушки шумят, а внизу тихо». У нас, в Ордатове, не только в перестройку, но и во все постсоветские годы было сравнительно тихо, и в этой тишине прекрасно сохранился старый советский аппарат. Конечно, старые чиновники уходили на покой, но им на смену приходили их отпрыски. Сложились настоящие кланы чиновников, воспитанных на старых традициях. Здесь в любой день готовы вернуть советское прошлое во всей его красе. Это в принципе вполне возможно. Ведь многие жители региона недовольны своим положением, потому что их доходы по сравнению с московскими нищенские, а сравнительно успешных предприятий вроде консервного заводика, на котором мы были, у нас раз-два и обчёлся. И то же самое почти повсеместно в провинции. Так что если в центре и случится «белая революция», то либеральные вожди власть едва ли удержат. Скорее всего, повторится то, что уже было в семнадцатом году.
– Пожалуй, вы и в меня метите! – снова засмеялся Пиковец. – Я ведь тоже бывший коммунист, стало быть, «перекрасившийся»!
– Я вас не виню, потому что такова жизнь: желавшие иметь надёжное будущее в советское время шли в коммунисты, а теперь такие идут в чиновники. Наверно, современные чиновники всё же немного лучше прежних, советских. Река жизни течёт неторопливо, новое прививается медленно, и должно смениться ещё не одно поколение, чтобы сознание людей совершенно изменилось и возвращение к тоталитарному прошлому стало невозможно. Всё будет хорошо, если только политические авантюристы от оппозиции не прервут это плавное течение.
– Сил у них на это не хватит, хотя злости им не занимать. Если только не вмешаются внешние силы… На днях мне попалась на глаза редкостная по откровенной русофобии статейка одного современного либерала под названием «В стране победившего ресентимента», которая меня настолько поразила, что я скачал её себе на планшет. Сейчас я её открою. Вот послушайте, что он пишет: «Одна из поражающих метаморфоз российского общества связана с вулканическим ростом агрессивности одновременно с отказом от признания реальности, погребённой в одночасье под идеологическими фикциями. Объяснить это явление непросто. Его часто списывают на беспрецедентную обработку масс телевизионной пропагандой. Официальная пропаганда многое объясняет, но далеко не всё. Не всякое общество может быть распропагандировано в такие короткие сроки и до таких эксцессов. Чтобы пропаганда была эффективной, она должна отвечать бессознательным устремлениям населения. Мне кажется, что для анализа трансформации массового сознания может быть полезен Ницше и его размышления о ресентименте».
– О чём? – переспросил Каморин.
– О ресентименте. Далее в статье говорится как раз об этом: «Ницше считает ресентимент чувством, характерным для морали рабов, которые в силу своего положения ничего не могут изменить в мире. Это восстание воображения против реальности, не чуждое и некоторого своеобразного творческого начала…» И затем автор приводит цитату из сочинения Ницше под названием «К генеалогии морали»: «Восстание рабов в морали начинается с того, что ресентимент сам становится творческим и порождает ценности: ресентимент таких существ, которые не способны к действительной реакции, реакции, выразившейся бы в поступке, и которые вознаграждают себя воображаемой местью». Каково, а? Это же как надо не любить россиян, чтобы объявлять их рабами!
– В пылу вдохновенного гнева это позволяли себе и русские гении, к примеру Лермонтов. Но зачитанная цитата звучит как-то слишком рассудочно, без намёка на поэтическое увлечение. Хотя из неё всё же не совсем ясно, что такое ресентимент.
– Знаете, я и сам этим заинтересовался. Просмотрел «К генеалогии морали», где Ницше употребляет это слово во французской транскрипции без перевода. Что объясняется, как я понял, отсутствием точного аналога его в немецком языке. И на русский «ресентимент» нельзя перевести кратко и однозначно, в франко-русских словарях указывается целый ряд его значений: это и «недовольство», и «возмущение», и «негодование», и «обида», и «ненависть», и «неприязнь», и «сожаление», и «разочарование». Так оно и есть на самом деле: когда нас обидели, нас охватывает не одно лишь чувство разочарования или возмущения, а множество сходных чувств, перетекающих одно в другое. Порой это ненависть, порой негодование, а когда эти сильные чувства остывают, появляются сожаление и неприязнь к обидчику. Но стоит неприятным воспоминаниям усилиться, как сожаление перерастает в возмущение. То есть это сгусток чувств, способных бередить душу годами, а то и десятилетиями.
– Не совсем понятно, какое отношение это имеет к злобе дня.
– О, самое прямое. Автор той же статьи далее пишет следующее: «Авантюра на Украине стала благородной войной против воображаемых фашистов, изоляция России – её утверждением в ранге великой державы, упадок экономики и падение доходов – ростом благосостояния и счастья. И даже люди, далекие от фантазмов ресентимента, но напуганные ураганом происходящих изменений, которые они не в силах предотвратить, систематически пытаются отрицать реальность происходящего или хотя бы закрыть на неё глаза».
– Как странно, что либералы вытащили замшелого Ницше, на которого ссылался Гитлер…
– Да, мне это тоже показалось странным, поэтому из того же сочинения «К генеалогии морали» я надёргал несколько любопытных цитат. Там Ницше дал следующее определение благородных, по его мнению, людей, не знающих ресентимента: «…те же самые люди, которые inter pares столь строго придерживаются правил, надиктованных нравами, уважением, привычкой, благодарностью, ещё более взаимным контролем и ревностью, которые, с другой стороны, выказывают в отношениях друг с другом такую изобретательность по части такта, сдержанности, чуткости, верности, гордости и дружбы, – эти же люди за пределами своей среды, стало быть, там, где начинается чужое, чужбина, ведут себя немногим лучше выпущенных на волю диких зверей. Здесь они смакуют свободу от всякого социального принуждения; в диких зарослях вознаграждают они себя за напряжение, вызванное долгим заключением и огороженностью в мирном сожительстве общины; они возвращаются к невинной совести хищного зверя как ликующие чудовища, которые, должно быть, с задором и душевным равновесием идут домой после ужасной череды убийств, поджогов, насилий, пыток, точно речь шла о студенческой проделке, убеждённые в том, что поэтам надолго есть теперь что воспевать и восхвалять. В основе всех этих благородных рас просматривается хищный зверь, роскошная, похотливо блуждающая в поисках добычи и победы белокурая бестия…» Слышите: Ницше восславил «белокурую бестию», а наш либерал, между прочим, носит фамилию, производную от названия западноукраинского городка в бывшей черте оседлости!
– Хороши идейные корни российского либерализма!
– В том же сочинении Ницше утверждал также, что иудаизм и христианство родились из ресентимента, из рабских чувств, а совесть объявил «нечистой» и объяснил её происхождение насилием. Цитирую: «Те грозные бастионы, которыми государственная организация оборонялась от старых инстинктов свободы, – к этим бастионам относятся прежде всего наказания – привели к тому, что все названные инстинкты дикого свободного бродяжного человека обернулись вспять, против самого человека. Вражда, жестокость, радость преследования, нападения, перемены, разрушения – всё это повёрнутое на обладателя самих инстинктов: таково происхождение «нечистой совести». И на этого автора, отрицавшего мораль, религию и закон, ссылаются современные российские либералы!