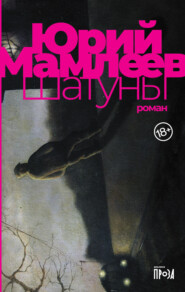скачать книгу бесплатно
Дом, к которому подошёл Фёдор, стоял на окраине, в стороне, отгороженный от остального высоким забором, а от неба – плотною железною крышею.
Он делился на две большие половины; в каждой из них жила семья, из простонародья; в доме было множество пристроек, закутков, полутёмных закоулков и человечьих нор; кроме того – огромный, уходящий вглубь, в землю, подпол.
Фёдор постучал в тяжёлую дверь в заборе; её открыли; на пороге стояла женщина. Она вскрикнула:
– Федя! Федя!
Женщина была лет тридцати пяти, полная; зад значительно выдавался, образуя два огромных, сладострастных гриба; плечи – покатые, изнеженно-мягкие; рыхлое же лицо сначала казалось неопределённым по выражению из-за своей полноты; однако глаза были мутны и как бы слизывали весь мир, погружая его в дремоту; на дне же глаз чуть виднелось больное изумление; всё это было заметно, конечно, только для пристального, любящего взгляда.
Рот также внешне не гармонировал с пухлым лицом: он был тонкий, извивно-нервный и очень умный.
– Я, я! – ответил Фёдор и, плюнув женщине в лицо, пошёл по дорожке в дом. Женщина как ни в чём не бывало последовала за ним.
Они очутились в комнате, простой, довольно мещанской: горшочки с бедными цветами на подоконниках, акварельки, большая нелепая «мебель», пропитанные потом стулья… Но всё носило на себе какой-то занырливо-символический след, след какого-то угла, точно тайный дух отъединённости прошёлся по этим простым, аляповатым вещам.
– Ну вот и приехал; а я думала, заблудесси; мир-то велик, – сказала женщина.
Соннов отдыхал на диване. Жуткое лицо его свесилось, как у спящего ребёнка.
Женщина любовно прибрала на стол; каждая чашечка в её руках была как тёплая женская грудка… Часа через два они сидели за столом вдвоём и разговаривали.
Говорила больше женщина; а Соннов молчал, иногда вдруг расширяя глаза на блюдце с чаем… Женщина была его сестрой Клавой.
– Ну, как, Федя, погулял вволю?! – ухмылялась она. – Насмотрелся курам и петухам в задницы?.. А всё такой же задумчивый… Словно нет тебе ходу… Вот за что по душе ты мне, Фёдор, – мутно, но с силой, выговорила она, обволакивая Соннова тёплым, прогнившим взглядом. – Так за твою нелепость! – Она подмигнула. – Помнишь, за поездом наперегонки гнался?! А?!
– Не до тебя, не до тебя, Клава, – промычал в ответ Соннов. – Одни черти последнее время снятся. И будто они сквозь меня проходят.
В этот момент постучали.
– Это наши прут. Страшилища, – подмигнула Клава в потолок.
Показались соседи Сонновых, те, которые жили во второй половине этого уютно заброшенного дома.
– А мы, Клав, на беспутного поглядеть, – высказался дед Коля, с очень молодым, местами детским, личиком и оттопыренными вялыми ушами.
Клава не ответила, но молча стала расставлять стулья. У неё были состояния, когда она смотрела на людей, как на тени. И тогда никогда не бросала в них тряпки.
Колин зять – Паша Красноруков – огромный, худой детина лет тридцати трех, со вспухшим от бессмысленности лицом, присел совсем рядом с Фёдором, хотя тот не сдвинулся с места. Жена Паши Лидочка оказалась в стороне; она была беременна, но это почти не виделось, так искусно она стягивала себя; её лицо постоянно хихикало в каком-то тупом блаженстве, как будто она всё время ела невидимый кисель. Маленькие же нежные ручки то и дело двигались и что-нибудь судорожно хватали.
Младшая сестра Лидочки – девочка лет четырнадцати – Мила – присела на диван; её бледное прозрачное лицо ничего не выражало. Семнадцатилетний же брат – Петя – залез в угол у печки; он вообще ни на кого не обращал внимания и свернулся калачиком.
Всё семейство Красноруковых – Фомичёвых было таким образом в сборе. Клава же здесь жила одна: Соннов – уже который раз – был у неё «в гостях».
Фёдор между тем сначала никому не уделял внимания; но вскоре тяжёлый, словно земной шар, взгляд его стал застывать на свернувшемся Пете.
– Петя у нас боевой! – вымолвила Клава, заметив этот взгляд.
Петенька, правда, отличался тем, что разводил на своём тощем, извилистом теле различные колонии грибков, лишаев и прыщей, а потом соскабливал их – и ел. Даже варил суп из них. И питался таким образом больше за счёт себя. Иную пищу он почти не признавал. Недаром он был так худ, но жизнь всё-таки держалась за себя в этой длинной, с прыщеватым лицом, фигуре.
– Опять лишаи с горла соскабливать будет, – тихо промолвил дед Коля, – но вы не смотрите.
И он повёл ушами.
Фёдор – надо сказать – как-то странно, не по своему характеру, завидовал Пете. Пожалуй, это был единственный человек, которому он завидовал. Поэтому Соннов вдруг грузно встал и вышел в уборную. И пока были «гости», он уже не присутствовал в комнате.
Клавочка же вообще мало реагировала на «тени»; пухлое лицо её было погружено в сон, в котором она видела разбухший зад Фёдора. Так что в комнате разговаривали одни гости, как будто они были здесь хозяевами.
Дед Коля, вместо того чтобы спросить у Клавы, строил вслух какие-то нелепые предположения о приезде Фёдора.
Соннов приезжал сюда, к сестре, часто, но так же внезапно исчезал, и никто из Фомичёвых не знал, где он живёт или где бродит.
Однажды, года два назад, через несколько часов после того, как он внезапно исчез, кто-то звонил Фомичёвым из какой-то жуткой дали и сказал, что только что видел там Фёдора на пляже.
Лидочка слушала деда Колю со вниманием; но слушала не «смысл» его слов, а что-то другое, что – по её мнению – скрывалось за ними независимо от деда Коли.
Поэтому она смрадно, сморщившись белым, похотливым личиком, хихикала, глядя на пустую чашку, стоящую перед пустым местом Фёдора.
Павел – её муж – был весь в увесистых, багровых пятнах. Мила играла со своим пальчиком…
Наконец, семейство во главе с дедом Колей встало, как бы откланялось и вышло к себе.
Только Петя долго оставался в углу; но, когда он скрёбся, на него никто, кроме Соннова, не обращал внимания.
Клава прибрала комнату, словно обмывая себе лицо, и вышла во двор. На скамейке уже сидел Фёдор.
– Ну как, ушли эти страшилища? – равнодушно спросил он.
– Мы сами с тобой, Федя, хороши, – просто ответила Клава.
«Ну, не лучше других», – подумал Фёдор.
Времени ещё было достаточно, и Фёдор решил пройтись. Но солнце уже опускалось к горизонту, освещая, как в игре, заброшенные улочки подмосковного местечка.
Фёдор устал не столько от убийства, сколько главным образом от своего разговора над трупом. С живыми он вообще почти не разговаривал, но и с мёртвыми это было ему не по нутру. Когда же, точно влекомый загробной силой, он произносил эти речи, то был сам не свой, не узнавал себя в языке, а после – был надолго опустошён, но качественно так же, как был опустошён всегда. Он брёл по улице и, сплёвывая в пустоту, равнодушно отмечал, что Григорий – приезжий, издалека, что труп не скоро найдут, а найдут, то и разведут ручками и так далее. У пивнушки безразлично дал в зубы подвернувшемуся мужику. Выпил две кружки. Почесал колено. И вернулся обратно, мысленно расшвыривая вокруг себя дома, и, войдя в комнату, неожиданно завалился в постель.
Клава наклонилась над его тёплым, побуревшим от сна лицом.
– Небось порешил кого, Федя, – осклабилась она. – Чтоб сны слаще снились, а?! – И Клава пощекотала его член. Потом скрылась во тьме ближнего закутка.
Глава 3
Сонновы знали Фомичёвых сызмальства. Но Павел Красноруков появился здесь лет пять назад, женившись на Лидочке.
До замужества Лидочка на всём свете признавала одних насекомых, но только безобразных и похотливых; поэтому она целыми днями шлялась по помойкам.
Павел и поимел её первый раз около огромной, разлагающейся, помойной ямы; она вся изогнулась и подёргивалась, как насекомое, уткнув своё сморщенно-блаженное личико в пиджак Павла. А потом долго и нелепо хихикала.
Но Павла ничего в частности не смущало; его смущал, скорее, весь мир в целом, на который он смотрел всегда с широко разинутым ртом. Он ничего не отличал в нём и в глубине полагал, что жизнь – это просто добавка к половому акту.
Поэтому его прельстила беспардонная сексуальность Лидочки. Сам он, например, считал, что его сердце расположено в члене, и поэтому очень не доверял врачам.
А лёгкое, помойно-воздушное квазислабоумие Лидочки облегчало ему времяпровождение между соитиями. Не раз он трепал её блаженно-хихикающее личико и смотрел ей в глаза – по обычаю с разинутым ртом. Но даже не смеялся при этом. А Лидочка цеплялась за его могучую фигуру изощрённо-грязными, тонкими ручками. Эти ручки были так грязны, что, казалось, бесконечно копались в её гениталиях.
– Без грязи они не могут, – ласково говорил обычно дед Коля, шевеля ушами.
Оглоушивающая, дикая сексуальность Паши тоже пришлась по вкусу Лидочке. Нередко, сидя с мутными глазами за общим обеденным столом, она то и дело дёргала Павла за член.
Часто тянула Пашу – по своей вечной, блаженной привычке – идти совокупляться около какой-нибудь помойки. И Павел даже не замечал, где он совокупляется.
Но спустя год обнаружилось, что Паша всё же очень и очень труден, тяжёл, даже для такой дамы, как Лидинька.
Первое, мутное, ерундовое подозрение возникло однажды на прогулке около пруда, где играло много детей; Павел стал как-то нехорош, глаза его налились кровию, и он очень беспокойно глядел на прыгающих малышей, точно желая их утопить.
Ещё раньше Лидинька чуть удивлялась тому, что Паша дико выл, как зверь, которого режут, во время соития; а потом долго катался по полу или по траве, кусая от сладострастия себе руки, словно это были у него не руки, а два огромных члена. И всё время ни на что не обращал внимания, кроме своего наслаждения.
Конечно, она не могла связать в своём уме этот факт и отношение Павла к детям, но, когда Лидинька – года четыре назад – впервые стала брюхата, всё начало обнаруживаться, словно тень от отвислой Пашиной челюсти надвигалась на мир.
Сначала Паша смотрел на её брюхо с нервно-немым удивлением.
– Откуда это у тебя, Лида?! – осторожно спрашивал он.
И когда Лида отвечала, что от него, вздрагивал всем своим крупным, увесистым телом.
Спал он с ней по-прежнему ошалело, без глаз. Но иногда, резко, сквозь зубы, говорил: «Вспороть твое брюхо надо, вспороть!»
По мере того как оно росло, усиливалось и Пашино беспокойство.
Он норовил лишний раз толконуть Лидиньку; один раз вылил на её брюхо горячий суп.
На девятом месяце Паша, дыхнув ей в лицо, сказал:
– Если родишь – прирежу щенка… Прирежу.
Родила Лидонька чуть не вовремя, дома, за обеденным столом.
Паша, как ошпаренный, вскочил со стула и рванулся было схватить дитё за ноги.
– В толчок его, в толчок! – заорал он. (Волосы у него почему-то свисали на лоб.)
Дед Коля бросился на Пашу, испугав его своим страшным видом. Дед почему-то решил, что ребёнок – это он сам, и что это он сам так ловко выпрыгнул из Лидоньки; поэтому дед ретиво кинулся себя защищать. Кое-как ему удалось вытолкать было растерявшегося Пашу за дверь.
Но присутствие младенца – его истошного писка – ввело Павла в собачью ярость, и он стал ломиться в дверь, завывая: «Утоплю, утоплю!»
А разгадка была такова. Паша – раньше, до Лидоньки, у него тоже были неприятности по этому поводу – до смури ненавидел детей, потому что признавал во всём мире только огромное, как слоновые уши, закрывшие землю, своё голое сладострастие. А все побочные, посреднические, вторичные элементы – смущали и мутили его ум. Не то чтобы они – в том числе и дети – ему мешали. Нет, причина была не практическая. Дети просто смущали его ум своей оторванностью от голого наслаждения и заливали его разум, как грязная река заливает чистое озеро всякой мутью, досками, грязью и барахлом…
«Почему от моего удовольствия дети рождаются? – часто думал Красноруков, метаясь по полю. – Зачем тут дети?..»
Как только Павел видел детей, он сопоставлял их со своим сладострастием и впадал в слепую, инстинктивную ярость от этого несоответствия. Подсознательно он хотел заполнить своим сладострастием весь мир, всё пространство вокруг себя, и его сладострастие как бы выталкивало детей из этого мира; если бы он ощущал своих детей реально, как себя, то есть, допустим, детишки были бы как некие для виду отделившиеся, прыгающие и распевающие песенки его собственные капельки спермы, вернее кончики члена, которые он мог ощущать и смаковать так, как будто они находились в его теле, – тогда Красноруков ничего не имел бы против этих созданьиц; но дети были самостоятельные существа, и Красноруков всегда хотел утопить их из мести за то, что его наслаждение не оставалось только при нём, а из него получались нелепые, вызывающие, оторванные от его стонов и визга последствия: человеческие существа. Для Павла ничего не существовало в мире, кроме собственного вопля сексуального самоутверждения, и он не мог понять смысл того, что от его диких сладострастных ощущений, принадлежащих только ему, должны рождаться дети. Это казалось ему серьёзным, враждебным вызывом. Он готов был днём и ночью гоняться с ножом за детьми – этими тенями его наслаждения, этими ничто от сладострастия… Всё это, в иных формах и словах, прочно легло в сознание Павла…
Дитё удалось тогда припрятать; дед Коля метался с ним по кустам, залезал на крышу, прятал дитё даже в ночной горшок. Отсутствующая девочка Мила – и та принимала в этом участие. Только Петенька по-прежнему скрёбся в своём углу.
Но Паша не сдавался: серьёзный, с развороченной челюстью, он скакал по дому с огромным ножом на груди. Потом сбежал куда-то в лес…
История эта, правда, разрешилась стороной; дитё само умерло на восьмом дню жизни. Полупьяный врач определил – от сердца.
К счастью, Лидонька была проста относительно таких исчезновений; детишек она скорей рассматривала как милую прибавку к совокуплению; поэтому она хоть и поплакала, но не настолько, чтобы забыть о соитии.
Сразу же в семействе водворился мир.
Всё потекло по-прежнему.
Второй раз – через год – Лида забеременела тогда, когда Паша совсем остервенел: он спал с ней по нескольку раз в день, бегал за ней, натыкаясь на столбы, и, казалось, готов был содрать кору с деревьев. Искусал себя и её в кровь.
Паша был так страшен, что в конце концов Лидонька с перепугу дала ему слово умертвить ребёнка. (С легальным абортом уже запоздали.) Это было опасно – но выполнимо; нужно было скрыться – чуть в стороне, в избёнке, в лесу. И пруд для этого выбрали подходящий. Кругом вообще была тьма «невоскресших» младенцев: некоторые уборные и помойные ямы были завалены красными, детскими сморчками: плодами преждевременных родов. Недаром неподалёку гудело женское общежитие.
Избёнка в лесу оказалась уютливой, низкой, с чёрными паутинными углами и низкими окнами…
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: