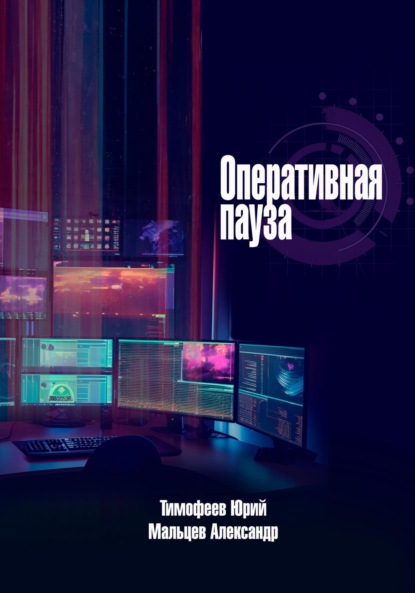
Полная версия:
Оперативная пауза

Александр Мальцев, Юрий Тимофеев
Оперативная пауза
Предисловие
«Многие склонны путать два понятия: «Отечество» и «Ваше превосходительство»
Михаил Салтыков–Щедрин
Это наш второй публицистический очерк. Первый называется «Интервенция».
Сейчас многие военные эксперты полагают, что после окончания Специальной военной операции возникнет так называемая «оперативная пауза». Само академическое определение «оперативной паузы» мы давать не будем, потому что нам важен смысл этого понятия, а не его точное звучание.
Когда говорят о такой паузе, в большинстве случаев подразумевают относительно мирный промежуток времени между датой окончания Специальной военной операции и началом других боевых действий с кем-либо, где-либо, в какой-либо форме.
Мало кто сейчас может сказать, когда начнётся и чем закончится этот момент, сколько он продлится.
Мы имеем своё мнение и выскажем его позднее. В начале нам важнее подумать над тем, как и чем заполнится «оперативная пауза» в военном деле в России. Поскольку это дело находится в полной и абсолютной зависимости от политики, то и ее, конечно, позднее немного затронем, но только в той мере, в которой это необходимо для понимания военных проблем, которые, по нашему мнению, являются главными и неотложными.
Сначала нужно обозначить проблемы в военном деле. Обратимся к себе с вопросом:
– Почему Русская армия за три года военной операции на территории нескольких губерний бывшей Российской империи не смогла разгромить ВСУ?
Такой вопрос наверняка задаёт себе каждый военный человек во всех армиях мира.
Над ответом думают не только все действующие военнослужащие Русской армии и ВСУ, но и ныне гражданские люди, в прошлом военные.
Думаем над этим вопросом постоянно и мы – авторы. И, похоже, мы нащупали кое-что и хотим с вами поделиться.
Военная теория
Разумеется, наш ответ очень субъективный и не претендует на научность. Мы постараемся изложить его в публицистической форме, доступной для широкого круга читателей.
Начнём с банальности (извините):
– наш ответ не односложный;
– простых ответов на сложные вопросы не бывает;
– мы не будем анализировать проблемы контрбатарейной борьбы, РЭБ, РЭР, БПЛА, всех видов разведки и целеуказаний. Не станем рассуждать о том, кто виноват, почему было недостаточно того или иного вооружения или почему оно оказалось неэффективным;
– не хотим переходить на личности и соревноваться в популизме в стиле: «Это всё Шойгу виноват» или «Это во всём «Табуреткин» виноват» – такие, сякие. Те, кто ждёт от этого текста чего-то подобного, – лучше не тратьте свои деньги. Нам всё это внутриполитическое и популистское неинтересно. Для этого есть художественная литература, где автору предоставлен простор для изложения эмоций.
Всё-таки отметим, что вопрос «Кто виноват?» тоже важен, но только для политики, для понятия «справедливость» (если она вообще существует), для «возмездия» и неотвратимости наказания. Возможно, на него может ответить только сам Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации – единоначальник, с помощью Следственного комитета Российской Федерации и кого-то ещё…
В любом случае мы некомпетентны, потому что на дату написания очерка так и не знаем точно, кто из членов Правительства России, начиная с 2007 года, отвечал за программу развития и производства БПЛА, спутниковой группировки, кто «нарезал» («срезал») финансирование и почему. Знаем, что летом 2024 года наконец принят национальный проект «Беспилотная авиация» и за него отвечает Министр обороны.
В своё время многие возмущались, что развитие искусственного интеллекта в России было возложено не на Минобороны России (С. Шойгу) и не на кого-то из заместителей Председателя Правительства России, а на Сбербанк России (Г. Греф). Как видим, что это более чем оправданное решение Верховного Главнокомандующего, хотя оно до сих пор неприемлемо для многих именно из-за того, что Герман Оскарович Греф отнесен ими к якобы враждебной для России идеологической партии так называемых «либералов» и поэтому врагов России. Мы так не считаем.
Прямо скажем, что, по нашему мнению, любая политическая идеология в военном деле – смерть.
Кроме того, ответ на вопрос «Кто?» не приведёт к пониманию, что нужно поменять в системе. Нам интересен ответ на вопрос, что нужно сделать, чтобы впоследствии сама система вынудила изменить теорию и практику военного дела, всю военную организацию страны.
Мы постараемся подумать вместе с вами.
По нашему мнению, всё профессиональное военное сообщество России понимает необходимость кардинальной военной реформы – очередной.
Не сомневаемся, что необходимость в скорейшей военной реформе понимает и политическое руководство страны.
Поскольку этот очерк рассчитан на широкий круг читателей, а не только на тех, кто имеет высшее военное образование, мы постараемся не злоупотреблять терминологией и определениями, позволим себе делать упрощения более понятные для большего количества людей.
Начнём с руководящих документов Вооруженных Сил России.
В качестве базы отметим, что Специальная военная операция показала, что наши Боевые уставы оказались непригодны для неё. Впрочем, оказались непригодны и боевые руководящие документы НАТО, том числе их хвалёные MDMP (которые применяются на уровне от батальона и выше) и TLP (от роты и ниже).
В первую очередь отметим, что в наших боевых документах стратегического и оперативного планирования нет такой формы ведения военных действий как «Специальная военная операция». Есть маневренная война, есть война на истощение. Военные операции бывают следующих видов: наступательные, оборонительные, контрнаступательные. В военной науке ещё много всего про ведение военных и боевых действий. Про специальную военную операцию – ничего.
Почему так получилось?
Потому что Специальная военная операция – это не для Вооруженных сил (в литературе часто называем их словом «Армия»).
Вместе с тем, термин «Специальная военная операция» есть, и он предназначен для Росгвардии, а ранее – для Внутренних войск МВД России и бывших Погранвойск ФСБ России.
Военная теоретическая мысль России не удосужилась раскрыть термин «Специальная военная операция Вооруженных сил», даже после двух (!) военных компаний на Северном Кавказе. Удовлетворились лишь тем, что обе чеченские компании назвали «Контртеррористическая операция». Кстати, так же называются действия наших Вооруженных сил, направленные на разгром противника в Курской области.
По мнению авторов операции типа СВО и КТО – это не свойственные для нашей армии формы её применения.
Разумеется, найдутся те, кто обоснует такую форму использования Вооруженных сил словами из «общеполитической тематики». Не сомневаемся. Сложнее раскрыть её суть вплоть до конкретных боевых руководящих документов.
Поэтому вопрос о том, кто реально осуществлял общее руководство КТО в первую и вторую чеченскую компанию, так и не был тогда решён. На бумаге было, например, ФСБ, а реально – воинское должностное лицо Вооруженных сил. Полагаем, что и сейчас эта проблема остается актуальной.
Политические руководители, как люди гражданские, не придают значения этой проблеме. Они не понимают, насколько такой фактор влияет на весь процесс планирования и применения Вооруженных сил, допускают возможность так называемых межведомственных «компромиссов».
Наука определяет компромисс, как взаимную договоренность конфликтующих сторон, которая опирается на обоюдные уступки и стремление спор разрешить.
Не хотим быть занудными, но всё-таки, обратим внимание читателей на две составляющие компромисса:
– конфликт уже есть;
– предполагается желание сторон разрешить спор – иначе никак.
Скажем прямо, что желание разрешить спор (взять ответственность) у смежных ведомств не всегда есть. Поскольку, например, за своевременную готовность единого плана операции отвечает Генштаб, то часто формальную ответственность вынуждены брать на себя военные – так как не получается получить согласие (согласование, визу) смежного ведомства, а арбитраж как таковой полностью отсутствует.
Почему отсутствует арбитраж?
Переходим в политическую плоскость. Постараемся сделать это аккуратно и никого не обидеть.
Согласовать с соседним ведомством что-то, за что они не хотят нести формальную ответственность, возможно только на политическом уровне. Поэтому здесь всегда на передний край выходит Министр обороны.
Только Министр обороны может вынести разногласия между двумя очень сильными ведомствами выше, в случае, если коллега из соседнего ведомства не согласен с чем-то.
Полагаем, после окончания СВО, а она обязательно когда-то закончится, вопрос о том «Почему наша армия не смогла разгромить ВСУ?» встанет в полный рост и перейдёт в практическую плоскость.
Здесь будет очень сильное окно возможностей для должностных лиц Генштаба и даже некоторых командующих войсками округов раскрыть тему «разгрома» и все её составляющие.
Надеемся на это. В противном случае возникает риск того, что новые реформаторы в содружестве с коллегами из других ведомств сумеют «сгладить острые углы», сформулируют что-то очень округлое и, тем самым, узаконят такую форму как «Специальная военная операция» или придумают что-то «креативное», типа: «Специальная военная операция Вооружённых сил».
А в чём тут практический смысл или, как говорят в науке, актуальность?
Пусть уважаемый читатель задастся вопросом, кто руководил (командовал) Специальной военной операцией, например, 22 февраля 2022 года?
Американские военные эксперты считают, что с апреля 2022 года Командующим объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения специальной военной операции был генерал армии Александр Дворников, командующий войсками Южного военного округа.
С 8 октября 2022 года Командующим объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения специальной военной операции назначен генерал армии Сергей Суровикин, Главнокомандующий воздушно-космическими силами Российской Федерации.
С 11 января 2023 года Командующим объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения специальной военной операции назначен генерал армии Валерий Герасимов, начальник Генерального штаба ВС РФ.
То есть все удовлетворились тем, что установлены воинские должностные лица Вооруженных сил, которые являлись «Командующими объединенной группировкой войск (сил)».
А кто руководил и руководит Специальной военной операцией?
А кто был Командующим с 24 февраля 2022 до апреля (или мая) 2022 года?
Кто руководил специальной частью Специальной военной операции?
В чьём замысле действовала наша армейская группировка войск (сил)?
Мы не знаем.
Поэтому и не знаем.
Даём нашим уважаемым читателям возможность подумать и сделать выводы самостоятельно.
Отсюда и более конкретные вопросы возникнут. Например, какую задачу выполняли войска под Киевом в первых числах марта? Кто принимал в тот период решения? Кто формулировал задачи Генеральному штабу? Они в тот период вообще формулировались? Или, как говорят, «просто по факту» вся СВО перешла в полную и безраздельную ответственность Генштаба и всех наших армейских командиров, вплоть до командира отделения (танка, орудия).
Несмотря на известное общее отношение к бывшему в то время Министру обороны С. Шойгу уверены, что не он руководил Специальной военной операцией в своё время.
Но Генштаб, в отличие от многих ведомств и начальников и даже министра обороны, не может просто сидеть и помалкивать. Боевое управление – это непрерывный процесс.
Вот так военная теория, неопределенность понятия «Специальная военная операция» непосредственно влияет в конечном итоге на слово «разгром» и ответ на вопрос «Почему?»
Одновременно мы подошли к проблеме под названием «Должность «Министр обороны Российской Федерации».
Министр обороны Российской Федерации
Государственный оборонный заказ
Мы все знаем, что доход государства формируют наши налоговики и таможенники.
Также всем известно, что главные расходы государства – это военные расходы, то есть расходы федерального органа исполнительной власти в области обороны (министерство обороны).
Кто является Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных министерству обороны?
Министр обороны. Да, именно должностное лицо – министр. Он несет персональную ответственность за расходы.
Поэтому, в первую очередь, рассмотрим главные полномочия министра, то есть полномочия по расходованию денег.
Министр обороны Российской Федерации в отличие от очень многих своих коллег в других государствах, несмотря на созвучное название должности и во многом совпадающий объем полномочий, имеет их куда больше.
Попытки реформировать (сократить военные полномочия министра обороны) имели только временный успех и к настоящему времени к кардинальным изменениям не привели. Это результат контрреформ С.Шойгу ( без комментариев), что на взгляд авторов очень и очень плохо.
В государственном оборонном заказе России давно и системно существуют две взаимосвязанных и никак не решаемых проблемы:
– формирование цены на продукцию военного и двойного назначения (различные нормативные правовые документы разумеется существуют, но проблему не решают);
– определение количественной и качественной потребности Вооруженных сил в продукции военного назначения (в основном это ВВТ).
Немного истории этой проблемы.
28 марта 2002 года газета «Московский комсомолец» писала:
«Конфликт вышел за пределы здания на Новом Арбате и стал достоянием широкой публики, когда Квашнин пошел ва-банк и на коллегии Минобороны открыто оппонировал министру. Пришлось вмешиваться президенту и мирить двух высших военных чинов, как провинившихся школьников. Даже тертые генштабисты и те были шокированы поведением своего шефа. Так с министром в военной среде обходиться не принято, принцип единоначалия в армии непоколебим».
27 января 2004 на сайте агентства «Регнум» опубликована статья:
«Вы что, не понимаете? Это же приговор Квашнину!"
"Новые известия" и "Время новостей" на первые полосы выносят материалы, посвященные прошедшему в субботу 24 января 2004 заседанию Академии военных наук. Оба издания акцентируют внимание на совершенно разных вещах. "Новые известия" критикуют министра обороны Сергея Иванова за положение дел в армии. "Время новостей" зрит в корень и на основании произошедшей "разборки" на заседании делает вывод: "Сергей Иванов вынес приговор Анатолию Квашнину". Издание пишет: "Затянувшийся конфликт между Министерством обороны и Генеральным штабом, похоже, подходит к финалу… Поскольку коренное реформирование армии завершено и началось нормальное военное строительство, перешел министр обороны к главному, каждый орган в системе управления военной организацией должен однозначно занять свое место. И уточнил: Министерство обороны – высший орган военного управления, а Генштаб, как его структура, отвечает за стратегическое планирование и управление войсками, но в военное время. При этих словах сидевший в президиуме, неподвижно устремив взгляд в лежавшие перед ним бумаги, Квашнин медленно повернул голову и с нескрываемым удивлением посмотрел на докладчика. А министр продолжал ставить новые задачи. Они в основном сводились к оскорбительным для честолюбивого Квашнина фразам типа "готовить предложения", "выявлять новые тенденции", "готовить планы боевого применения" и даже "изучать опыт боевого применения". ..»
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Полная версия книги
Всего 10 форматов



