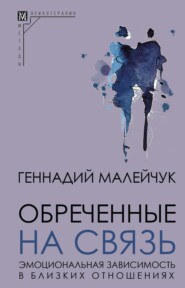скачать книгу бесплатно
Поэтому очень важно, чтобы на каком-то этапе развития мама и папа разошлись в своих функциях, тем самым создав для ребенка условия возможности прожить как безусловную, так и условную любовь, и тем самым сформировать у него личностную и социальную идентичность. А еще научить его гармонично совмещать эти два вида идентичности в своем Я.
Сложности здесь могут возникнуть в ситуации неполной семьи, когда на одного родителя сваливаются противоположные задачи: он должен демонстрировать как способность безусловно любить и принимать ребенка, так и оценивать его. У ребенка в такой ситуации возникает внутренняя спутанность и невозможность сформировать целостный образ своего Я.
На пятом этапе, этапе сепарации, задача родителей – отпустить ребенка в мир. Родители здесь неизбежно встречаются со сложными переживаниями, описанными в психологии как синдром пустого гнезда. Здесь очень важно, чтобы родители существовали не только как родители, а еще и как пара. Если в родительской паре есть взаимное влечение-притяжение, то отпускать детей им будет проще. Если же этого нет, то ребенок может придерживаться родителями (родителем) «при себе», чтобы не встречаться друг с другом (с собой).
Еще более сложным является процесс расставания в том случае, когда родитель воспитывает ребенка один. Вся энергия родительской любви направляется на ребенка, создавая ситуацию эмоциональной зависимости. Такой ребенок, став физически взрослым, остается патологически привязанным к родителю, и ему будет сложно создать здоровые отношения с партнером.
Так, нерешенные задачи родителей переходят к детям, становятся нерешенными задачами ребенка.
Важно своевременно решать свои задачи развития, не тиражировать эти нерешенные задачи, передавая их от поколения к поколению. А для этого есть психотерапия – то место, где можно их обнаружить и проработать.
Технология формирования ложного Я
Ложное Я болезненно зависимо от Другого и пытается получить от него любые подтверждения своего существования.
Когда мать игнорирует ребенка – мир безмолвствует, Я малыша не отражается, его просто нет…
Знаете, что самое страшное в семейном воспитании?
Нет, не оценки, не крики, не угрозы и даже не физическое наказание. Самое страшное в воспитании ребенка – это игнорирование. Игнорирование, исходящее от самых близких и значимых людей – родителей.
Весь опыт людей с проблемами в привязанности красноречиво говорит об этом.
– Лучше бы наорали, даже бы отлупили ремнем – только бы не эта подчеркнутая холодная отстраненность!
– Хоть знал бы, что получу за дело и все, «дело закрыто», а так чувствуешь себя пустым местом!
– Тяжелее всего было выносить безразличие родителей, демонстрируемое ими в воспитательных целях.
Примерно такие фразы часто слышу от клиентов, переживших родительское игнорирование.
Типы родительского игнорирования
Есть три типа родительского игнорирования:
• игнорирование в воспитательных целях;
• игнорирование как следствие отсутствия привязанности к своему ребенку;
• игнорирование как неспособность родителя к близости со своим ребенком, вследствие его (родителя) проблем психологического плана.
Игнорирование первого типа манипулятивно по сути. Оно опаснее даже прямой агрессии, так как осуществляется «для блага ребенка». Осуществляемое под такой «приправой», оно способно обезоружить любого. Ребенок в результате таких воспитательных действий родителей получает следующий урок: «Будь удобным. Такой, как ты есть, ты здесь не нужен! Твои желания, чувства, мысли никому не интересны!»
Наказание и игнорирование отнюдь не одно и то же. Наказывая ребенка, мы обращаем на него внимание, включаемся в ребенка эмоционально. Когда игнорируем – не замечаем либо делаем вид, что не замечаем. В игнорировании скрыто послание «Меня нет для тебя, а тебя нет для меня! Я тебя не знаю! Кто ты такой вообще?», «Ты для меня пустое место!». В случае игнорирования ребенок сталкивается с леденящей пустотой Ничто!
Игнорируется, не принимается в ребенке, как правило, все спонтанное, непосредственное, живое – неудобное для родителей. Поддерживается же все удобное – предсказуемое, «правильное», социально приличное. Так постепенно стирается подлинное, живое Я ребенка, замещаясь фальшивым, чуждым для Я. Речь здесь не идет об отдельных эпизодах игнорирования – в жизни всякое бывает, а о регулярном использовании родителями данного «педагогического приема».
Такой «педагогический прием» используется родителями, как правило, вследствие их незнания, низкого уровня психологической грамотности, и здесь еще есть шанс все исправить. Иногда достаточно даже психологического просвещения.
Результатом такого родительского воспитания является формирование у ребенка фальшивого Я. Это, как правило, клиенты с нарциссической структурой личности.
Во втором случае все выглядит гораздо печальнее: родители здесь не способны к близости и безусловной любви. Они вследствие своего неблагополучного опыта взаимодействия со значимыми людьми сами имеют проблемы с привязанностью и не способны эмоционально присутствовать в жизни ребенка. Результатом такого родительского воспитания является формирование у ребенка пустого Я. Таких клиентов иногда называют пограничными.
В этом случае родителям показана глубокая длительная психотерапия. Потенциальным родителям, которые не способны на такие «жертвы» для своего ребенка – психотерапию, я бы рекомендовал вообще не заводить детей, дабы не калечить их психику. Пусть это звучит и жестко.
Третий вариант игнорирования описан психоаналитиком Грином как феномен мертвой матери. Мать, которая находится в состоянии депрессии, оказывается неспособной быть в близком контакте со своим ребенком. Чаще всего это результат непережитой ею потери (смерть ребенка, абортированные дети, потеря супруга). В этом случае необходима психотерапия по переживанию матерью утраты.
Последствия родительского игнорирования
В случае родительского игнорирования ребенок сталкивается со следующими последствиям:
• Ситуация с проступком ребенка оказывается незавершенной, не получившей оценки родителем, что способствует формированию у него чувства вины. Это вина, которую невозможно искупить, она всегда остается в ребенке, суммируется и накапливается. Ребенок чувствует себя «без права искупления». Такие люди и живут впоследствии с постоянной хронической виной, лишающей их возможности делать выбор.
• Ребенок получает от родителей следующее послание: «Тебя нет, ты пустое место». Такого рода послание отнюдь не способствует формированию Я ребенка и его индивидуальности.
Это примеры ситуации острого игнорирования ребенка. Они болезненны, травматичны. Но более опасна ситуация хронического игнорирования, возникающая вследствие формального, функционального присутствия родителей в жизни ребенка. Ребенок в этой ситуации, по сути, не важен, он мешает, отвлекает, «путается под ногами». Это, как правило, второй тип игнорирования.
О важности Другого для Я
Человеку, для того чтобы чувствовать себя психологически живым, переживать себя как Я, формировать Я, нужен Другой. Ему постоянно нужно, как в зеркалах, отражаться в Других, уточнять и корректировать свое Я. Наше сознание, наше Я для того чтобы функционировать постоянно должно отражаться о «плотность бытия». В противном случае это будет как луч фонарика, направленный в бездну. Неотраженное Другими Я не подтверждается, не обозначается, теряет свои границы и плотность и сливается с миром.
Так происходит, когда родители:
– игнорируют плачущего ребенка;
– не слышат его «Хочу»;
– наказывают его своим безразличием;
– формально (функционально) присутствуют в его жизни;
– пренебрегают им, не обращают внимания.
Подчеркнутое игнорирование, социальная изоляция, холодное равнодушие – механизмы, «убивающие» индивидуальное Я. Такая ситуация нелегко переживается даже взрослым человеком. Не говоря уже о ребенке.
Чем меньше ребенок, тем важнее ему родительское отражающее присутствие. Маленький ребенок воспринимает мир через посредника – свою мать. Мать для ребенка и есть мир. Мать это делает через телесный, визуальный и эмоциональный контакт. Позже все большее значение начинает приобретать контакт вербальный. И если мать игнорирует ребенка – мир безмолвствует и Я малыша не отражается, его просто нет. Далее таким отражающим, подтверждающим и наполняющим Я ребенка становится и отец. Если же значимые взрослые отстраненные, игнорирующие, неприсутствующие – Я ребенка оказывается пустым.
Подлинное и ложное Я
Ложное Я – фальшивое либо пустое. Пустое Я нуждается в наполнении. Ложное – в признании своей ценности. И то и другое Я испытывает сильную нужду в Другом. Человек с ложным Я оказывается неспособным опираться на себя, становится болезненно зависимым от Другого, пытаясь получить любые незначительные подтверждения своего существования, цепляясь за Другого, жадно всматриваясь в его глаза. Он оказывается зависимым от навязываемых общественных ценностей, ориентируясь на модное, престижное, крутое.
Подлинное Я – фундамент индивидуальности. Опираться можно только на подлинное. Психотерапия в каком-то смысле позволяет восполнять дефицит индивидуальности в обществе и при неглубоком рассмотрении может показаться антисоциальным проектом, так как приводит человека к встрече со своим Я, со своей индивидуальностью. Но если смотреть глубже, то становится очевидным, что общество движут именно индивидуальности.
Неуместный ребенок
В их жизни много Надо и Должен.
Их Хочу глубоко спрятано…
Этих клиентов я называю «Рано повзрослевший ребенок». Чаще всего они обращаются к психотерапевту с жалобами на усталость, апатию, напряжение, неспособность радоваться. Иногда хотят от психотерапии стать «Быстрее, выше, сильнее!». Нередки также случаи психосоматических запросов. В психотерапии такие клиенты ответственны, старательны, добросовестны. Психотерапевтический процесс, как и жизнь, они воспринимают очень серьезно.
И неудивительно. У таких людей очень плохой контакт с их «внутренним ребенком». Зачастую эта их внутриличностная часть оказывается несформированной. И контакты с миром, Другими они осуществляют из позиции Взрослого, но чаще из позиции Родителя.
Давайте поближе познакомимся с такими людьми и выделим основные стратегии выхода из этой ситуации.
Вот основные штрихи их психологического портрета:
• Плохой контакт со своей эмоциональной частью.
Таким людям сложно «говорить на языке чувств». Он для них недоступен. На вопрос «Что ты сейчас чувствуешь?» такой человек обычно отвечает «Нормально». В лучшем случае он будет описывать свои телесные ощущения, но чаще будет привычно рационализировать, избегая эмоциональных проявлений.
• Сильно развита «понимающая» позиция в отношении других.
Они легко оправдывают других людей, прощают их, понимают их и принимают. Однако уже при более внимательном взгляде обнаруживается, что такого рода прощение – понимание – принятие рационально и поверхностно. За этим нет чувств. Чувства глубоко упрятаны, и к ним нет доступа осознающего Я. В этом случае принятия-прощения как такового не происходит, так как не произведена «работа переживания».
• Выраженная установка на спасательство.
В контакте с другим человеком у них доминирует профлексия. Суть данного механизма контакта описана в гештальт-терапии в следующей установке: «Если я буду помогать, давать Другому, то мне это вернется! Другой заметит, оценит и сделает мне то же». Способы возвращения будут зависеть от особенностей мировоззрения человека. Кто-то будет надеяться, что Другой заметит, оценит и отблагодарит тем же. Кто-то будет уповать на божественную справедливость. Кто-то будет рассчитывать на законы баланса Вселенной и пр.
• В их жизни много Надо и Должен.
Они искренне считают, что способны выбирать. Но это лишь иллюзия. Их выбор обусловлен установками Надо и Должен. И это выбор без выбора. Для выбора необходимо наличие хотя бы двух альтернатив. Здесь их нет. Их Хочу глубоко спрятано.
• Они обречены на предательство себя.
Выбирая Надо – они выбирают не себя. Надо – это голоса Других во мне. Собственное же Я со своими желаниями-потребностями постоянно задвигается.
• В их жизни много ответственности и вины.
Но эта ответственность односторонняя. Это ответственность за других людей. В отношениях им сложно делегировать ответственность Другому. В детстве жизнь заставила их отвечать за Других – своих близких. К тому же у них гипертрофированное чувство вины в силу интроецированного долга. И во взрослой жизни они, вступая в близкие отношения, привычно взваливают груз ответственности на себя.
• Они склонны к созданию эмоционально зависимых отношений.
Такого рода взаимодействия являются результатом выше описанных особенностей этих людей. Установки долга, вины, ответственности за Других в сочетании с нечувствительностью к себе запускают паттерн созависимого поведения в отношениях.
Каковы условия формирования такого человека?
Представьте себе счастливого ребенка. Он беззаботный, беспечный, расслабленный, радостный, играющий. Он уверенный, защищенный, любимый. У него счастливое детство.
Всего этого нет у описываемого ребенка. Это ребенок, у которого не было счастливого детства. Его детство было условным, и он не получил опыт переживаний ребенка с реальным детством.
Как правило, это неуместный ребенок. Родители такого ребенка личностно незрелы. Чаще всего это инфантильные родители, родители-алкоголики. Либо, как вариант, малообеспеченные родители, обреченные на постоянное выживание. В силу этого они оказались не в состоянии справляться со своими родительскими функциями. Это вариант дисфункциональной семьи.
В такой семейной системе нет места для позиции ребенка. Для того чтобы система могла выживать, необходима ее переструктуризация. Ребенок вынужден занимать родительскую позицию для компенсации системы. В итоге он, не проживая свою детскую позицию, искусственно проскакивает в позицию взрослую, становясь родителем для своих родителей. Но это псевдовзрослая позиция. Она сфорсирована внешними условиями, а не вызревает изнутри. Данный механизм называется в психология парентификацией.
Что можно сделать, если вы обнаружили в себе черты описанного здесь неуместного ребенка?
Вот некоторые рекомендации.
• Налаживать связь со своей эмоциональной частью. Это непросто и требует немалых усилий и многих часов психотерапии.
• Учиться возвращать ответственность в отношениях другим людям за их поступки, действия-недействия.
• Проработать вину. Невротическая вина является чрезмерной и иррациональной и забирает много энергии, отводя ее от решения задач развития.
• Перестать спасать Других. Спасая Других, вы не спасаете себя. Спасти себя, спасая Других, не получится. Особенно в тех случаях, когда Другой этого не просит, не хочет. Лучше направить усилия на себя.
• Открыть в себе Хочу! Открыв свое Хочу, человек получает доступ к энергии Я.
• Работать над психологическими границами. Учиться определять, где свои, а где чужие границы, и возвращать ответственность Другому в случае нарушения им границ моего Я. Для этого необходимо открыть в себе здоровую агрессию и отвращение, научиться ими пользоваться в «мирных целях».
Выделенные рекомендации сложно реализовать без помощи специалиста. Это скорее психотерапевтические стратегии – основные направления работы по взращиванию и активации позиции «Внутренний счастливый ребенок» и дальнейшей интеграции личности. Они указывают на путь – Что делать? А вот Как делать? – это компетенции психотерапевта.
Феномен «мертвой» матери
Рука, качающая колыбель, правит миром.
Английская пословица
Отношения с матерью могут быть гармоничными, а могут быть сложными или враждебными. Но они никогда не бывают нейтральными.
Наши внутренние психические функции, как я уже отмечал ранее, являются производными от межличностных отношений. Наше Я появляется благодаря Другому – в первую очередь родителям ребенка. Родители – это та почва, на которой появляется новый росток жизни, и от ее качества во многом будет зависеть дальнейший его рост. В данном тексте будут рассмотрены отношения в паре мать – ребенок. Речь пойдет о матери и ее роли в психологическом рождении ребенка, а также в фокусе внимания окажется такая ситуация, которая приводит к формированию комплекса мертвого ребенка.
Функции матери
Физическое рождение – самая первая и самая важная материнская функция для ребенка. Но это далеко не единственная ее функция. Физическое отделение ребенка от матери отнюдь не означает прерывание связи между ними. Эта связь «мать – дитя» хоть и ослабевает со временем, но при этом сохраняется на всю жизнь.
Еще одной, не менее важной функцией матери является ее непосредственное участие в психологическом рождении ребенка, описанном в психологии как процесс сепарации. Очевидно, что для того, чтобы состоялось рождение ребенка, мать должна сама быть живой. Сказанное в полной мере относится как к рождению физическому, так и психологическому. Для того чтобы психологическое рождение состоялось, мать должна быть сама психологически живой.
И здесь мы сталкиваемся с некоторой сложностью, связанной с определением понятия психологической жизни – смерти. Что касается признаков жизни – смерти физической, с этим все более-менее понятно. Когда же речь заходит о жизни – смерти психологической и ее критериях, то здесь все не так ясно. Очевидно лишь то, что эти феномены разные: можно быть физически живым, но психологически мертвым, «как бы живым».
Вернемся к выше высказанной идее, что для того, чтобы состоялось психологическое рождение ребенка, его мать сама должна быть психологически живой. И еще один важный тезис: психологическое рождение – это не одноразовый акт, по сравнению с рождением физическим. Я буду рассматривать три таких ключевых момента в жизни ребенка, означающих процесс его сепарации, связывая их с появлением у него новых форм идентичности.
«Мертвая мать». Идея «мертвой матери» в психологии не нова. Впервые этот феномен описал французский психоаналитик Андре Грин, назвав его комплексом мертвой матери. Он описывает такую мать как погруженную в себя, которая находится рядом с ребенком физически, но не эмоционально. Это мать, которая остается в живых физически, но она мертва психологически, потому что по той или иной причине впала в депрессию (например, из-за смерти ребенка, родственника, близкого друга или любого другого объекта, сильно любимого матерью); или это может быть так называемая депрессия разочарования из-за событий, которые происходят в собственной семье или в семье родителей (измена мужа, переживание развода, вынужденное прерывание беременности, насилие, унижение и т. п.).
Я думаю, что феномен мертвой матери, если рассматривать его как метафору, значительно шире рассматриваемого А. Грином комплекса мертвой матери. Суть такой психологически мертвой матери, на мой взгляд, в ее неспособности удовлетворять какую-то жизненно важную в определенный период развития ребенка потребность, что приводит к невозможности рождения у него новых форм идентичности и как итог, к фиксации его личностного развития. Речь идет, по сути, о дисфункциональной матери
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: