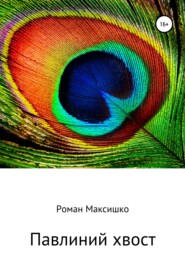скачать книгу бесплатно
18 сентября 1932 года
Дожди сильно задержали рекогносцировку. Несколько дней нам пришлось провести на берегу неспешной Исаны, и лишь сегодня мы смогли покинуть ее широкие меандры и по руслу небольшого притока углубиться на двадцать километров в лес к северо-западу от вайк’у (долины реки) в сторону гор Тухани. Здесь – километрах в шестидесяти – проходит водораздел. К югу все потоки устремляются в Амазонку, к северу – в Ориноко, несущую свои воды уже по землям Венесуэлы и впадающую в Атлантику к востоку от цепи островов Карибского бассейна. Исток Исаны находится где-то километрах в семидесяти-восьмидесяти западнее, а за перевалом нас ждет река Инирида с ее многочисленными порогами и живописными водопадами.
В этой холмистой местности, густо поросшей сельвой, прорезанной утюгами скальных утесов массива Гуанес, одного из самых древних геологических образований планеты, Николай Иванович хочет отыскать островки горной пампы, где по его расчетам должны произрастать дикие злаки, с помощью которых селекционеры-генетики из ВАСХНИЛ смогли бы вывести новые высокоурожайные сорта пшеницы и ржи.
Научный гений академика Вавилова способен прозревать столетия! Ведь его догадки относительно новых разновидностей дикого и культурного картофеля инков уже оправдались. А изучение различных видов и сортов растений, которые мы усердно собираем в ходе нашей экспедиции, позволит установить очаги возникновения новых дикорастущих форм и центры происхождения сельскохозяйственных культур, известных аборигенам с глубочайшей древности. Открытие закономерностей географического распределения видового и сортового состава в первичных очагах и последующего расселения растений из этих очагов вообще трудно переоценить. Я уверен, это послужит хорошей основой для практической селекции и экспериментальной ботаники.
У меня же, помимо указаний начальника нашей экспедиции, есть и отдельное персональное задание – описать здешние биогеоценозы и их геоморфологические признаки, а также собрать образцы для дальнейших исследований в лабораториях академика Ферсмана и профессора Виноградова, моего друга, наставника и научного руководителя.
Будучи учеником самого Вернадского, Александр Павлович рьяно отстаивает и продвигает в научных кругах идеи биогеохимии, дисциплины, рождающейся на стыке биологии, геологии и химии. Его предположение о том, что растения чутко реагируя на элементы, входящие в минеральный состав пород, поверх которых они произрастают, а также воды и даже воздуха окружающей среды, могут служить индикаторами месторождений полезных ископаемых, нуждается в серьезном опытном подтверждении. Поэтому он и направил меня в экспедицию Николая Ивановича Вавилова в качестве его научного ассистента.
Еще Михайло Васильевич Ломоносов в своем гениальном труде «О слоях земных», предвосхитившем многие более поздние открытия, отмечал: «На горах, в коих руды или другие минералы родятся, растущие деревья бывают обыкновенно нездоровы, то есть листья их бледны, а сами они низки, кривлеваты, суковаты, и гнилы прежде совершенной старости своей. Травка, над рудными жилами растущая, бывает обыкновенно мельче и бледней». Да и древние рудознатцы всегда пользовались в своем деле подсказками природы, поскольку, как любит повторять профессор Виноградов: «Дыхание любой подземной кладовой – нефти, газа или руды – ощущается на поверхности». Теперь же силой передовой советской науки необходимо превратить эти обрывочные сведения, этот набор разрозненных кустарных знаний в мощный инструмент – объективный метод, при помощи которого можно будет уверенно вести поиск и разведку полезных ископаемых.
На ночлег мы расположились у скалы, густо опутанной лианами. Наш ручей резво огибал ее, весело журча на камнях, а справа располагалось плоское, как плуг, зеркало материнской породы, уходящее в землю под небольшим углом, образуя маленькую полянку, вполне пригодную для установки палаток. Отсюда уже видны дальние горные массивы, в основании сложенные архейскими гранито-гнейсами. Их широкие плато, беспорядочно испещренные более поздними протерозойскими интрузиями, возвышаются метров на пятьсот над зеленым морем тропических лесов. Туда нам и предстоит направиться. Но сначала мы должны найти подходящее место для большой стоянки всей нашей экспедиции.
Эх, скорее бы! Что-то я соскучился по горячим картофельным лепешкам с грибной подливой на сметане, которые мастерски готовит молодая и веселая повариха Нина, родом из Ленинграда.
Да и Карлуш, как я заметил, стал все чаще и чаще вздыхать по ночам. Пришлась ему наша Ниночка по сердцу. Огненная девушка. Так он окрестил ее, потому что «нина» на его родном языке означает огонь.
* * *
Завершение беззаботной студенческой поры для Паганеля совпало с печальным концом Советского Союза. А начало его научной деятельности в университете, аспирантура и работа на кафедре соответственно, как говорят ученые, коррелировались со временем установления в стране новых рыночных отношений, частной собственности и построения капитализма. И это было глубоко символично.
После развала СССР в геологии, как и во многих других областях, все складывалось непросто. Заработать чистой наукой было практически невозможно, финансирование фундаментальных исследований резко сократилось, приходилось искать что-то более тесно связанное с насущными нуждами. Многие однокурсники Сергея переквалифицировались, ушли в другие профессии. А те, кто остался в геологии, часто подрабатывали, например, на разных стройках, потому что прежде чем строить, надо же хотя бы приблизительно знать, что там внизу, под поверхностью земли: какова гидрогеологическая обстановка, нет ли опасных разломов, какие породы, и выдержат ли эти породы многоэтажный дом или какую-нибудь другую конструкцию.
Жизнь поставила Паганеля перед непростым выбором. Извечное «интересно», которое всегда было для него главным приоритетом, вступило в противоречие с «надо», и молодой ученый, естественно, отдал предпочтение тому, что было «интересно».
Вот тут-то все и началось. Поступив в аспирантуру, Сергей вдруг понял, что «интересно» поманило его и обмануло. Ведь наукой-то он толком так и не смог заняться. Вот в чем парадокс! Не было, понимаете ли, подходящих тем для диссертации. Все какая-то ерунда – мелкая и бессмысленная. Никаких прорывов, никаких горизонтов… Было бы ради чего терпеть лишения.
Два года топтания на месте… И тут вдруг такой Клондайк! Ай да Макарский!
Проводив Асю на работу, Сергей долго не мог успокоиться. Его будоражили мысли о предстоящем проекте. В том, что это как-то связано с результатами исследовательской деятельности профессора Великанова, Паганель нисколько не сомневался. Но как? Ведь от наследия Юрия Александровича ничего не осталось, кроме этого старого дневника и потертой статьи из научного альманаха. Да, система хорошо постаралась, ничего не скажешь. Будто волшебным ластиком она прошлась по судьбе профессора, вымарывая всю жизнь и работу ученого. Вот уже и следов не сыщешь: был человек, и нет его…
Или все-таки что-то осталось? Скорей бы дождаться субботы, когда Лев Михайлович все прояснит. Уж он-то наверняка точно знает, как там оно на самом деле. Ведь не мог же академик Виноградов, отправивший Великанова в экспедицию, так просто забыть своего друга и ученика. Да и Виктор Ефимович Ковтун, мир его праху, должен был хоть как-то попытаться завершить исследования, начатые учителем. Иначе все это выглядело просто глупо и нелогично, если не сказать бесчеловечно.
Попробуем восстановить события. 1932 год – экспедиция Вавилова в Южную Америку. Результаты этих комплексных агрономических исследований хорошо известны и доступны. В любой научной библиотеке можно запросто с ними ознакомиться.
И вот экспедиция возвращается в Москву. Великанов начинает лабораторные работы с привезенными им материалами. Ковтун ему помогает. Исследования ведутся несколько лет, как минимум семь – вплоть до момента ареста Юрия Александровича и его трагической гибели. Где эти семь лет? Почему они нигде и никак не отражены? Что там на самом деле происходило?
Рискуя жизнью, Виктор Ефимович спасает дневник и статью. Делает на полях пометки. Стоп! Ну, конечно… «Срочно найти Хиппеля!» И как это Сергей мог забыть про ремарку Ковтуна? Интересно, где он этот Густав Фридрих фон Хиппель, молодой лаборант из Берлина? Жив ли еще? Ведь столько лет прошло, столько событий…
Может быть, именно он даст ключ к разгадке этого секрета? Узнать бы, нашел его академик, или нет. И не из-за этого ли Хиппеля, Юрий Александрович Великанов был обвинен в шпионаже в пользу Германии? Ведь Гитлер к тому времени уже пришел к власти, и Эрнст Тельман – депутат рейхстага и руководитель организации «Рот Фронт» – был по приказу фюрера арестован и брошен в одиночную камеру. Тогда многие немецкие коммунисты и сочувствующие, спасаясь от гонений и репрессий, бежали из страны или же переметнулись в лагерь национал-социалистов.
Сколько же лет ему было в те годы? Ну, предположим, 20-25, значит сейчас – около 90. Ах, чем черт ни шутит – немцы, они ведь долгожители. А ну как действительно живехонек-здоровехонек сидит себе где-нибудь в фамильном замке у камина да мемуары строчит, если, конечно, пережил войну.
Все опять упиралось в профессора Макарского как единственного возможного наследника тайны Великанова. Не может быть, чтобы Виктор Ефимович не посвятил своего ученика во все эти хитросплетения.
Сергей сильно разволновался. Он несколько раз прошелся взад и вперед по комнате, задумчиво постоял у окна, машинально поливая любимые Асины фиалки, густо усеявшие весь подоконник, потом как робот поплелся на кухню ставить чайник. «Да, в этом надо будет основательно разобраться, – думал Паганель, слушая, как закипает вода. – Понять бы, что там на самом деле открыл в Колумбии профессор Великанов, с какой загадкой природы столкнулся».
Молодой исследователь и не заметил, как с головой окунулся в пучину мечтаний. Ему представлялись блестящие научные перспективы. Время сейчас другое: нет ни политических репрессий, ни довлеющей идеологии, ни партийной опеки, ни цензуры. Делай, что хочешь. Свобода! Нужно только выбрать правильное направление и нанести точный удар, и тогда волшебный Сим-сим откроется, впуская ученого внутрь горы, наполненной сказочными сокровищами.
От предчувствия близкой удачи Сергей даже вспотел. Он глубоко вздохнул, вытер ладонью испарину, проступившую на лбу, и неловким движением расстегнул воротник рубашки. Теперь главное не увлечься сверх меры и сохранить ясный рассудок, чтобы не забыть, где находится выход из заветного грота Али-Бабы. Четкий план действий, методика, фактические материалы. Это пока все, что ему нужно.
В коридоре надрывисто затрещал телефон резким и коротким зуммером, как обычно бывает при междугороднем звонке.
Гущин мгновенно пришел в себя и схватил трубку:
– Слушаю вас, алло.
– Здравствуйте Сережа! – услышал он знакомый голос шефа.
– Добрый день, Лев Михайлович, – вежливо ответил молодой ученый.
– Вашу кандидатуру я предварительно согласовал, – продолжил профессор. – Там не против.
– Где это там? – удивился простодушный Паганель. – В Академии?
– Там – это там, где надо, – наигранно рассмеялся в ответ Макарский. – В общем, жду вас с Анастасией в субботу, как и договаривались, часикам этак к семи, если вы, конечно, не передумали.
– Да, я нет, не передумал, то есть да, конечно, будем, – сбивчиво проговорил Сергей.
– Вот и отлично. До встречи.
– До свидания, Лев Михайлович, – молодой ученый медленно повесил трубку и снова задумался.
Звонок профессора, в котором, собственно не было ничего особенного, почему-то напугал его. Паганелю вдруг стало не по себе от навалившихся на него неприятных предчувствий. «Там, где надо…» Хм. Да, видимо, слишком рано он расслабился. Живы, значит, еще компетентные инстанции, обеспечивающие и контроль, и идеологию, и опеку. Лишь бы до репрессий не дошло.
«И куда это я вляпался? Знать бы», – ломал голову Сергей, каждой клеткой своего существа ощущая, как водоворот событий затягивает его все глубже и глубже.
Глава 6. В гостях у профессора
В назначенный час Паганель с Асей при полном параде стояли у дверей профессорской квартиры в сталинской высотке на Кудринской площади, которая в годы СССР именовалась площадью Восстания.
Сергея уже один раз принимали в доме Макарского, а вот девушка попала сюда впервые. Она была потрясена убранством хорошо известного всей столице дворца советской элиты. Никогда в жизни Ася не видела такого великолепия: инкрустированные мраморные полы и колонны с изящными капителями, позолота и лепнина, художественные барельефы, выполненные знаменитым скульптором Аникушиным, арки и расписные плафоны потолков, двери из мореного дуба и витражи, изготовленные по эскизам Павла Корина… Слов нет! Не дом, а музей. Эрмитаж…
Даже в скоростном лифте с панелями из красного дерева, мигом умчавшем юную пару на 17 этаж, можно было жить. И поскольку у советских людей обычно бытие определяет сознание, восторженной барышне хотелось буквально, схватиться за блестящие бронзовые поручни и попросить в этой шикарной кабинке политического убежища, чтобы остаться здесь навсегда.
Для послевоенного времени дом был новаторским и очень удобным. Не случайно сам Посохин – главный архитектор комплекса – намеревался тут поселиться. Жилье он спроектировал, как для себя: комфортное, просторное и функциональное. Дом изобиловал техническими новшествами. В нем предусматривались, к примеру, полная радиофикация и телефонизация, включая специальную телефонную связь квартир с вестибюлем, диковинная для пятидесятых годов электрическая плита на кухне, автоматическая электромойка, автономное регулирование температуры в каждой квартире, центральная пылесосная установка и даже дробилка мусора – этакая специальная электрическая мельница, размалывающая пищевые отходы в жиденькую кашицу, которая затем спускалась в канализационную сеть.
Естественно, в доме жило множество знаменитостей. В разные времена в просторных вестибюлях высотки можно было запросто повстречать таких видных деятелей как академик Микулин, хирург Бакулев и чемпион мира по шахматам Смыслов, или же артистов Надежду Чередниченко с ее мужем Иваном Переверзевым, а так же известных актеров – Алейникова, Мирова, Новицкого, выдающихся летчиков Анохина, Громова, Коккинаки и многих других замечательных людей.
«Если после Сережкиного повышения нам перепадет хотя бы тысячная доля этой роскоши, – думала Ася, – можно будет считать, что жизнь удалась».
Лифтовый холл на этаже, украшенный огромными зеркалами и штучным дубовым паркетом, заканчивался двумя квартирами, в одной из которых жил академик из Курчатовского института, а напротив, в просторных апартаментах с окнами, смотрящими на планетарий и зоопарк, – профессор МГУ Лев Михайлович Макарский, сын известного биолога Михаила Львовича Макарского.
Сергей поправил целлофановую упаковку пышного букета, который они с Асей купили в ларьке у метро, и нажал черную кнопку большого старинного звонка.
Дверь открыла супруга ученого, пожилая дама с потрясающей фигурой.
– Здравствуйте, молодые люди! – сказала она с улыбкой, и Асе стало ясно, что в прекрасном состоянии находится не только ее фигура, но и голос, и вообще вся она весьма изящна и молода душой. – Милости прошу, проходите.
Марианна Викторовна сделала приглашающий жест и впустила гостей в квартиру с высоченными, буквально уходящими под облака потолками. Движения хозяйки были плавны и изысканно элегантны. И немудрено, поскольку в молодости она была известной балериной и в свое время блистала на сцене Большого театра.
Сергей не сомневался, что они с Асей быстро найдут общий язык на почве искусства и кулинарии.
– Какие красивые цветы! – с чувством проговорила Марианна Викторовна, может быть излишне театрально. – Ася, вас не затруднит поставить их в вазу? Вообще, чувствуйте себя, как дома. Распоряжайтесь. Еще минутка и будем пить чай.
За большим круглым столом было просторно, и это очень понравилось молодой барышне. Ее всегда вдохновляли большие чистые поверхности и аскетизм незаполненного пространства. Когда же во время праздников всю столешницу обычно заваливали различными яствами и приборами, так что и чашку поставить некуда, это вгоняло Асю в состояние ступора и легкой депрессии, и ей всякий раз хотелось скорее покинуть застолье.
Сервиз у хозяев был какой-то очень старый, должно быть фамильный. И ложечки были особой формы, старинные, с витыми ручками. И вся гостиная была обставлена монументальной громоздкой мебелью позапрошлого века, и атмосфера в ней была такая академическая, великосветская, что Асе казалось странным, как это они до сих пор еще говорят за столом по-русски, а не по-французски или даже по-латыни.
И булочки, которые испекла Марианна Викторовна по случаю визита, тоже были непростые: рецепт этот сохранился еще от бабушки профессора, и весь секрет заключался в особой последовательности смешивания масла, сахара, яиц и прочих продуктов. И были эти булочки очень вкусными.
Разговор то сбивался в обычную светскую болтовню ни о чем, то как-то очень своеобразно переходил на околонаучные темы, то опять возвращался ко всяким пустякам и погоде. В общем, было мило.
Профессор Макарский фонтанировал красноречием и не скупился на комплименты в адрес Сергея. По всему было видно, что он гордится своим учеником и возлагает на него большие надежды.
– Вам, Ася, крупно повезло! – ораторствовал Лев Михайлович, сверкая глазами. – Мы стоим на пороге величайшего открытия. Вы даже не представляете, что это такое.
– Как интересно! – воскликнула Ася, всплеснув руками. – Может быть, вы объясните, профессор? Ну, хотя бы в двух словах.
– В двух словах… – крякнул ученый, не скрывая удовольствия от встречи с такой поистине милой наивностью. – Если я когда-нибудь смогу объяснить это в двух словах, то уже на следующий день можно будет спокойно отправляться за Нобелевской премией.
Все дружно рассмеялись. Но Ася была упорна в своей настойчивости:
– И все же.
– Хорошо, – неожиданно согласился Макарский, – так и быть, прочитаю вам краткий курс биогеохимии, но чур не зевать и не падать под стол от скуки!
– Нет, что вы! – горячо возразила девушка и покраснела, увидев краем глаза, как улыбнулась Марианна Викторовна.
Макарский был неподражаем. Он говорил ярко и убедительно, жестикулируя и используя приборы, лежавшие на столе, в качестве наглядных пособий для аргументации. Такого взволнованного, красочного и образного выступления ни Паганель, ни тем более Марианна Викторовна от него никак не ожидали.
И Ася, конечно же, не заскучала, а совсем наоборот, все поняла и даже пришла в состояние какого-то детского восторга от откровений, которыми одарил ее старый ученый.
Вот, скажем, растет где-нибудь дерево или травка специфическая. Простые люди думают, что все это в порядке вещей, и проходят мимо. А для биогеохимика сразу все ясно: если смогло здесь вырасти это дерево с мощными корнями, значит, горные породы в глубине не такие уж плотные, значит, есть в них трещины, по которым течет вода и несет с собой питательные минеральные вещества, иначе здесь вообще ничего бы не выросло.
А еще есть растения, которым для правильного роста нужны какие-то особые химические элементы. Не было бы этих элементов, не появился бы здесь такой цветочек. А уж если он вырос, значит, ищи рядом источник этих элементов. И вот так можно найти какие-то важные минералы, даже целые месторождения, ну или что-то в этом роде.
– Анчар, – полушепотом произнесла ошеломленная Ася, когда профессор, наконец, остановился.
– Что анчар? – удивился Лев Михайлович.
– Пушкинский анчар, – чуть громче и уверенней проговорила девушка. – Почему он вырос «в пустыне чахлой и скупой, на почве, зноем раскаленной»? Ведь неспроста торчит он «один во всей вселенной» посреди большой равнины, да еще и напитанный ядом! Уж биогеохимик-то объяснил бы, почему, и что там, под этим анчаром, какие такие особенные горные породы. Ну, и начал бы копать канаву или шурф. Глядишь, и нарыл бы чего-нибудь…
– Гениально! – восхитился Макарский. – Более способного слушателя я еще не встречал. Поздравляю вас, Сережа. Ваша прелестная подруга бесспорно достойна самых высоких похвал.
– Вот видишь, Серенький! – задорно рассмеялась Ася. – А ты меня не ценишь и только постоянно ругаешь. Вот объясни, почему ты никогда не рассказывал мне, чем занимаешься? Боялся, что не пойму?
Сергей замялся и не нашел, что ответить, тем более, что он действительно много раз порывался посвятить Асю в проблемы, которыми жил, но она всегда увиливала от подобных разговоров и не желала слушать всю эту научную муть. Между тем девушка, уже обращаясь к профессору, продолжила:
– Замечательно, Лев Михайлович! Но это ведь была только вводная лекция… А в чем, собственно, состоит ваше величайшее открытие?
– О, это очень серьезный вопрос, – загадочно произнес Макарский, подняв вверх указательный палец. – И к тому же, пока большой секрет. Скажу только, что есть в природе один любопытнейший минерал, и анчар у него свой тоже имеется. Вот этим-то мы и будем скоро заниматься. Не так ли?
Старик пристально посмотрел на Паганеля. Тот в ответ еле заметно кивнул.
– Ну, хорошо, милые дамы, вы тут пока еще почаевничайте, а мы с Сергеем Николаевичем ненадолго уединимся. Нам надо обсудить кое-какие дела, – объявил профессор и пригласил Гущина в кабинет.
– Вы произвели на Льва Михайловича неизгладимое впечатление, – сказала хозяйка, когда мужчины покинули гостиную. – Давно я не видела его таким словоохотливым. Честно говоря, я, так же как и вы, Ася, по большей части живу в неведении относительно того, чем на самом деле занимается мой муж. И скажу вам откровенно, так даже лучше. Вы не представляете, в каких сферах ему приходится вращаться. Так что, как говорится – меньше знаешь, крепче спишь.
– В каких сферах? О чем вы, Марианна Викторовна?
– В тех сферах, – супруга профессора взглядом указала наверх.
Девушка смутилась и робко пододвинула к себе недопитую чашку.
– А мужа вашего, он действительно очень ценит, – добавила балерина.
– Мы не женаты, – тихим голосом поправила ее Ася.
– Это не важно, – вздохнула хозяйка, – в любом случае, вы уже взвалили на плечи эту непосильную ношу – быть спутницей ученого. Готовьтесь, будет много радости, но и печали тоже…
Девушка кивнула, хорошо понимая, о чем говорила Марианна Викторовна. Повисла неловкая пауза.
– Расскажите лучше, как вы познакомились со своим Сергеем, – желая разрядить обстановку, попросила хозяйка.
– Мы с детства знакомы, – охотно ответила Ася, – жили в одном дворе.
– Друзья детства, получается?
– Да.
– Каким он был тогда?
– Да, в общем, он не сильно изменился, – улыбнулась девушка.
– И все-таки.
– Веселым, умным, безалаберным, – продолжила Ася. – Мы вместе ходили в сад, потом в школу, во дворе вместе играли. С ним всегда было здорово, хоть он, кажется, с самого рождения был махровым разгильдяем. Меня, впрочем, это никогда не смущало. Что еще сказать? Худющий, вечно всклокоченный, растрепанный, в синяках и ссадинах, с дырами на одежде и карманами, полными всяких интересных штуковин – вот такой он, мой Серенький.
– Как это мило, – мечтательно вздохнула Марианна Викторовна. – Хотите еще чаю?
– Да, пожалуй. Спасибо.
– А вы знаете, на самом деле они очень похожи, – сказала супруга профессора, подливая девушке свежей заварки.
– Кто? – не поняла Ася.