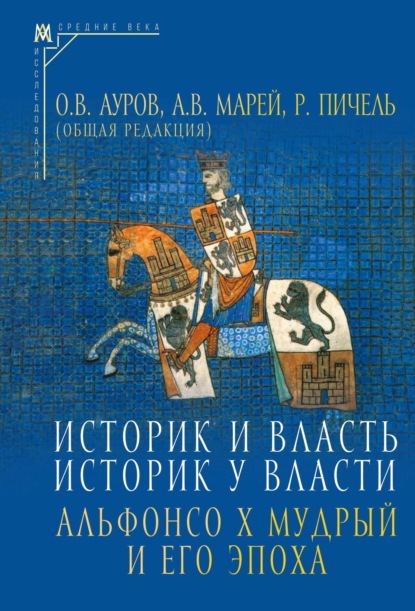
Полная версия:
Историк и власть, историк у власти. Альфонсо Х Мудрый и его эпоха (К 800-летию со дня рождения)
Согласно сохранившимся свидетельствам, при решении королевских тяжб прибегали как к «Королевскому фуэро», так и к Партидам. Таким образом, оба свода законов сохранили свою ведущую роль, но только в делах, входящих в королевскую юрисдикцию. Кроме того, «Королевское фуэро» продолжало использоваться там, где оно было принято и действовало как муниципальное право. Плюс ко всему, за исключением полномочий, ограничивающих муниципальную автономию, – назначение алькальдов, апелляции к королю, установление денежных штрафов, – оно использовалось также применительно к сфере сеньориальной юрисдикции, о чем свидетельствует так называемое Фуэро Вервьески или Бривиески.
Эта ситуация сохранялась, пока в 1348 г. в Алькала-де-Энарес король Альфонсо XI не установил приоритета источников права, которыми впредь судьям надлежало руководствоваться при принятии решений. Согласно постановлению, в первую очередь следовало обращаться к королевскому законодательству (в данном случае, к самим «Уложениям Алькалы»). Во вторую очередь можно было прибегать к муниципальным фуэро и обычаям с рядом ограничений, каждое из которых утверждало приоритет «Королевского фуэро» над фуэро муниципальным. Предписания фуэро поддерживались при условии, что они использовались, за исключением тех случаев, когда монарх сочтет, что их тексты следует улучшить или исправить, или же они противоречат Божьей воле и справедливости и законам «Уложения», которые затем будут приравнены к законам короля. Альфонсо XI, противореча свидетельству, сохранившемуся в «Хронике Альфонсо Х», утверждает, что, поскольку Партиды не были введены в действие, он обнародует их заново, для того чтобы к ним могли обращаться в случаях, когда в перечисленных выше источниках судья не мог найти подходящей нормы[26].
Таким образом, первое провозглашение Партид источником законодательства относится к 1265 г. (даже если обнародованный текст не был идентифицирован), и в 1348 г. кодекс был провозглашен вновь. При этом оба экземпляра промульгации (документа о провозглашении), оригиналы которых хранились в Королевской палате на случай необходимости прибегнуть к ним для разрешения споров о букве закона, в настоящее время не найдены, и, следовательно, установить их содержание невозможно.
Судя по всему, сейчас в центре научных дискуссий стоит вопрос о возможных редакциях Партид между промульгацией 1267 г. и новой промульгацией, осуществленной Альфонсо XI в 1348 г. В моем понимании, эти дискуссии не опровергают высказанного ранее, поскольку не похоже, что ни одна из них не была обнародована[27]. Я лишь утверждаю следующее: один текст Партид был обнародован в 1265 г., и в 1348 г. Альфонсо XI заявляет, что, упорядочив труд Альфонсо Х, обнародует его впервые[28]. И в этом случае ключевая проблема состоит в идентификации обнародованных в эти годы оригиналов, что никак не противоречит общей картине.
Вне зависимости от того, какие варианты могут быть найдены в манускриптах, я обращаю особое внимание на одну цитату, которая доказывает существование устоявшейся редакции, единого утвердившегося текста Партид. Только таким образом можно объяснить, что итальянский юрист Ольдрадо, который к 1348 г. уже умер, цитирует их так, как мы это делаем сегодня: номер книги, номер раздела и номер закона[29]. И так как его ссылка на Partid. II.15.3 сегодня находится в месте, указанном в издании Королевской академии[30], а также в изданиях Диаса де Монтальво и Грегорио Лопеса, следует сделать вывод: утвердившийся текст Партид существовал до 1348 г., и, по крайней мере, в этом конкретном месте в него не привнесла изменений ни промульгация, осуществленная Альфонсо XI, ни промульгация, проведенная в 1555 г. Карлосом I, когда издание Грегорио Лопеса приобретает официальный характер и его текст признается оригиналом, к которому нужно прибегать в случае возникновения споров о букве закона[31].
Учитывая, что направления исследований, – изучение документов эпохи Альфонсо Х исходя из их оборота[32], исследование кастильских актов, опубликованных в последние годы, анализ сочинений юристов для того, чтобы установить момент, с которого начинают ссылаться на Партиды, и проверка используемой системы цитирования, – должны оставаться неизменными, мне показалось уместным по-своему последовать примеру поэта Эухенио Монтеса, весьма поэтично сравнившего короля Сицилии Фридриха II и кастильского короля Альфонсо Х. Два деятеля XIII в., в течение своего правления вступавших в конфликт с папством, которых, кроме того, сближает оценка их интеллектуальной деятельности, данная почти восемьдесят лет назад во времена расцвета империализма[33], что сейчас, после Гражданской войны, открывает широкий простор для обсуждения.
Сравнения всегда одиозны и, как правило, некорректны, особенно когда они производятся за пределами контекста[34], без необходимой точности. Хайдеггер указывает на то, что математика – наука точная, чего нельзя требовать от истории, но «математическое познание не строже, чем историко-филологическое»[35].
Исследователи, говоря об этих деятелях, обычно выделяют их роль интеллектуалов, порой используя современные определения этого понятия. В случае Фридриха II следует уточнить, что английский клирик XIII в. Матвей Парижанин (Мэтью Пэрис) был первым, кто определил его как stupor quoque mundi et immutator mirabilis[36], и что сам Фридрих II в прологе к своей книге об охоте с ловчими птицами представляет себя следующим образом: «Auctor est vir inquisitor et sapientie amator Divus Augustus Fredericus secundus Romanorum imperator, Ierusalem et Sicilie rex»[37]. Таким образом, не следует ни связывать эти обозначения, приписывая им одинаковое происхождение[38], ни влагать в уста современников характеристику, придуманную самим императором[39], поскольку даже Данте отмечает, что он славился как человек рассудительный и высокообразованный – «loico e clerigo grande»[40]. Меньше вопросов вызывает прозвище, под которым известен только Альфонсо Х – «Мудрый»[41].
Эта слава двух высокообразованных людей не имеет непосредственного отношения к их роли законодателей, и поэтому следует покинуть царство поэзии и сосредоточиться на конкретных аспектах их законотворческой деятельности, чтобы указать на определенные схожие моменты в процессе решения трудностей, с которыми они неизбежно сталкивались. Я не пытаюсь установить текстуальные тождества между Liber Augustalis (Мельфийские конституции) и трудом Альфонсо Х, которые бы позволили констатировать взаимосвязь между этими текстами. Находясь внутри идейного контекста так называемого res publica christiana [христианского государства (лат.)], оба деятеля подойдут к решению одних и тех же проблем по-своему и, на тот момент, независимо друг от друга. Речь идет не об установлении связей, а об указании на совпадения при использовании общих мест.
В 1231 г. в Мелфи, городе в области Базиликата (совр. пров. Потенца), Фридрих II обнародовал так называемые Liber Augustalis для своего Сицилийского королевства[42], а несколькими годами позднее Альфонсо Х издал «Королевское фуэро» для Кастилии и обеих Эстремадур, затем – «Семь Партид» для всех жителей своего королевства. Таким образом, они воплотили в жизнь теорию, которую впоследствии систематизирует Джакомо да Витербо, подчеркнув, что король-судья должен был превратиться в короля-законодателя для того, чтобы посредством законов отвечать на запросы времени.
Оба законодателя действовали в рамках одной и той же правовой концепции власти, основывавшейся на послании апостола Павла, в котором признается ее божественное происхождение. Эта концепция прошла через фильтр так называемого политического августинианства и нашла точное выражение в трудах Исидора Севильского. Таким образом, обрисованная в послании папы Геласия res publica christiana, становилась политической реальностью. В конечном счете, короли были поставлены во главе своих людей, – своих народов, – божественным проведением для того, чтобы, внушая страх, устанавливать христианскую справедливость, за что им надлежало давать отчет перед Богом. Для выполнения своей задачи королям следовало дать своим вассалам законы, чтобы те знали, как можно и как нельзя поступать, а судьи, назначенные королем, должны были поклясться судить справедливо, прежде чем приступить к исполнению своих обязанностей[43].
Тем не менее два названных законодателя исходили из разных ситуаций. Фридрих II был призван стать императором с детства, как только его избрали королем римлян. Несмотря на драматические первые годы царствования, 22 ноября 1220 г. в Риме папа Гонорий коронует его как императора[44]. Когда Альфонсо Х составил «Королевское фуэро» и приступил к работе над «Зерцалом», он еще не принял пизанское посольство и предложение императорской короны.
Позиция Фридриха II четко определена в прологе его Liber Augustalis или Liber Constitutionum[45] (так обычно называют конституции, провозглашенные Фридрихом II в Мелфи). Изложив доктрину res publica christiana, он постановляет, что только данные законы, то есть Мельфийские конституции, составленные от его имени, имели нерушимый характер и наделялись юридической силой в Сицилийском королевстве. Упразднив там все устаревшие законы и обычаи, противоречащие названным конституциям, император повелел, чтобы впредь все неукоснительно следовали новым установлениям, поскольку по приказу Фридриха II в них были сведены воедино все предыдущие законы сицилийских королей и его собственные в том числе, и чтобы законы, не вошедшие в этот корпус, не имели никакой правовой силы и власти как в суде, так и вне его[46].
В «Королевском фуэро» аргументация по очевидным причинам иная, но вывод идентичен: Альфонсо Х пожаловал «это фуэро, записанное в этой книге, чтобы вершился суд над мужчинами и женщинами в соответствии с ним» и далее повелел, «чтобы этому фуэро следовали всегда, и никто не осмеливался пойти против него» (FR. Pro.)[47].
Помимо общей теории, Фридрих II включил в Liber Augustalis конституцию о происхождении права (LA. I.31), в которой, изложив выработанную римскими юристами концепцию перенесения величия (maiestas) римского народа на императора, напоминает, что Бог среди прочих королевств поручил его попечению и Сицилию, и объявляет о своем желании вершить правосудие через своих чиновников[48].
Следует отметить стремление Альфонсо Х создать труд, достойный хвалы в области права, о чем он в очевидной форме сообщает в «Зерцале», определив эту книгу как «Зерцало, то есть отражение всех законов» (Espéculo. I.13). Это осознание свершения чего-то нового проявляется во включении в «Зерцало» закона, титул которого говорит сам за себя (Еspéculo. I.1.3)[49]; мне же хотелось лишь подчеркнуть, что Альфонсо Х, взывая к разуму, утверждает: «если императоры и короли, избранные править своими империями и королевствами, могли устанавливать законы в землях, которые были поручены их ведению, тем более такое право есть у нас, получивших королевство по праву наследования».
Представление о короле как законодателе обнаруживается и в других местах, например, в регламентации клятвы, приносившейся судьями. Многочисленные проблемы, связанные с изучением Liber Augustalis, свидетельствуют о том, что лучше не вступать на чужую территорию[50]. Поэтому я сосредоточусь исключительно на первой редакции конституции Puritatem в том виде, в котором она сохранилась в версии, обнародованной в 1231 г., не касаясь трансформаций, которые текст претерпел вследствие включения в него императорских новелл (novellae) в октябре 1246 г.
Конституция Puritatem, входящая в состав титула «De sacramento a baiulis et magistris camerariis prestandis» [О клятве, которую надлежит приносить бальи и магистрам судебной палаты (лат.)], устанавливает, что упомянутые оффициалы должны приносить клятву добросовестно исполнять свои обязанности[51]. Ее формулировка напоминает мне более позднюю клятву викариев Каталонии[52]. В «Королевском фуэро» мы находим эквивалент этой конституции, в одних аспектах упрощенный, а в других – расширенный. Если оффициалы сицилийского короля, занимающиеся правосудием, должны были клясться на Святых Евангелиях, произнося «prompto zelo justitiam ministrare» [открыто и ревностно вершить правосудие (лат.)], то же самое должны были делать алькальды, назначенные королем Кастилии. Их клятва звучала следующим образом: «в соответствии с законами, записанными в этой книге, и никакими другими» (FR. I.7.1). Таким образом, еще раз утверждается идея, изложенная в другом месте, когда монарх подчеркивает, что «все тяжбы должны решаться в соответствии с законами этой книги, которую мы даем и приказываем хранить нашему народу» (FR. I.6.5)[53].
Различие, на мой взгляд, объясняется особенностями контекста. В «Королевском фуэро» отражается та римско-правовая традиция Кодекса Феодосия, которая сохранилась в Вестготской правде. Альфонсо Х перефразирует ее, указывая, что «если характер спора не определен в этой книге, нужно довести это до сведения короля, чтобы он установил такой закон, по которому можно судить, и закон этот следует поместить в эту книгу» (FR. I.7.1). В то же время вторая редакция конституции Puritatem противоречит прологу, поскольку, как отмечают разные издатели, содержит интерполяцию, происхождение которой вызывает вопросы[54]. В ней говорится, что упомянутые чиновники должны клясться «secundum constitutiones nostras et in defectu earum secundum consuetudines approbatas ac demum secundum jura communia, Longobardorum videlicet et Romanorum, prout qualitas litigantium exiget, iudicabunt» [в соответствии с нашими постановлениями (конституциями), а при отсутствии таковых, следуя одобренным обычаям, а также ius commune, то есть лангобардским и римским нормам, пусть судят в зависимости от того, чего потребует харктер тяжбы (лат.)][55].
Если ограничиться первым изданием LA I.62, то можно сказать, что конституция I.79, относящаяся к назначению судей и секретарей и их подготовке[56], совпадает с законами «Королевского фуэро» в том, что касается заботы об образовании оффициалов. Альфонсо Х, снова следуя римской традиции Кодекса Феодосия, сохранившейся в Вестготской правде, признает желательным, чтобы образование судей не ограничивалось знанием «Книги законов», и что им следовало бы знать и другие знаконы, но отмечает, что к ним нельзя прибегать при решении тяжб, хотя судьи могут ссылаться на них, чтобы подкрепить решение, вынесенное на основании «Королевского фуэро» (FR. I.6.5).
Учитывая задачи данного сообщения, изложенные соображения представляются достаточными, поскольку те, что можно было бы добавить, повлекли бы за собой сопоставления, к которым я не могу в данный момент обращаться, тем более что я уже прибегал к ним в других случаях в связи с законами Альфонсо X.
Если для правовой реальности Сицилийского королевства с изданием второй редакциеи конституции Puritatem (1246 г.) открылся новый путь, то Альфонсо Х перед лицом новой ситуации, связанной с предложением пизанских послов [выдвинуть свою кандидатуру на выборах на престол Священной Римской империи], должен был скорректировать свой проект, который в итоге был свернут из-за мятежа знати под руководством его второго сына Санчо IV. Таким образом, потерпела крах его попытка заменить «Королевское фуэро» (традиция римского права Кодекса Феодосия) на Партиды (традиция юстинианова римского права)[57]. Позднее, в 1505 г., в так называемых «Законах» Торо будет предпринята попытка согласовать эти две римско-правовые традиции[58].
Это повсеместное присутствие Партид в кастильском законодательстве столь значительно, что я могу, перефразируя слова других авторов, признать, что кастильское право заключено в Партидах, кроме тех конкретных случаев, когда его регулирование подвергалось изменениям посредством издания королевских законов. Переформулируя утверждение Августина, обычаи, признанные королями, – законы. Утверждение это, на мой взгляд, требует уточнений в том смысле, что кастильское законодательство во всей его полноте не фиксируется ни в Партидах, ни в «Уложениях Алькалы»[59]. Здесь я сошлюсь на свою работу, не упомянутую отдельно в приведенной выше библиографии и посвященную «Книге о законах и привилегиях»[60].
Я вынужден признать свое неведение относительно судьбы тех двух пропавших рукописей (одна отмеченная золотой печатью, другая – свинцовой), о которых упоминает Альфонсо XI. Появление печати и первого печатного издания Партид, подготовленного юристом Диасом де Монтальво, которому было поручено составление так называемых «Кастильских королевских уложений», не решает вопросов, связанных с буквой Партид.
В 1555 г. из печати вышло издание Партид, осуществленное Грегорио Лопесом, выдающимся комментатором памятника[61]. Это издание сопровождается королевскими документами, выданными в тот же день, – 7 сентября 1555 г. Первое предоставляет право публикации и продажи с глоссой, составленной автором. Во втором, гораздо более интересном, упоминается, что лиценциату Грегорио Лопесу было поручено прокомментировать Партиды, но также и отредактировать их текст, поскольку как в печатных книгах, так и в рукописных содержалось множество опечаток и описок. После представленного членам Королевского совета сообщения о внесенных изменениях и вслед за долгим обсуждением был утвержден текст, который должен был оставаться неизменным, а на Грегорио Лопеса была возложена обязанность проследить за процессом печати, для того чтобы избежать новых ошибок.
Еще большим значением обладает другое свидетельство, также выданное в Вальядолиде 7 сентября 1555 г., в котором, после упоминания означенного процесса фиксации текста Партид, постанавливается, что они должны быть напечатаны «в книге на пергаменте и помещены в наш архив, для того чтобы, если в будущем в типографской форме будет допущена ошибка или в том издании появится какой-то изъян, можно было бы исправить его согласно этой книге; и когда возникнет сомнение относительно сути законов этих “Семи Партид”, прибегали бы к этой книге как к первоисточнику». Также добавляется, что, согласно приказу, эта книга была помещена в архив крепости Симанкас, и снова указывается на ее значение в случае сомнений относительно буквы Партид[62]. Тем не менее это предписание не возымело действия, поскольку те, кто работал над анастатическим изданием, использованным здесь, признают, что «при подготовке, естественно, обратились к Архиву Симанкас и убедились, что данный экземпляр там отутствует. Судьба его неизвестна, хотя даже если бы мы узнали изначальное место хранения экземпляра».
Таким образом, с этого момента существует официальный текст Партид, снабженный глоссой, задачей которой является уточнить сферу действия законов. Здесь нет смысла останавливаться на его дальнейшей судьбе и тем более на последствиях, которые для традиции Партид имело восприятие через Кадисскую Конституцию 1812 г. идей Просвещения, при этом не сопровождавшихся импортированием социально-экономических структур, порожденных Французской революцией. Тем не менее стоит напомнить, что их статус «зерцала всех законов» («Зерцала»), в которое надлежало смотреться всем королям, стремящимся исполнить высокое предназначение, возложенное на них Богом (Партиды), объясняет авторитет, достигнутый ими в сфере действия ius commune. На это указывает кардинал Джованни Баттиста де Лука (1614–1683), итальянский юрист, родившийся, несомненно, в Базиликате, но завершивший обучение в Неаполе, где он начал блестящую карьеру адвоката, а затем перебрался в Рим. Его сугубо практическое отношение отразилось в признании того, что при интерпретации гражданских законов необходимо учитывать и принимать во внимание Партиды, поскольку законы эти взяты оттуда.
Хотя в Испании не произошла Революция, но посредством Кадисской Конституции 1812 г. в стране получили распространение идеи, восторжествовавшие благодаря Французской революции, которые, правда, были восприняты далеко не сразу. Сейчас наша задача состоит не в обсуждении отдельных последствий, а в привлечении внимания к основополагающим идеям, которые предполагали, в конечном счете, полную замену всех тех представлений, на которых зижделись правовые системы с момента падения Римской империи и до Французской революции, пусть и не всегда сохранявшихся в неизменной форме. Не нужно забывать, что укорененное сегодня фундаментальное представление заключается в признании того, что суверенитет, незаконно удерживавшийся королем, на деле принадлежит народу, нации.
В «Королевском фуэро» в отношении поединков устанавливается привилегированное право идальго на эту процедуру[63] и устанавливается, что они должны происходить перед лицом короля, поскольку только он может признать побежденного изменником [то есть виновным в преступлении] или невиновным. Кроме того, далее указывается, что король может признать его верным [то есть невиновным], даже если доказательства свидетельствуют о его вероломстве, поскольку «так велика власть короля, что заключает в себе все законы и все права, и власть эта дана ему не людьми, а Богом, место которого он занимает во всех земных делах» (FR. IV.21.5). Мне удалось осмыслить это утверждение, сузив его до королевского прощения, основанного на понятии caritas [любви к людям, гуманизма][64], исключив его функцию внутри сферы summa potestas [полной власти (лат.)], и даже внутри применяемой ex plenitudine potestatis [исходя из всей полноты власти (лат.)], присущей средневековому королю. Позднее это понятие трансформировалось в новый концепт, что нашло отражение в постановлениях кортесов в Ольмедо в 1445 г., когда горожанами было признано право короля устанавливать законы, и что было четко сформулировано в приписке к завещанию Изабеллы I еще до того, как Боден дал свое классическое определение суверенитета. У меня складывается впечатление, что в современную эпоху это право прощения – в форме смягчения или амнистии – уже принадлежит не носителю суверенитета (если признать, хотя бы формально, что правом северенитета обладает нация), а одной из ветвей власти, что, как представляется, подтверждает лживость утверждения о том, что кортесы являются средоточием национального суверенитета.
Хосе Санчес-Арсилья Берналь
Кортесы во времена правления Альфонсо Х Мудрого
Кортесы эпохи Альфонсо Х: свет и тени
С тех пор как в конце XIX в. В. Пискорский[65] опубликовал первый систематический институциональный анализ кастильских кортесов, количество исследований, посвященных этому знаковому институту, значительно увеличилось. Был сделан значительный шаг вперед по сравнению со старыми исследованиями Мартинеса Марины[66], Семпере[67], Кольмейро[68] или Санчеса Могеля[69]. В последней трети ХХ в. испанские[70] и зарубежные[71] медиевисты начали изучение многих вопросов, связанных с кастильско-леонскими кортесами, но по-настоящему интерес к этой теме оживили конгрессы, прошедшие в Бургосе (1986)[72], Саламанке (1987)[73] и Леоне (1988)[74] и приуроченные к юбилею леонских кортесов 1188 г., вызывающих множество споров.
По очевидным причинам в этом исследовании речь пойдет лишь о кортесах эпохи правления Альфонсо Х Мудрого, с которыми также связано немало научных проблем. Одна из них, влияющая, разумеется, на понимание функционирования этого института в позднее Средневековье, это строгость, с которой к изучению кортесов подходят в рамках институционального метода. Действительно, зачастую в результате проведения систематического анализа этого института из вида терялась перспектива или историческая эволюция кортесов. В этом смысле мы, историки права, в значительной степени способствовали сужению исследования институтов власти до рамок нормативных стандартов, хотя как юристам нам следует знать, что во многих случаях орбиты движения права и реальности не совпадают. Именно реальная действительность обычно вызывает институциональные изменения. А для институтов – и здесь я не делаю никакого открытия – характерна своя собственная эволюция. Кортесы в этом плане не исключение. Были написаны десятки исследований и выдвинуты многочисленные гипотезы о причинах, способствовавших их появлению в результате трансформации королевской курии во времена раннего Средневековья[75]; последующую же их эволюцию, напротив, еще предстоит проанализировать основательно, переходя от правления одного короля к правлению другого, чтобы понять их истинное значение и изменения в позднее Средневековье. В течение XIII в. кортесы, на мой взгляд, зарождающийся институт, который приживется лишь во времена малолетства Фернандо IV и Альфонсо XI, и продолжит эволюционировать при Энрике II и Хуане I вплоть до своего прочного закрепления при Хуане II и Энрике IV.
Во времена правления Альфонсо Х кортесы – еще не до конца установившийся институт, как в политическом, так и в правовом плане, и именно в таком контексте они должны быть изучены, что позволит понять их реальное институциональное значение в данную эпоху.



