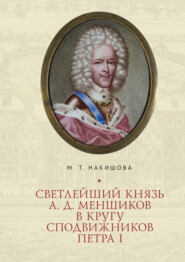скачать книгу бесплатно
Количество залпов и количество употребляемых пушек на разного рода мероприятиях четко регламентировалось. В октябре 1723 г. Петр I собирался выехать из Санкт-Петербурга в Москву. В связи с этим комендант узнавал у генерал-губернатора А. Д. Меншикова: «Когда Его императорское величество нынешним зимним путем изволит путь свой восприять из Санкт-Питербурха в Москву, тогда для отшествия Его величества с Санкт-Питербурской крепости пушечной стрельбе быть ли и ежели быть, ис коликого числа пушек. Буде ж Его императорское величество изволит путь восприять напред, а Ее величество государыня императрица после, то для отшествия Ее величества, також и государынь цесаревен пушечной стрельбе быть ли ж и ежели быть, ис коликого ж числа пушек»[158 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 379. Л. 269.].
Отдельно стоит остановиться на участии коменданта и подчиненных ему военных формирований в строительстве и благоустройстве городской территории. Силами солдат и офицеров создавались наиболее важные объекты городской застройки – дворцы, торговые палаты, дороги, мосты и каналы. Кроме того, военные использовались для строительства прилежащих к Санкт-Петербургу фортификационных объектов, царских резиденций и дворцово-парковых комплексов в Риге, Ревеле, Петергофе, Стрельне, Дубках, на о. Котлин. Санкт-Петербургский гарнизон участвовал в разведывании пустошей, где впоследствии можно было построить какое-либо сооружение или добыть необходимые для строительства материалы[159 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 380. Л. 46.].
В данном контексте было бы несправедливо утверждать, что комендант занимался только тем, что посылал рабочую силу на строительство объектов. В 1722–1724 гг. он осуществлял общее руководство строительством и благоустройством важных городских объектов (комплекса постоялых дворов, ветряных мельниц и Лиговского канала), причем Я. X. Бахмеотов организовывал все этапы работ от поиска подрядчиков, финансирования и заготовки материалов до сдачи под использование и мероприятий по поддержанию строений в рабочем состоянии. Опыт организации строительной деятельности Яков Хрисанфович приобрел, выполняя небольшие задания (строительные и ремонтные), связанные с нуждами Санкт-Петербургской крепости и ее гарнизона[160 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 380. Л. 102–103 об.]. Например, 20 сентября 1719 г. он отчитывался А. Д. Меншикову о проведенном осмотре места под строительство гарнизонных кирпичных заводов. Я. X. Бахмеотов писал: «…по приказу вашего светлейшества, милостиваго государя, для осмотру места под строение гварнизонных кирпичных заводов ездил я по четыре дни и для лутчево свидетельствования брал с собою от господина полковника Лутковского кирпичного мастера, и такое, государь, место обыскивали, которое близь пороховых заводов от Большой Охты реки с пол верст по Малой Охте в гору и, недошед старой швецкой пильной мельницы, в даче артилерийской, в котором месте по пробе явилась глина, к строению кирпичей гораздо, государь, удобная и что глубже, то оная лутча, которая может быть годна»[161 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 378. Л. 49–49 об.]. В июне 1723 г. комендант следил за починкой шпиля на Кронверке, поломанного сильным ветром[162 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 379. Л. 183–183 об.].
В марте-июле 1724 г. комендант руководил ремонтными и очистительными работами на Лиговском канале. 29 марта Я. X. Бахмеотов докладывал А. Д. Меншикову, перед которым должен был отчитываться, что материалы к канальному делу из Канцелярии от строений еще не получены, но ожидаются, поскольку указ оттуда уже взят[163 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 380. Л. 98 об.]. Несколькими днями позже между Я. X. Бахмеотовым и обер-комиссаром Канцелярии от строений У. А. Сенявиным произошел конфликт из-за железных материалов и инструментов, требовавшихся для благоустройства канала, – комендант, ссылаясь на указ А. Д. Меншикова, настаивал на их получении, в Канцелярии от строений требующихся ему вещей просто-напросто не имелось[164 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 380. Л. 100–101.]. Чтобы повлиять на неуступчивого У. А. Сенявина, Якову Хрисанфовичу потребовалось обратиться в Правительствующий Сенат, а покровительствовавшему ему А. Д. Меншикову – в Кабинет за царским указом[165 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 380. Л. 102–104 об.]. В результате, не дожидаясь указа, генерал-губернатор повелел Я. X. Бахмеотову, если Ульян Акимович материалы не пришлет, то купить их за счет остаточных «тележных» денег[166 - То есть тех, которые были получены для делания тележек для строительства. См.: РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 380. Л. 105.]. Бревна и доски для канального дела приказано было добывать, ломая староманерные суда у Ладоги[167 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 380. Л. 108–109, 112–113 об.]. Несмотря на проблемы с поставкой материалов, преследовавшие Я. X. Бахмеотова на протяжении всего периода, благоустройство и очистка Лиговского канала вполне успешно осуществлялись[168 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 380. Л. 104–104 об., 105–106 об., 114–118 об.]. 24 июля 1724 г. комендант извещал А. Д. Меншикова о прекращении своих полномочий: «Лиговская канальная работа по имянному Его императорского величества указу поручена в ведении господину генералу-маеору и от лейб-гвардии маеору Андрею Ивановичу Ушакову, которую и отправлять ему»[169 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 380. Л. 120.].
Таким образом, сфера деятельности коменданта Санкт-Петербургской крепости распространялась как на военное, так и на светское управление. Ядро его функционала составляли заботы о поддержании в боеспособности Санкт-Петербургской крепости и повседневной жизни ее гарнизона. Санкт-Петербургская крепость являлась не только фортификацией, рассчитанной на защиту города, но и военно-административным социумом, который жил своей жизнью. Комендант выступал главным организатором этой жизни, следившим за количеством людей (военных и неслужилых), обеспечением ресурсами, материалами и провизией, поддержанием безопасности и т. д. Фактически без его ведома на территории крепости не происходило ни одно важное событие, не появлялся ни один посторонний человек. Осуществляя общее руководство Санкт-Петербургской фортификацией, комендант выполнял множество мелких функций и использовал множество управленческих стратегий. Соответственно, он по праву может называться многофункциональным должностным лицом.
Не вызывает сомнения и тот факт, что сфера компетенции Я. X. Бахмеотова выходила за рамки Санкт-Петербургской крепости. Он являлся должностным лицом местной городской власти, чье влияние распространялось на территорию Санкт-Петербурга. Наибольший вклад коменданта в городское управление относился к сфере городского строительства, организации караульного дела, т. е. поддержанию безопасности, выполнению репрезентативных и церемониальных функций. Исполняя возложенные на него обязательства, Я. X. Бахмеотов вступал в тесный контакт с другими органами власти, выстраивал с их руководителями деловые связи и искал решение для управленческих конфликтов. При этом наиболее тесное взаимодействие на служебной почве происходило между Я. X. Бахмеотовым и его непосредственным начальником, генерал-губернатором А. Д. Меншиковым.
Глава 2
На государственной службе
Начало истории имперской столицы России, Санкт-Петербурга, в большинстве исторических работ связывается с возведением в дельте р. Невы Санкт-Петербургской крепости. Считается, что Санкт-Петербургская фортификация задала старт одному из самых грандиозных управленческих и строительных проектов петровского правления. Новая крепость, призванная защитить вновь обретенные территории от вражеского нападения, стала одной из доминант Санкт-Петербурга. Сам же город имел стратегическое значение: в первые годы своего существования Санкт-Петербург должен был обеспечить для страны экономические и военные выгоды, в дальнейшем добавилась и стала доминирующей репрезентативная функция нового города-парадиза[170 - Агеева О. Г. «Величайший и славнейший более всех градов в свете» – град святого Петра. Петербург в русском общественном сознании начала XVIII в. СПб., 1999. С. 61.]. Санкт-Петербург являлся центром обширной Ингерманландской (затем – Санкт-Петербургской) губернии, губернатором которой был назначен ближайший сподвижник Петра А. Д. Меншиков.
Постепенно вокруг губернатора складывалась система управления Санкт-Петербургом и его округой[171 - В данной работе мы не рассматриваем целенаправленно систему управления Ингерманландской (Санкт-Петербургской) губернией.]. В подчинении А. Д. Меншикова с 1702 г. находилась Семеновская приказная палата, в 1705 г. переименованная в Ингерманландскую (Ингерманландские) канцелярию (канцелярии)[172 - По мнению М. В. Бабич, о группе «Ингерманландских канцелярий» следует говорить как об органе обеспечения действующей армии первого десятилетия XVIII в. так называемыми предметами военного хозяйства, т. е. предшественнике учрежденного в 1711 г. Кригс-комиссариата. См.: Бабич М. В. Военно-организационная деятельность А. Д. Меншикова в материалах Российского государственного архива древних актов // Меншиковские чтения – 2011. СПб., 2011. Вып. 8. С. 21–33.], которая занималась сбором податей и налогов для нужд действующей армии. После проведения губернской реформы образовалась Санкт-Петербургская губернская канцелярия, имевшая административные и судебные функции. В 1703 г. для управления Санкт-Петербургской крепостью была учреждена должность коменданта, на которую был определен драгунский полковник К.-Э. Ренне. Чуть позже была введена должность санкт-петербургского обер-коменданта, которую до 1720 г. занимал умерший тогда Р. В. Брюс. Дела военно-морского управления находились в ведомстве Адмиралтейства, а руководство городской каменной застройкой, поиск мастеровых и доставка строительных материалов относились к сфере компетенции Канцелярии городовых дел (с 1723 г. – Канцелярия от строений). Затем в 1718 г. для поддержания общественного порядка была создана Полицеймейстерская канцелярия во главе с генерал-адъютантом царя А. М. Девиером. В 1720 г. появился Главный магистрат – орган, выполнявший функции городской ратуши.
Вопрос о месте санкт-петербургского коменданта среди городских властных институций остается открытым в историографии. Как правило, говоря о системе управления Санкт-Петербурга, среди государственных институтов, пользовавшихся наибольшим влиянием, называют Губернскую канцелярию (до 1718 г.), Канцелярию городовых дел и Полицеймейстерскую канцелярию. Исследователи отмечают личное влияние генерал-губернатора[173 - В официальных документах А. Д. Меншикова начинают называть генерал-губернатором примерно с 1718 г. До этого его должность называлась «губернатор».] А. Д. Меншикова, в чьих руках сконцентрировались все нити городского и губернского управления[174 - Агеева О. Г. «Величайший и славнейший более всех градов в свете» – град святого Петра. Петербург в русском общественном сознании начала XVIII в. СПб., 1999. С. 135; Очерки истории Ленинграда. Т. 1. М., Л., 1955. С. 156.]. Коменданту и подчиненному ему Санкт-Петербургскому гарнизону в данном контексте отводится скромная роль, включающая в себя по преимуществу осуществление военных и хозяйственных забот внутри крепости, а также обеспечение городских служб людскими ресурсами. Соответственно, представляется актуальным изучение характера взаимоотношений, сложившихся между комендантом и другими столичными органами власти, в особенности с генерал-губернатором А. Д. Меншиковым.
Как было показано в предыдущей главе, комендантская должность отличалась многофункциональностью и соединяла в себе черты военного и гражданского управления. Аналогичную специфику имели обязанности генерал-губернатора, державшего под своим контролем как военные, так и гражданские дела Санкт-Петербургской губернии. Оба должностных лица должны были соотносить свои действия с центральными органами власти – Правительствующим Сенатом, Военной коллегией, Кригс-комиссариатом и пр. в зависимости от специфики вопроса. Среди документального наследия Я. X. Бахмеотова и А. Д. Меншикова сохранились комплексы указов, ведений и ордеров, поступавших из учреждений центральной власти и регулировавших сферу их компетенции. В Санкт-Петербургской гарнизонной канцелярии велся учет полученным на имя коменданта и генерал-губернатора актам, фиксировался факт исполнения или неисполнения содержавшихся в них указаний. Нельзя забывать, что до 1723 г. А. Д. Меншиков совмещал должность генерал-губернатора Санкт-Петербургской губернии с руководством Военной коллегией (с 1724 г. пост президента занял А. И. Репнин). Поэтому его служебные связи с Я. X. Бахмеотовым определялись не только их взаимодействием в качестве генерал-губернатора и коменданта, но и как коменданта и руководителя центрального органа военной власти[175 - Не говоря о том, что А. Д. Меншиков входил в число сенаторов.].
В любом случае и как генерал-губернатор, и как президент Военной коллегии А. Д. Меншиков являлся непосредственным руководителем санкт-петербургского коменданта: он контролировал его деятельность, выносил резолюции и раздавал указания. Более того, именным указом от 2 февраля 1712 г., объявленным из Сената, за генерал-губернаторами законодательно закреплялось право назначения комендантов по своей воле[176 - ПСЗ РИ-1. Т. IV. № 2484.]. М. М. Богословский в «Исследовании по истории местного управления при Петре Великом» писал, что в 1700-х гг. коменданты были подчинены единоличной власти генерал-губернатора, затем для коллегиальности должны были добавиться обер-комендант, обер-комиссар, обер-провиант и ландрихтер[177 - Относительно проектов Петра М. М. Богословский писал: «По некоторым уцелевшим отрывочным документам можно догадываться, что, когда правительство Петра приступило к первой, губернской областной реформе, у него был составлен довольно стройный план губернского устройства, который и можно восстановить по этим документам. План этот заключался в следующем. Во главе каждой из восьми громадных областей, на которые разделена была Россия, должен был стать губернатор – правитель всей суммы губернских дел во всей их совокупности. Под ним среднее место должны были занять четыре “губернские персоны”, а именно: обер-комендант, заведующий военным управлением, обер-комиссар и обер-провиант, делящие между собой управление губернскими доходами так, что в руки первого поступают денежные, а в руки второго хлебные сборы, и, наконец, ландрихтер, заведующий губернской юстицией. Таким образом, эти четыре персоны делили на четыре доли всю совокупность губернских дел, сосредоточенную в руках губернатора. Под ними предполагалось поставить низшие органы областного управления – уездных комендантов, каждый из которых, будучи подчинен каждой из губернских персон по ее ведомству, сливает в своих руках опять все четыре ведомства в одну совокупность, простирая свою власть на небольшое подразделение губернии – уезд». См.: Богословский М. М. Исследования по истории местного управления при Петре Великом // Журнал Министерства народного просвещения. 1903. Ч. CCCXXXXIX. С. 62. См. также: Милюков П. Н. Государственное хозяйство России в первой четверти XVIII столетия и реформа Петра Великого. СПб., 1892. С. 354–356.]. Подобное умозаключение подтверждается данными делопроизводства и частной переписки между А. Д. Меншиковым и сменяющимися петербургскими комендантами. Е. А. Андреева, анализируя деятельность первого петербургского коменданта К.-Э. Ренне, замечает, что комендант посылал донесения как напрямую государю, так и А. Д. Меншикову, на чьи указания в тексте делалась ссылка. На полях донесений К.-Э. Ренне князь оставлял резолюции, что, по мнению исследовательницы, говорит о постоянном контроле генерал-губернатора за ситуацией в Санкт-Петербурге[178 - Андреева Е. А. Деятельность первого петербургского коменданта // Петровское время в лицах – 2003. С. 11, 14.]. Так же как и первый комендант крепости, перед генерал-губернатором отчитывались его последователи[179 - Агеева О. Г. «Величайший и славнейший более всех градов в свете» – град святого Петра. Петербург в русском общественном сознании начала XVIII в. СПб., 1999. С. 136–137.]. Пожалуй, со временем их зависимость от воли А. Д. Меншикова стала еще сильнее, поскольку практика отправки отчетов напрямую Петру I постепенно ликвидировалась[180 - В фонде Кабинета доношений от петербургского коменданта Я. X. Бахмеотова не обнаружено.].
Хотя подчиненность Я. X. Бахмеотова А. Д. Меншикову не может вызывать сомнений, рассматривая специфику их деловых связей, нельзя игнорировать тот факт, что в системе управления Санкт-Петербургской губернией существовало еще несколько государственных институтов, оказывавших влияние на механизмы взаимодействия между генерал-губернатором и комендантом. Прежде всего, речь идет о должности обер-коменданта, которая рассматривается большинством исследователей как связующее звено между генерал-губернатором и комендантами крепостей[181 - Богословский М. М. Исследования по истории местного управления при Петре Великом // Журнал Министерства народного просвещения. 1903. Ч. CCCXXXXIX. С. 62–63; Мрочек-Дроздовский П. Н. Областное управление России XVIII в. до учреждения о губерниях 7 ноября 1775 г. Ч. 1. М., 1876. С. 47. Кроме того, нередко в исторических исследованиях данные именования используются как синонимы или встречаются параллельно, когда личность, занимавшая пост коменданта, в некоторых случаях называется обер-комендантом, и наоборот. См., например: Луппов С. П. История строительства Петербурга в первой четверти XVIII века. М., Л., 1957. С. 66; Петербург в эпоху Петра I. Документы в фондах и коллекциях Научноисторического архива Санкт-Петербургского института истории. Каталог. Ч. 1. СПб., 2003. С. 679.]. Другими словами, в идеальном варианте иерархия должна была выглядеть следующим образом: комендант крепости подчинялся обер-коменданту более крупной территориальной единицы, обер-комендант подчинялся генерал-губернатору. Н. Р. Славнитский в своем специальном исследовании, посвященном функциям комендантов и обер-комендантов в годы Северной войны, указывает на отсутствие четкой регламентации комендантских функций и отмечает, что появление должности обер-коменданта наряду с должностью коменданта, «по всей видимости, диктовалось условиями военной обстановки, требовавшей наличия руководителей, которые могли наладить оборону на обширной территории, используя несколько крепостей в качестве “узлов обороны”, и в то же время выполнять более широкие функции, включая надзор за строительством укреплений, формирование новых полков и т. д.»[182 - Славнитский Н. Р. Функции комендантов и обер-комендантов крепостей в годы Северной войны // Петербургский исторический журнал. 2018. № 2. С. 556.] Поэтому, согласно его мнению, правомерно считать комендантов начальниками гарнизонов крепостей, а обер-комендантов – военачальниками и администраторами, державшими в подчинении и гарнизонные, и армейские полки. В заочный спор со Н. Р. Славнитским вступает Д. А. Редин, который полагает, что в Ингерманландской губернии до 1720 г. существовали разные по своему иерархическому положению обер-комендантские должности[183 - Редин Д. А. Ингерманландский эксперимент: к предыстории губернской реформы Петра Великого // Известия Уральского федерального университета. Серия 2. 2020. Т. 22. № 4 (202). С. 147.]. Историк выстраивает еще более сложную иерархию комендантских должностей: во главе стоял губернский обер-комендант (Р. В. Брюс), который имел власть над всей территорией Ингерманландской губернии; ему подчинялись обер-коменданты – руководители второстепенных единиц области («обер-комендантских провинций»); наиболее мелкой должностной единицей являлись коменданты городов и крепостей, которые подчинялись либо обер-комендантам, если управляемые ими города и крепости входили в «обер-комендантскую провинцию», либо губернскому обер-коменданту[184 - Там же. С. 147–148.].
Принимая во внимание утверждения исследователей, отметим некоторые изменения в статусе губернского (санкт-петербургского) обер-коменданта к концу 1710-х гг. Как известно, до 1720 г. на должности петербургского обер-коменданта находился Р. В. Брюс, который «ввиду исключительной важности Санкт-Петербурга, длительного отсутствия в нем губернатора и в силу доверительных отношений с царем и его ближайшими конфидентами»[185 - Там же. С. 147.] обладал широкими полномочиями, отличными от всех других обер-комендантов Ингерманландской (Санкт-Петербургской) губернии. С момента назначения в 1704 г. он играл важную роль в военном и гражданском управлении губернией. Однако к концу 1710-х гг. Р. В. Брюс практически отошел от губернских дел (исследователи, говоря о его влиянии, как правило, анализируют ситуацию 1700-х – первой половины 1710-х гг.) из-за проблем со здоровьем и военных миссий. Некоторые косвенные факты, отложившиеся в комплексах переписки Р. В. Брюса и А. Д. Меншикова, с одной стороны, и Я. X. Бахмеотова и А. Д. Меншикова – с другой, позволяют говорить о том, что Я. X. Бахмеотов с Р. В. Брюсом практически не контактировал. Как показывают «Повседневные записки делам князя А. Д. Меншикова», Я. X. Бахмеотов и Р. В. Брюс лишь единожды за 1717–1720 гг. единовременно навещали князя для обсуждения каких-либо деловых вопросов. Причем А. Д. Меншиков принимал их не вдвоем, а вместе с вице-губернатором С. Т. Клокачевым, генерал-аудитором И. В. Кикиным и «прочих довольным числом особ»[186 - Труды и дни Александра Даниловича Меншикова. Повседневные записки делам князя А. Д. Меншикова 1716–1720, 1726–1727 гг. М., 2004. С. 190.]. Еще одно упоминание о Р. В. Брюсе обнаруживается в корреспонденции самого Я. X. Бахмеотова – два государственных деятеля пересеклись в отсутствие А. Д. Меншикова на празднике в доме князя[187 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 378. Л. 51–51 об.].
На редкое взаимодействие между Я. X. Бахмеотовым и Р. В. Брюсом указывает отсутствие в корреспонденции коменданта каких-либо ссылок на ордеры или письма обер-коменданта. Более того, в одном из посланий от 19 июня 1719 г. генерал-губернатор А. Д. Меншиков, отдавая последние указания перед своим отъездом из города, писал коменданту: «…понеже в небытность нашу надлежит вашей милости о всем репортовать господина генералалейтнанта и обер-каменданта санкт-питербурхского Брюса, того ради предлагаем вашей милости, дабы по получении сего изволили вы ево о том репортовать, також и по предложению его милости во всем исполнять немедленно»[188 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 130. Л. 276. Примечательно, что в 1718 г. в свое отсутствие в городе князь поручал Я. X. Бахмеотову отчитываться не обер-коменданту Р. В. Брюсу, а генерал-майору Г. П. Чернышеву или А. А. Вейде. См.: РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 109. Л. 67, 95.]. В письмах Р. В. Брюсу он указывал извещать обо всем, что происходит в городе еженедельно[189 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 131. Л. 49–49 об., 73.]. Соответственно, когда генерал-губернатор находился в Санкт-Петербурге и был полностью погружен в дела подведомственной ему территории, комендант отчитывался ему напрямую без какого-либо посредничества, тогда как с обер-комендантом их взаимодействие и подчиненность в конце 1710-х – 1720 гг. носили ситуативный характер[190 - Д. А. Редин также подтверждает подобную догадку. Он пишет: «Поэтому А. Д. Меншиков после 1715 г. вполне мог по делам Санкт-Петербурга (крепости и города) принимать регулярные доклады санкт-петербургского коменданта, в то время как ингерманландский обер-комендант Р. В. Брюс занимался делами общегубернского масштаба». См.: Редин Д. А. Ингерманландский эксперимент: к предыстории губернской реформы Петра Великого // Известия Уральского федерального университета. Серия 2. 2020. Т. 22. № 4 (202). С. 148.]. После смерти Р. В. Брюса в 1720 г. назначений на должность санкт-петербургского обер-коменданта больше не происходило[191 - Это еще раз подчеркивает характер данной должности и связь назначения Р. В. Брюса с его личными взаимоотношениями с царем и его окружением.], а все бумаги умершего были переданы в гарнизонную канцелярию в Санкт-Петербургской крепости[192 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 378. Л. 251–253 об.].
Во время Персидского похода Петра 11722-1723 гг. в столице была введена еще одна чрезвычайная должность, повлиявшая на деловые связи Я. X. Бахмеотова и А. Д. Меншикова. Как указывают исследователи, с 1722 г. на пост военного руководителя Санкт-Петербурга был назначен князь М. М. Голицын[193 - 11 декабря 1721 г. М. М. Голицын писал А. Д. Меншикову: «…доношу вашей светлости, сего декабря 11 дня по отбытии вашей светлости получил я из Государственной военной коллегии за подписанием руки вашей светлости и протчих инструкцию, по которой по должности исправлять буду». См.: РГАДА. Ф. 198. Оп. 1.Д. 518.Л. 62.]. Он поставил под контроль военное управление в городе (за исключением Санкт-Петербургской крепости, где продолжал управлять комендант Я. X. Бахмеотов), строительные работы на территории столицы и в ее округе (на бечевнике, шлюзное и канальное дело и т. д.), осуществляемые силами армии, и общий надзор за близлежащими крепостями. Фактически М. М. Голицын перенял часть функций бывшего обер-коменданта Р. В. Брюса[194 - К сожалению, соотношение обязанностей М. М. Голицына и Р. В. Брюса не является предметом нашего изучения, хотя представляет особый интерес и видится нами как перспектива дальнейшего расширения исследования.]. В отличие от ситуативных контактов Я. X. Бахмеотова с Р. В. Брюсом, взаимодействие коменданта с М. М. Голицыным прослеживается достаточно стабильно. Причем Я. X. Бахмеотов оказался между двух начальников, перед которыми обязан был отчитываться в равной степени. С одной стороны, А. Д. Меншиков, в 1722–1723 гг. отсутствовавший в столице и требовавший от коменданта подробных отчетов о проводимых в Санкт-Петербурге работах и состоянии гарнизонов. С другой стороны, Я. X. Бахмеотову необходимо было отсылать рапорты М. М. Голицыну и просить его об указах, который, в свою очередь, как это ни парадоксально, должен был передавать все полученные сведения А. Д. Меншикову. Комплексы корреспонденции, проанализированные в рамках изучения мероприятий по строительству постоялых дворов в 1722–1723 гг. (см. часть I, главу 4), наглядно показали, как происходил обмен сведениями между Я. X. Бахмеотовым, М. М. Голицыным и А. Д. Меншиковым.
С середины 1724 г. произошло еще одно изменение в системе управления Санкт-Петербургом. В отсутствие санкт-петербургского обер-коменданта и с увольнением от дел М. М. Голицына Я. X. Бахмеотов, продолжая именоваться комендантом Санкт-Петербургской крепости, на практике перенял некоторые функции, которые ранее осуществляли Р. В. Брюс и М. М. Голицын. Подобное расширение обязанностей было произведено по воле генерал-губернатора А. Д. Меншикова, нуждавшегося в верных исполнителях на время своего отсутствия в столице и стремившегося концентрировать военное управление разношерстной губернией в одних руках. С 1724 г. комендантам Нарвского, Кронштадтского, Шлиссельбургского, Московского Орлова, Рижского вице-губернаторского, Выборгского и Смоленского гарнизонов указывалось отправлять Я. X. Бахмеотову сведения о численности и хозяйственном оснащении подотчетных им крепостей[195 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 380. Л. 126–200, 239–307, 342 об.]. Шлиссельбургский комендант В. И. Порошин вел переписку с А. Д. Меншиковым, пользуясь посредничеством Я. X. Бахмеотова[196 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 380. Л. 109–111.]. Яков Хрисанфович также получал информацию о произведенных в Санкт-Петербурге силами губернских полков работах, контролировал денежные сборы и распределение средств, решал проблемы с поставками материалов. При необходимости он участвовал в организации строительных мероприятий – например, приложил руку к ремонту Нарвской и Ивангородской крепостей[197 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 380. Л. 102–103 об.]. Полученные от комендантов сведения Я. X. Бахмеотов переправлял А. Д. Меншикову, тем самым выполняя важную посредническую роль в княжеском документообороте. Ответные указы генерал-губернатора к комендантам поступали как напрямую в канцелярию А. Д. Меншикова, так и в Санкт-Петербургскую гарнизонную канцелярию, откуда уже передавались по назначению. Таким образом, к концу правления Петра I санкт-петербургский комендант Я. X. Бахмеотов в губернской управленческой иерархии занимал привилегированное место по сравнению с остальными руководителями ингерманландских крепостей, становясь связующим звеном между генерал-губернатором и губернскими комендантами.
Итак, деловые отношения, сложившиеся между генерал-губернатором А. Д. Меншиковым и комендантом Санкт-Петербургской крепости Я. X. Бахмеотовым, по всем формальным признакам определялись принципом прямой подчиненности. Комендант регулярно, иногда каждый день, посылал князю детальные доношения и пространные письма с информацией о происходящем в Санкт-Петербурге и/или Санкт-Петербургской крепости. А. Д. Меншиков со своей стороны так же указывал Я. X. Бахмеотову «репортовать нас впредь о всем обстоятельно»[198 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 180. Л. 413.]. Во время пребывания князя в столице Яков Хрисанфович являлся к нему на аудиенции в дом на Васильевском острове. Комендант, как правило, приезжал в первой половине дня, докладывал по текущим делам, вел с А. Д. Меншиковым «довольные разговоры». Среди посетителей, являвшихся вместе с Я. X. Бахмеотовым, составитель «Повседневных записок делам князя А. Д. Меншикова» называет: генерал-поручика Ф. Г. Чекина, Д. А. Бестужева-Рюмина, генерал-аудитора И. В. Кикина, генерал-ревизора В. Н. Зотова, графа А. А. Матвеева, генерал-майора П. Г. Чернышова, гвардии майора С. А. Салтыкова, капитан-поручика Г. Г. Скорнякова-Писарева, стольника М. А. Головина, полковника И. Е. Лутковского, полковника И. В. Стрекалова, капитана Ф. М. Скляева и др. Чаще всего Александр Данилович принимал коменданта в компании с вице-губернатором С. Т. Клокачевым (до его отставки в 1717 г.) и петербургским ландрихтером Ф. С. Мануковым, ключевыми должностными лицами в системе управления Санкт-Петербургской губернии. Нетрудно догадаться, что основной темой их разговоров было обсуждение дел, касающихся управления губернией и ее столичным центром[199 - Труды и дни Александра Даниловича Меншикова. Повседневные записки делам князя А. Д. Меншикова 1716–1720, 1726–1727 гг. М., 2004. С. 189, 192, 196, 200, 203–206, 209 и т. д.].
Первостепенной обязанностью коменданта как подчиненного было информирование генерал-губернатора относительно хода дел в Санкт-Петербургской крепости. Так, под руководством Я. X. Бахмеотова велись строительные и ремонтные работы на территории фортификации, осуществлялась выплата жалованья, закупались припасы, амуниция и мундиры, создавались необходимые предметы быта. Доношения с информацией о ходе строительства, назначенном солдатам и офицерам жалованье, закупленных припасах Яков Хрисанфович неизменно посылал А. Д. Меншикову[200 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 378–380.]. В канцелярию князя также отправлялись проходные и расходные ведомости, составлявшиеся в Санкт-Петербургской гарнизонной канцелярии. Фактически полномочия между комендантом и генерал-губернатором распределялись следующим образом: Яков Хрисанфович следил за получением и расходом денежных сумм, определял, на что их потратить и каким образом эффективно распределить, тогда как полномочия князя сводились к поиску финансов и обеспечению их стабильного поступления на гарнизонный счет. Так, в июле 1722 г. А. Д. Меншиков указывал Я. X. Бахмеотову подать доношение в Военную коллегию с целью получить 1000 рублей на различные гарнизонные расходы [201 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 180. Л. 276 об.].
Как известно, служащие Санкт-Петербургского гарнизона вели активную экономическую деятельность. В стенах крепости имелись различные мастера (столяры, резчики и т. д.), своими силами создавалась различная утварь, а также необходимые для строительства и военного дела предметы, хранились припасы. Ресурсами Санкт-Петербургского гарнизона пользовались различные государственные деятели. 6 апреля 1720 г. обер-комиссар Канцелярии городовых дел У. А. Сенявин просил кабинет-секретаря А. В. Макарова разрешить ему взять лес для строительства госпиталя из запасов, имеющихся у Я. X. Бахмеотова. Ульян Акимович обещал, что как только коменданту самому понадобится лес для проведения каких-либо работ, то он сможет его возвратить из кошту Городовой канцелярии[202 - РГАДА. Ф. 9. Оп. 3. Отд. II. Д. 48. Л. 211.]. Подобным образом не раз поступал и А. Д. Меншиков[203 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 130. Л. 186, 238, 261; Д. 131. Л. 3; Д. 162. Л. 165; Д. 191. Л. 55–55 об.]. 10 июля 1718 г. князь благодарил Якова Хрисанфовича: «Присланные от вас одиннатцать труб, в том числе одна медная, у присланнаго от вас салдата приняты и оной отпущен к вашей милости»[204 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 109. Л. 67.]. Александр Данилович также мог указать коменданту передать необходимые предметы другим учреждениям или государственным деятелям. 16 июля того же года он указывал переправить три шлюпки из Санкт-Петербурга на о. Котлин к бригадиру В. И. Порошину и требовать с него расписку о получении[205 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 109. Л. 122.].
Помещения Санкт-Петербургской крепости ввиду их безопасности и защищенности использовались под хранение денежных средств, материалов и товаров, а также для временного пристанища некоторых государственных институтов[206 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 162. Л. 187; Д. 180. Л. 125 об., 381.]. 8 июня 1719 г. А. Д. Меншиков с о. Котлин писал Я. X. Бахмеотову о принятии денежной казны из Губернской канцелярии и Ратуши, собранной ландрихтером Ф. С. Мануковым. Он указывал коменданту беречь у себя деньги «в добром сохранении»[207 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 130. Л. 237.]. В свободных казармах Санкт-Петербургской крепости, кроме того, хранились товары, принадлежавшие купцам. Последние получали помещения на правах аренды по аналогии с наймом погребов и помещений у петербургских жителей[208 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 518. Л. 172; Д. 180. Л. 374–374 об., 520.]. Четких инструкций, определявших правила сдачи в аренду помещений, надо полагать, не существовало. 23 мая 1723 г. Я. X. Бахмеотов подал князю доношение, в котором уточнял цену за каждую казарму, просил со своей стороны повлиять на М. М. Голицына, который должен был прислать в гарнизонную канцелярию указ, касающийся условий аренды, а также уточнял, будет ли сохраняться подобная практика использования крепостных помещений[209 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 379. Л. 180–181 об.]. На протяжении лета-осени 1723 г. Я. X. Бахмеотов не мог добиться окончательного решения ни от А. Д. Меншикова, ни от М. М. Голицына. Ему оставалось лишь опрашивать купцов, взявших казармы в аренду, насколько комфортны для них предложенные условия[210 - Стоит отметить, что для купцов аренда казарм в безопасной Санкт-Петербургской крепости выглядела не слишком привлекательной. В качестве одного из минусов данного предложения они называли невозможность свободно попасть в помещения тогда, когда им было нужно. См.: РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 379. Л. 192–192 об., 225–226 об.].
В итоге стараниями коменданта, пославшего не одно письмо к своим начальникам, суммы сборов были установлены. Впоследствии Я. X. Бахмеотов включил данную статью в доходные ведомости[211 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 380. Л. 96–96 об.].
Наравне с хозяйственными вопросами Я. X. Бахмеотов извещал А. Д. Меншикова о любых изменениях в численности и составе подчиненного ему гарнизона: приеме рекрутов, увольнении больных и престарелых, поиске беглых и т. д.[212 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 162. Л. 125. Такое же А. Д. Меншиков требовал отB. И. Порошина (в Кроншлоте) и И. Д. Бухгольца (в Шлиссельбурге). См.: РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 162. Л. 126. Я. X. Бахмеотов регулярно посылал князю ведомости с численными показателями.] Александр Данилович, в свою очередь, посылал к коменданту людей, которых по разным причинам следовало включить в состав петербургских полков или, наоборот, перевести на службу в другие подразделения[213 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. НО. Л. 2–2 об., 157, 248; Д. 130. Л. 184; Д. 148. Л. 59, 142; Д. 162. Л. 13, 79, 81 об., 112, 128.]. 10 ноября 1718 г. А. Д. Меншиков указывал Я. X. Бахмеотову определить в Белозерский или какой-либо другой гарнизонный полк в ундер-офицерских чинах нескольких офицеров, которые были уволены из армейских частей за пьянство[214 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. НО. Л. 116.]. Он выдавал коменданту ордеры на отставку военнослужащих по причине возраста, болезни или увечий, ходатайствовал об отпуске их домой для «нужных дел»[215 - Иногда князь требовал от коменданта провести освидетельствование. См.: РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 109. Л. 94; Д. 131. Л. 34; Д. 162. Л. 17; Д. 191. Л. НО об.]. Я. X. Бахмеотов также запрашивал у А. Д. Меншикова разрешение осуществить кадровые изменения. В конце января 1724 г. комендант передавал князю челобитье Зезевитова полку капитана
A. Исакова, который написал, что «…служит он Его царскому величеству в Санкт-Питербурском гварнизоне в помянутом полку капитаном, а в доме своем в отпуску не бывал с [1] 710 году, а деревни его в Галицком и в Новгородском уезде. А ныне де уведомился он чрез письма, что деревня ево в Галицком уезде без остатку раззарена, побежали дворовые ево люди, и ныне пойманы и содержатца в Москве и на Вологде, а за делом ходить некому»[216 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 378. Л. 106–106 об.]. Капитан просил отпустить его в деревни до 1 августа 1721 г., чтобы ему окончательно не разориться.
Я. X. Бахмеотов уведомлял князя о случившихся в Санкт-Петербургской крепости кригсрехтах над подчиненными ему солдатами и офицерами, отправлял мемории для вынесения вердиктов. Особую категорию подсудимых составляли беглые, на поиск которых уходило много сил и времени. А. Д. Меншиков, со своей стороны, отсылал к коменданту обвиняемых, над которыми стоило учинить приговоры[217 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. ПО. Л. 2–2 об., 144; Д. 130. Л. 40, 52, 113; Д. 162. Л. 46, 68 об., 185, 186 об.]. При необходимости он указывал передать дела в иные инстанции (например, в Юстиц-коллегию) или переназначить следователей[218 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 130. Л. 63.]. Кроме того, из состава гарнизона по ордеру А. Д. Меншикова и распоряжению Я. X. Бахмеотова могли выбираться участники военных судов (презусы и асессоры), назначаться вооруженные отряды для конвоирования или обеспечения безопасности по ходу процесса[219 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. ПО. Л. 180, 188.]. 30 ноября 1718 г. через кригс-комиссара князя Я. Ф. Долгорукова лейб-гвардии майор М. Я. Волков требовал для учинения кригсрехта презуса и асессоров. В связи с этим А. Д. Меншиков писал коменданту: «…изволили вы приказать, потребных к тому людей вместо брегадира полковника и за полковника старшего подполковника и других чинов выбрав, оной держать как Его царского величества Военной артикул повелевает»[220 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. ПО. Л. 180.].
Полки Санкт-Петербургского гарнизона привлекались к различным мероприятиям на территории города и Санкт-Петербургской губернии. Как правило, комендант отчитывался перед А. Д. Меншиковым о передвижениях своих подопечных или обсуждал с ним возможные миссии. А. Д. Меншиков, получая от Я. X. Бахмеотова отчеты о службах, выполняемых гарнизонными подразделениями, нередко сам давал им поручения. 7 января 1719 г. ландрихтер Ф. С. Мануков уведомлял князя: «Вашему светлейшеству доношу, сего генваря 6 числа посланной от полковника и санкт-питербурхского каменданта господина Бахмеотова капитан Кашинцов в Шлютельбурх прибыл и объявил собранных сто десять подвод против указу сполна»[221 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 743. Л. 25.]. В некоторых случаях задания, полученные от А. Д. Меншикова, находились на грани служебных и частных, княжеских, интересов. Например, 15 июля 1718 г. Александр Данилович сообщал коменданту, что капитан И. Крюков, определенный в ижорские имения князя для работ по заготовке леса и дров на продажу, приготовил часть материалов. Поэтому он просил Я. X. Бахмеотова отправить к капитану «доброго» офицера, которому полагалось имеющийся лес и дрова переписать, без указа не продавать и обо всем обстоятельно уведомить[222 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 109. Л. 107.]. Комендант также должен был допросить И. Крюкова о том, где и в каком году он рубил лес, сколько и кому из срубленного продал[223 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 109. Л. 107, 121–121 об.]. По итогам допросов и ревизии Я. X. Бахмеотов посылал А. Д. Меншикову расспросные речи И. Крюкова, сокрушаясь о задержке отправки по причине болезни капитана[224 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 378. Л. 22–26 об.].
Служащие Санкт-Петербургского гарнизона привлекались к широкому кругу управленческих задач. По указу генерал-губернатора им поручалось осуществлять поставку корабельных дубовых лесов из Казани, заготавливать дрова, вырубать леса на Выборгской стороне, доставлять из Астрахани в Санкт-Петербург птиц и зверей, строить каналы и резиденции государя, сопровождать отправляющихся с различными миссиями государственных деятелей и многое другое[225 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 109. Л. 46, 111, 121; Д. ПО. Л. 17, 247–247 об.;Д. 130. Л. 7, 119, 132. 135, 194, 236, 294 об., 321; Д. 148. Л. 135; Д. 162. Л. 66, 78, 210, 279 об.; Д. 180. Л. 284 об.]. 24 августа 1718 г. А. Д. Меншиков передавал коменданту указ царя, согласно которому тот должен был выбрать от каждого полка по человеку для курьерской службы[226 - В дальнейшем он не раз писал коменданту о необходимости выделить людей для отправления почты. См.: РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 130. Л. 247.]. Новоиспеченным курьерам полагалось по требованию вице-губернатора С. Т. Клокачева передавать письма от государыни, должностных лиц Посольской канцелярии (Г. И. Головкина, П. П. Шафирова) и «из других знатных»[227 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 109. Л. 209 об.]. Иногда Я. X. Бахмеотову полагалось определить солдат и офицеров для выполнения весьма щепетильных миссий. В частности, комендант отвечал за переправку из Санкт-Петербурга в Ригу «великанов», диковинных людей огромного роста, по общеевропейской традиции (наравне с карликами и шутами) державшихся в свите монархов на потеху. Для лучшего сопровождения А. Д. Меншиков указывал к ним приставить «доброго» поручика, который «…за ними смотрел накрепко, чтоб они, будучи в пути, ни малой никому обиды чинить отнюдь не дерзали»[228 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 109. Л. 126.]. Наиболее ответственной службой Санкт-Петербургского гарнизона, не обходившейся без вмешательства князя, являлось несение караулов около государственных учреждений, резиденций Петра I и членов его семьи, домов государственных деятелей, квартир иностранных послов[229 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 109. Л. 121; Д. ПО. Л. 247; Д. 130. Л. 7; Д. 162. Л. 112, 142 об.; Д. 180. Л. 289; Д. 379. Л. 240–243, 297–311, 373–386 об.; Д. 518. Л. 110–110 об. и др.].
По ходу участия Санкт-Петербургского гарнизона в различных столичных мероприятиях и проектах, коменданту как его непосредственному начальнику приходилось контактировать с другими государственными институциями. А. Д. Меншиков играл роль посредника-медиатора, связывая Я. X. Бахмеотова с нужными ему руководителями учреждений, или выступал «третейским судьей» в решении конфликтных ситуаций, как правило, вызванных пересечением интересов и полномочий местных органов власти. Например, через посредничество князя Я. X. Бахмеотов выстраивал отношения с обер-комиссаром Канцелярии городовых дел У. А. Сенявиным, от которого пытался получить строительные материалы и прочие ресурсы[230 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 518. Л. 228 об.]. Обер-комиссар также пользовался своими деловыми связями с А. Д. Меншиковым, стремясь привлечь гарнизонных солдат и офицеров к осуществлению строительных работ на территории Санкт-Петербургской губернии[231 - РГАДА. Ф. 9. Оп. 4. Отд. II. Д. 57. Л. 270–270 об.; Д. 50. Л. 225–225 об.].
Наиболее тесные контакты в системе управления Санкт-Петербургом сложились между комендантом Я. X. Бахмеотовым и генерал-полицеймейстером А. М. Девиером. Во-первых, А. М. Девиер и Я. X. Бахмеотов должны были взаимодействовать в процессе распределения постоя по территории города[232 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 378. Л. 328–329 об.]. Генерал-полицеймейстер, как правило, обращался к А. Д. Меншикову, стремясь передать указание коменданту (хотя он поддерживал с ним связи и напрямую). 12 декабря 1718 г. князь поручал Я. X. Бахмеотову учинить ведомость драгунам, солдатам и пр., «…где, кто и у кого имяны, и поскольку человек на дворе поставлены» и стращал его, «…дабы, когда от него господина генерала-полицеймейстера будут кому отводить квартиры, что в том ему санкт-питербурхские обыватели были послушны, и кто, где поставлен будет на квартире, дабы сверх того для своих прихотей бес ево ведома своевольно не прибавливали и не уставливали»[233 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. НО. Л. 219–219 об.]. Стоит отметить, что комендант с поставленной задачей справился плохо – проблемы с распределением постоев продолжились. 20 декабря того же года А. М. Девиер сообщал: «Сего декабря 20 дня изволил ваша милость писать ко мне, дабы на Санкт-Питербурхском острову двор кузнеца Аникиева от постою уволить, понеже де тот двор по отводу санкт-питербурского каменданта, господина Бахмеотова отдан в квартиру Тайных розыскных дел канцеляристом. На которое ваше письмо сим ответствую. Имянным Его царского величества указом повелено у санкт-питербурхских жителей ставить во дворех служивых людей без обходно, и для того взяты от каманд ведомости людем, и камендант, господин Бахмеотов, в ведомости своей того двора в квартиру помянутым канцеляристом не показал, а хотя и показал, но тогда имел он квартиры в своей каманде и по своей воли кому хотел, тому и отводил. А я того чинить не имею, понеже служивым людем в квартирах за многолюдством есть немалое утеснение, а оным канцеляристом можно и в наемных квартирах стоять, а такого позволения от нас нет, чтоб з дворов от хозяев ссылать стояльцов, и кого они похотят пустить жить, то в их воле, а наша повинность токмо кому квартиры показать»[234 - РГАДА. Ф. 16. Оп. 1. Д. 393. Л. 1–2 об.].
Во-вторых, из солдат Санкт-Петербургского гарнизона формировался штат полицейских служащих – нехватка людей являлась наиострейшей проблемой петровской полиции[235 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 378. Л. 260–260 об.; Д. 379. Л. 362–362 об., 365–365 об.]. Я. X. Бахмеотов проводил «экзерциции» для гарнизонных служащих, в том числе приказывал задействовать в них новоиспеченных полицейских. А. Д. Меншиков военные обучения поддерживал[236 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 557. Л. 274.]. Однако подобная инициатива не пришлась по вкусу А. М. Девиеру, поскольку последнему было невыгодно отпускать от себя обученных и уже знакомых местному населению служащих. Для разрешения конфликта интересов генерал-полицеймейстер обращался к А. Д. Меншикову: «…обретающияся при полицымейстерских делах ундер-афицеры и рядовыя, присланные из гварнизона, определены по сотням, которым даны каждому в команду соцкие и десяцкие, и за ними имеют они смотрение в караулах, в чистотах и в показании отводом квартир и в других полицейских делах, в чем в таких смотрениях они уже и заобыкли и жителей знают, и сверх того обретаютца при смотрении работ, на что надлежит всегда иметь им о управлении наложенного на них дела реопортование. И ежели же им для одной токмо эксерциции иметь полично перемену, то будет немалая между тем камфузия и не исправление и остоновка, и жителей скоро познать не могут. А когда один будет знать беспеременно, то всегда будет лучее и исправнее, и на одном будет спрашиватца. Но хотя те ундер-афицеры и салдаты и у нас имеют эксерцицию и смотрение за ими чинитца как и в полках»[237 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 557. Л. 274–275.]. В итоге А. М. Девиер предлагал князю указать Я. X. Бахмеотову заранее объявлять сборы на «экзерциции» – тогда он сможет обеспечить бесперебойность полицеймейстерской службы.
В-третьих, солдаты и офицеры, служившие под руководством Я. X. Бахмеотова, нередко становились участниками судебно-следственных разбирательств, проводимых Полицеймейстерской канцелярией. В июне 1722 г. случился инцидент между Белозерского полку капралом С. Лосевым, Котловского полку солдатом С. Чуйковым и капралом И. Богдановым, с одной стороны, и служащими при Полицеймейстерской канцелярии капитаном Ф. Ушаковым, майором Рыкуновым и капитаном Улыбышевым – с другой. Я. X. Бахмеотов 28 октября 1723 г. жаловался А. Д. Меншикову, что находящихся в Полицеймейстерской канцелярии С. Лосева, С. Чуйкова и И. Богданова без вины били кошками или батогами до такой степени, что нанесли им значительные увечья[238 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 379. Л. 321–324 об.]. Комендант, возмущенный происшествием, обратился к А. М. Девиеру за разъяснениями, но какого-либо ответа от него не получил и решил прибегнуть к помощи генерал-губернатора. Введенный в курс дела А. Д. Меншиков сразу же отписал генерал-полицеймейстеру, который незамедлительно начал следствие и по его итогам отослал князю копию дела для вынесения вердикта[239 - РГААДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 557. Л. 273–273 об., 276–325.].
Помимо вопросов, связанных с внутренней жизнью Санкт-Петербургской крепости, комендант был задействован в общегородских мероприятиях и проектах. Безотлучно находясь в городе, он участвовал в организации различных светских увеселений – торжественных церемоний, приемов иностранных посольств, передвижений государя и его семьи и т. д.[240 - Зелов Д. Д. Официальные светские праздники как явление русской культуры конца XVII – первой половины XVIII века: История триумфов и фейерверков от Петра Великого до его дочери Елизаветы. М., 2021.] Как было указано в предыдущей главе, одной из наиболее ответственных задач, относившейся к сфере компетенции Я. X. Бахмеотова, являлось общее руководство стрельбой из пушек со стен Санкт-Петербургской фортификации во время въезда в город или отъезда из него важных персон[241 - Не только Я. X. Бахмеотов, но и его предшественники.]. Это поистине захватывающее действо четко регламентировалось. Яков Хрисанфович, как правило, дотошно узнавал детали процессии у генерал-губернатора, которому также полагалось следить за исполнением всех надлежащих ритуалов, расспрашивал его о количестве залпов, ходе мероприятий, времени проведения и желаниях государя (государыни)[242 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 518. Л. 102.]. В отсутствие А. Д. Меншикова в городе комендант детально извещал его о ходе и подготовке церемоний. Например, в корреспонденции Я. X. Бахмеотова обнаруживаются интересные детали относительно приема в Санкт-Петербурге в 1720 г. польского посла С. Хоментовского[243 - Данные сведения, в свою очередь, помогают более детально взглянуть на обстоятельства приезда С. Хоментовского в Россию, до этого по преимуществу реконструируемые на основе известного дневника участника посольства. См.: Беспятых Ю. Н. Петербург в иностранных описаниях. Л., 1991.].
Посольство, возглавляемое мазовецким воеводой С. Хоментовским прибыло в Санкт-Петербург 23 февраля 1720 г. Как отмечают историки, посол должен был отправиться в российскую столицу раньше, однако, понимая обреченность миссии – целью приезда было решение территориальных (курляндский вопрос, возвращение Лифляндии и Риги) и финансовых претензий Польши после Аландского конгресса, -С. Хоментовский поездку откладывал[244 - Агеева О. Г. Дипломатический церемониал императорской России. XVIII в. М., 2012. С. 168; Беспятых Ю. Н. Петербург в иностранных описаниях. Л., 1991. С. 24; Bazylow L. Polacy w Petersburgu. Wroclaw, 1984. S. 26–32; Kosinska U. Sondaz czy prowokacja? Sprawa Lehmanna z 1721 r., czyli о rzekomych planach rozbiorowych Augusta II. Warzsawa, 2009. S. 26; Kosinska U. Rokowania Augusta II ze Szwecj^ w latach 1719–1720 // Kwartalnik Historyczny. 2004. Rocz. CXI. No. 3. S. 29; Kosinska U. Rosja wobec sejmu jesiennego 1720 r. //Kwartalnik Historyczny. 2004. Rocz. CXI. No. 1. S. 46–48; Prochaska A. Poselstwo polskie w Petersburgu (1720 r.) // “Charitas”. Ksiega zbiorowa wydana na rzecz r[zymsko] k [atolickiego] Towarzystwa Dobroczynnosci przy kosciele Swietej Katarzyny w Petersburgu. SPb., 1894. S. 368; Wilk M. Polacy о Piotrze I // Slavia Orientalis. 1966. Rocz. 15. No. 3. S. 374.]. А. Д. Меншиков на момент прибытия польской делегации в Санкт-Петербурге отсутствовал, но старался держать ситуацию под контролем, во-первых, из-за важности события, во-вторых, из-за присутствия в то время в столице государя и государыни. Отрывочные сведения о приеме С. Хоментовского сохранились среди корреспонденции нескольких государственных деятелей, находившихся в то время в окружении Петра I или занимавших руководящие должности в системе управления Санкт-Петербурга. Одновременно о приеме польского посла князю писали генерал-полицеймейстер А. М. Девиер, адмирал Ф. М. Апраксин, кабинет-секретарь А. В. Макаров, а также санкт-петербургский комендант Я. X. Бахмеотов.
В первый раз сообщая А. Д. Меншикову сведения о приезде С. Хоментовского, Я. X. Бахмеотов делал акцент на участии подчиненного ему гарнизона в церемонии приема посольства. Он описывал, что по указу царя из Военной коллегии от 20 февраля 1720 г. полагалось во время проезда посла мимо Санкт-Петербургской крепости отдавать ему честь пушечной стрельбой из тридцати одной пушки[245 - РГАДА. Ф. 198. On. 1. Д. 378. Л. 99 об.-100.]. Встречали С. Хоментовского и его свиту на восемнадцати каретах, в том числе использовался экипаж А. Д. Меншикова с лучшими возницами[246 - РГАДА. Ф. 198. On. 1. Д. 352. Л. 235; Д. 737. Л. 197, 199.]. Местом жительства посла был избран дом детей царевича Алексея. В течение первых месяцев (до мая) С. Хоментовский имел несколько аудиенций у Петра I и в Посольской канцелярии[247 - Пребывая в Санкт-Петербурге, С. Хоментовский не только решал дипломатические задачи, но и пытался заступиться за своих соотечественников. См.: РГАДА. Ф. 9. Оп. 3. Отд. II. Д. 49. Л. 22–22 об.; Ф. 248. Оп. 20. Д. 1/1273. Л. 357–358 об.]. Я. X. Бахмеотов передавал А. Д. Меншикову 24 мая радостные известия: «…польской посол в Посольской канцелярии был на аудиенции уже три раза, и, как уже слышим, что милостию Божиею все строитца по желанию Его царского величества изрядно, а что впредь будет чинитца, о том вашему светлейшеству, премилостивому государю доносить буду»[248 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 378. Л. 51 об., 54.]. 9 июля комендант после очередной аудиенции С. Хоментовского посылал князю письменную реляцию для уведомления[249 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 378. Л. 73 об.-74.].
Во время четырехмесячного пребывания посольства С. Хоментовского в Санкт-Петербурге ему устроили настоящую экскурсию по территории столицы и близлежащим окрестностям. Согласно «Краткому описанию города Петербурга и пребывания в нем польского посольства в 1720 году», написанному членом польской делегации, посол посетил полотняную фабрику, Васильевский остров, территорию подведомственной Я. X. Бахмеотову Санкт-Петербургской крепости, Кунсткамеру, Адмиралтейство, здание Коллегий, Кронштадт и Кроншлот[250 - Беспятых Ю. Н. Петербург Петра I в иностранных описаниях. Л., 1991. С. 140–141,143-152; Походный журнал 1720 года. СПб., 1885. С. 19, 22–24; РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 352. Л. 259; Д. 378. Л. 69, 77.; Д. 557. Л. 37–37 об.; Д. 737. Л. 228; WilkM. Polacy о Piotrze I // Slavia Orientalis. 1966. Rocz. 15. No. 3. S. 370–371.], остров Котлин, Ораниенбаум, Петергоф и Стрельну. Везде ему оказывался достойный прием[251 - 16 июня Ф. M. Апраксин описывал передвижения Петра и его свиты: «…отсюды отлучились на Котлин остров 9 дня сего настоящаго месяца, и 11 Его величествие изволил со всеми кушать на гаване, а 12 со всеми министрами и с послом польским и швецким генерал-адъютантом изволил кушать у меня на каробле Ангоуте, и по обеде со всеми же изволил посещать карабль Лесной. И, показав иностранным особам на Котлине острове всякое строение, 13 числа переехали в Ранибом, и тамо на другой день изволил в доме вашей светлости кушать и потом изволил во весь день гулять по каналам, а на другой день Его величествие, взяв с собою посла польского, изволил ехать в Питергоф и оттуды, отпустя оного посла, изволит тамо пробыть несколько дней ради пользования здравия своего, а нас так же и протчих уволил всех в Санкт-Питербурх». См.: РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 352. Л. 259–259 об.]. Члены посольства стали участниками важных государственных праздников и светских мероприятий – дня рождения и тезоименитства Петра, годовщины Полтавской баталии, свадьбы генерал-адъютанта А. И. Румянцева и похорон князя Я. Ф. Долгорукова[252 - Беспятых Ю. Н. Петербург Петра I в иностранных описаниях. Л., 1991. С. 145, 153–155, 157; РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 352. Л. 249; Д. 557. Л. 29–29 об., 37–37 об., 39–39 об.]. Комендант старался своевременно докладывать князю о известных ему передвижениях польской делегации[253 - Я. X. Бахмеотов писал: «Сего числа Его царское величество высокою своею особою со всеми господами министры изволил путь свои восприять х Кроншлоту, между которыми и господин польской посол, и за ними последовали все буяры и будет эксерциция на галерах, а в котором числе о том не известно». А 30 июня он извещал: «И оттуды возвратился и прибыл в Санкт-Питербурх щасливо прошедшаго июня 22 числа, а что, государь, того ж июня 16 дня писал я до вашей высококняжеской светлости о прибытии Его величества и в том есть не без вины нашей, понеже Его царское величество того числа еще не прибыл, а прибыл в то время токмо польской посол, которому з города и честь пушечною стрельбою отдана». См.: РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 378. Л. 69, 71 об.].
Кроме того, в один из дней С. Хоментовский гостил в доме А. Д. Меншикова в Ораниенбауме, который произвел приятное впечатление на всех визитеров. Я. X. Бахмеотов не мог не отметить лестные отзывы: «…а ныне, как мы известны, что с Котлина острова изволил быть в Аранинбоуме и в доме вашей светлости, и начевали там все особы две ночи и между теми и господин польской посол. И розговоры в доме вашей светлости имели все изрядные и похвальные, да и всегда Его величество с ним, господином послом, обходитца благоприатно и во всякие компании всегда берет с собою, и всякие заводы и протчие вещи показывает не скрытно»[254 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 378. Л. 77.]. 23 июля посол со всем посольством отбыл из Санкт-Петербурга, о чем Я. X. Бахмеотов не преминул уведомить А. Д. Меншикова: «…польской полномочной посол, воевода мазовецкой господин Хоментовский из Санкт-Питербурха поехал сего июля 23 числа»[255 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 378. Л. 80 об.]. 21 августа 1720 г. С. Хоментовский покинул пределы Российского государства[256 - С территории России С. Хоментовский выехал в августе 1720 г. 21-го числа он писал в личном письме Петру I: «Отпуская господина полковника Велияминова и выезжая из государств Вашего Царского Величества, инако не надлежит мне, токмо при изображении униженной моей венерации, возблагодарит[ь] Вашему Царскому Величеству за всемилостивые благодеяния, что сим моим нижайшим, творя писание, пребываю». См.: РГАДА. Ф. 9. Оп. 3. Отд. II. Д. 49. Л. 20–20 об.].
Полномочия Я. X. Бахмеотова на территории Санкт-Петербурга и его округи не сводились исключительно к передаче информации князю. Комендант был занят в реализации строительных и ремонтных проектов, проводившихся за казенный счет. Так, 22 мая 1722 г. Я. X. Бахмеотов подал доношение князю М. М. Голицыну, сообщив, «…яко от Летняго Его императорского величества дому до речки Славянки большею водою бечевник попортило, о чем писал к нему господин генерал-полицемейстер и брегадир Девиэр, требуя оного о исправлении»[257 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 518. Л. 96.]. Поскольку ремонтные работы на бечевнике относились к сфере компетенции Михаила Михайловича, комендант выполнял посредническую роль, передавая материалы и средства, полученные по требованию М. М. Голицына от А. Д. Меншикова[258 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 518. Л. 217.]. В январе 1723 г. Я. X. Бахмеотов также докладывал о необходимости починки Большого красного моста на территории Санкт-Петербургской крепости[259 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 518. Л. 228 об.].
Одним из наиболее крупных строительных проектов, курируемых Я. X. Бахмеотовым, являлись мероприятия по возведению комплекса ветряных мельниц в разных частях Санкт-Петербурга. Указание построить ветряные мельницы комендант получил от А. Д. Меншикова сразу же после завершения основной части строительства постоялых дворов на Московской и Санкт-Петербургской сторонах (1722–1723 гг.), в рамках которого Яков Хрисанфович успешно себя проявил. В новом проекте Я. X. Бахмеотову следовало применить все свои знания, умения и опыт руководства, чтобы выбрать место, подходящее под возведение мельниц, организовать строительные работы и после этого сдать их внаем с наибольшей пользой для казны.
В июне 1723 г. началось строительство ветряных мельниц[260 - О строительстве мельниц в Санкт-Петербурге см.: Анисимов Е. В. Юный град. Петербург времен Петра Великого. СПб., 2003. С. 124–127.] на р. Малиновке[261 - Мельница на р. Малиновке была заложена первой. После ее закладки по указу А. Д. Меншикова Я. X. Бахмеотов должен был отправить мастера В. Ковенговена, осуществлявшего строительство, для поиска удобных мест, где можно было установить другие подобные мельницы. См.: РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 191. Л. 186 об.], на левом берегу р. Охты и на территории Санкт-Петербургской крепости. Я. X. Бахмеотов передавал князю результаты своей встречи с мельничным мастером В. Ковенговеном[262 - В. Ковенговен уже имел опыт строительства мельниц в Санкт-Петербурге. См.: РГАДА. Ф. 9. Оп. 3. Отд. II. Д. 46. Л. 16.], которому поручалось возглавить строительные работы: было определено место строительства[263 - Для осмотра места с мастером В. Ковенговеном комендант посылал комиссара, а также ездил самостоятельно.] (А. Д. Меншикову посылалась карта), необходимые материалы и количество работников. Причем комендант считал требования В. Ковенговена дополнительно нанять плотников необоснованными, предлагая князю управиться имеющимися силами[264 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 379. С. 185–187, 189.]. Несмотря на то что А. Д. Меншиков по требованию Главного магистрата, нуждавшегося в новых мельницах, велел Я. X. Бахмеотову строить «с поспешанием», комендант практически сразу же столкнулся с проблемами, значительно замедлившими процесс. Начало возведения мельницы в Санкт-Петербургской крепости откладывалось; мельница на р. Охте также не строилась, потому что не нашлось нужного количества припасов. Кроме того, члены Правительствующего Сената никак не могли принять решения по доношению Якова Хрисанфовича о выдаче средств на осуществление всех работ (в данном случае потребовалось вмешательство князя)[265 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 191. Л. 182–183 об.; Д. 379. Л. 188–188 об. В результате деньги постановили взять из средств, получаемых с постоялых дворов.], а Адмиралтейство и Канцелярия от строений, куда комендант обращался за необходимыми материалами, не давали никаких ответов без выполнения всех условий – внесения на счет денежных сумм, ордера от А. Д. Меншикова и указа государя[266 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 379. 190–191 об., 193–193 об., 197.]. Комендант сталкивался с некоторым противодействием мельничного мастера В. Ковенговена, который, как утверждал Я. X. Бахмеотов, не предоставлял ему необходимых сведений, прежде всего, о цене материалов и затратах на строительство[267 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 379. Л. 197.]. И наконец, выпавшие на долю Якова Хрисанфовича проблемы усугублялись постоянными требованиями А. Д. Меншикова ускорить процесс[268 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 191. Л. 186 об., 194.].
После долгих бюрократических проволочек первой была запущена мельница на р. Малиновке, поскольку с ее строительством и обеспечением материалами возникало меньше всего проблем – 8 августа 1723 г. комендант сообщил князю о начале ее работы[269 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 379. Л. 197–198 об.]. Строительство ветряных мельниц на р. Охте и в Санкт-Петербургской крепости продолжалось. 29 сентября Я. X. Бахмеотов отчитывался перед А. Д. Меншиковым относительно хода строительства мельницы на территории Санкт-Петербургской фортификации[270 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 379. Л. 242.]. Чуть позже он посылал ему ведомость «Коликое число к новопостроенной на Санкт-Питербурской крепости ветреной мельнице из Санкт-Питербурской гварнизонной канцелярии на покупки и за взятые из Адмиралтейства материалы из собранных от постоялых домов денег в росходе, и что надлежит додать наемным плотником за работу и за издержанные леса мельничного мастера Вилима Ковеновена ныне заплатить, явствует ниже сего»[271 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 379. Л. 270–272 об.]. Мельница на Трубецком раскате (бастионе)[272 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 379. Л. 284.] была закончена к 10 февраля 1724 г.[273 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 380. Л. 62.] Качество ее постройки оставляло желать лучшего – она нуждалась в доработке[274 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 380. Л. 97–98.]. В дальнейшем, как отмечает Е. В. Анисимов, на территории Санкт-Петербургской крепости В. Ковенговеном было построено еще несколько мучных мельниц[275 - Анисимов Е. В. Юный град. Петербург времен Петра Великого. СПб., 2003. С. 150–151.].
24 июля 1724 г. Я. X. Бахмеотов радостно сообщал А. Д. Меншикову, что мельницы на р. Малиновке и на территории Санкт-Петербургской крепости благополучно начали молоть[276 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 380. Л. 120.]. Теперь наступал новый этап в деятельности коменданта. Ему предписывалось все ветряные мельницы, уже построенные или еще строящиеся, сдать внаем. Имея подобный опыт работы, комендант с поручением справился. Ведомости с учетом собранных с мельниц денежных средств Я. X. Бахмеотов регулярно отправлял А. Д. Меншикову в течение следующих месяцев 1724 г.[277 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 380. Л. 309, 320, 349, 376.]
Таким образом, анализ взаимодействия Я. X. Бахмеотова и А. Д. Меншикова на государственной службе позволяет прийти к выводу о доминировании в их отношениях принципа прямой подчиненности. Деятельность коменданта находилась под контролем Александра Даниловича, перед которым ему следовало отчитываться в каждом более или менее значительном шаге. Князь отдавал указы Я. X. Бахмеотову, следил за их выполнением, запрашивал статистические данные о штате и хозяйственном обеспечении Санкт-Петербургской крепости. При контактах Якова Хрисанфовича с другими государственными учреждениями он выступал в роли посредника или покровителя, способствуя урегулированию конфликтов. При этом коменданту нельзя в полной мере отказать в самостоятельности при принятии управленческих решений. Он был способен не только исполнять указы А. Д. Меншикова или иных вышестоящих инстанций (Военной коллегии, обер-коменданта Р. В. Брюса, военного руководителя Санкт-Петербурга М. М. Голицына и др.), но и творчески организовывать процесс строительства, хозяйственного управления, ведения суда и следствия и т. д. Исполнительность, дотошность и организаторские способности Я. X. Бахмеотова позволили ему зарекомендовать себя в глазах А. Д. Меншикова как надежного и верного подчиненного, что, в свою очередь, способствовало укреплению их связей и являлось для коменданта значительным ресурсом к продвижению по государственной службе.
Глава 3
Была ли жизнь без мундира?
Деловые связи санкт-петербургского коменданта Я. X. Бахмеотова и генерал-губернатора А. Д. Меншикова, как было показано ранее, отличались продолжительностью и интенсивностью. Это был эффективный тандем генерал-губернатора и коменданта ключевого военно-административного центра Санкт-Петербургской губернии, коим являлся Санкт-Петербург. По долгу службы Я. X. Бахмеотов часто навещал А. Д. Меншикова в его дворце на Васильевском острове, проводил с ним многие часы, решая насущные проблемы Санкт-Петербургского гарнизона и обговаривая этапы реализации различных проектов на территории города. Кроме того, комендант являлся постоянным корреспондентом князя в дни его отсутствия или присутствия в столице – среди материалов Походной и домовой канцелярии А. Д. Меншикова сохранился объемный комплекс его доношений и писем за 1717–1725 гг. Учитывая тесные деловые отношения, сложившиеся между Я. X. Бахмеотовым и А. Д. Меншиковым по мере их участия в системе управления Санкт-Петербургом, было бы оправдано поставить следующий вопрос: появилась ли за время делового сотрудничества коменданта и генерал-губернатора почва для установления личных связей?
Главной трудностью, не позволяющей в полной мере оценить внеслужебные отношения Я. X. Бахмеотова и А. Д. Меншикова, стоит признать специфику исторических источников, имеющихся в распоряжении у исследователей. Основной массив корреспонденции Я. X. Бахмеотова к А. Д. Меншикову составляют доношения и частные письма делового характера, по своей структуре очень похожие на первые как по содержанию, так и по формуляру[278 - На наш взгляд, это связано с характером их деловых и личных связей.]. Оба вида документов отложились в едином комплексе, так скажем, неофициальной переписки. Как отмечает Д. А. Редин, «определяясь с понятием частной переписки, мы в первую очередь (и совершенно справедливо) отмечаем ее неофициальный, неформальный характер. Это качество, позволяющее провести основной водораздел, отграничивающий частное/неофициальное письмо от делового/официального. Частное письмо идет от индивида к индивиду, минуя государственные, публичные по своей сути, официальные структуры»[279 - Редин Д. А. Русская административная история Нового времени и неофициальная переписка: источниковедческие размышления // Новое прошлое. 2019. № 3. С. 122.]. В документообороте между Я. X. Бахмеотовым и А. Д. Меншиковым доношения, официальные делопроизводственные документы, проходили тот же путь до адресата, что и письма. Комендант при этом текст и писем, и доношений самостоятельно не писал, а надиктовывал служащему Санкт-Петербургской гарнизонной канцелярии и заверял своей подписью.
Формуляр доношений и частных писем, посланных Я. X. Бахмеотовым князю, практически идентичен. Доношения соответствовали традиционному для того времени формуляру: вначале шло обращение к А. Д. Меншикову с использованием всех должностей и титулов; затем основной текст, состоящий из упоминания посланных ранее указов и повелений, а также перечисления того, что было по ним сделано или установлено; заключали документ обращение к князю с просьбой дать указ по поднятому вопросу, именование себя, дата и место написания. Визуально письма коменданта несколько отличались от доношений – они были написаны более свободно и размашисто. Однако в процессе анализа текста обнаруживается, что в 1717–1718 гг. письма коменданта начинались аналогично официальным доношениям и в основной части также повторяли их структуру[280 - Полонский Д. Г. Эпистолярный этикет во взаимоотношениях А. Д. Меншикова с представителями властной элиты Петровской эпохи // Меншиковские чтения – 2011. СПб., 2011. Вып. 2 (9). С. 75–93.]. Как правило, Я. X. Бахмеотов обращался к А. Д. Меншикову следующим образом: «Светлейший Римского и Российского государств князь и герцох Ижерский, высокоповелительный господин генерал-фельтмаршал и кавалер, и генерал-губернатор Санкт-Питербурхский, и Военного коллегиума президент, милостивейший государь Александр Данилович Меншиков»[281 - Например: РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 378. Л. 45.]. Со временем вступительная часть писем Я. X. Бахмеотова сократилась до привычного исследовательскому взгляду «Светлейший князь, премилостивейший государь», но содержательная родственность с доношениями сохранилась. Заканчивал письмо комендант всегда одинаково – «вашей высококняжеской светлости, милостивого государя всенижайший раб».
Язык частных писем Я. X. Бахмеотова также похож на деловые, официальные бумаги[282 - Тем более что комендант сам письма не писал.]. Словесные выражения лояльности, преданности и эмоциональные формулы вежливости, характерные для частной корреспонденции XVIII в.[283 - Полонский Д. Г. Эпистолярный этикет во взаимоотношениях А. Д. Меншикова с представителями властной элиты Петровской эпохи // Меншиковские чтения – 2011. СПб., 2011. Вып. 2 (9). С. 75–93; Lavrinovich М. От любви к разочарованию: выражение чувств как средство коммуникации между графом Н. П. Шереметевым и А. Ф. Малиновским (1800-е годы) // Avtobiografija. 2021. Vol. 10. Р. 175–198.], встречаются в них крайне редко, а если и появляются, то отличаются однообразием и сухостью. В основном все сводится к комплиментарным благодарностям за получение ответного письма или ордера, констатации «рабской» готовности исполнить любое повеление А. Д. Меншикова[284 - Например: РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 378. Л. 59–61.] и «всенижайшими» просьбами о покровительстве в вопросах государственной службы[285 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 379. Л. 66.]. Иногда можно обнаружить редкие поздравления с праздниками или знаменательными событиями – разгромом неприятеля, Воскресением Христовым, днем Александра Невского, Новым годом и т. д.[286 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 378. Л. 82–83 об.; Д. 379. Л. 5–5 об., 111–112 об., 122–123 об., 166–168 об.] В отдельных случаях Я. X. Бахмеотов сообщал Александру Даниловичу информацию, касающуюся времяпрепровождения и здоровья его семьи[287 - Причем даже это он делал «по своей должности».], передвижений и планов Петра I, погодных условий и т. д.[288 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 378. Л. 51, 56, 59–71, 74–76, 78–84 об., 99-100; Д. 379. Л. 143–145 об., 157–159, 165–166 и т. д.] 8 апреля 1723 г. комендант писал: «Сего апреля 5 дня в церкви Живоначальные Троицы были часы, а потом преосвященная обедна, при котором пении изволил быть Его императорское величество и Ее величество государыня императрица. И после литоргии были з города польба из 31 пушки и на городу поднят был штандарт, понеже оное число объявлено нам днем рождения Ее величества государыни императрицы, а в прежние годы такого празнества не было. И пот пении литоргии изволили быть их величества ф кафейном доме, и Ее величество государыня императрица изволила всех жаловать, подносить по рюмке вина»[289 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 379. Л. 165.].
Судить о том, как выглядели письма и ордеры А. Д. Меншикова к Я. X. Бахмеотову и какие формулировки он использовал, еще труднее. Как известно, документы, поступавшие от князя, сохранились в оригинальном виде выборочно. В фонде Походной и домовой канцелярии Александра Даниловича имеются лишь погодные, разбитые по нескольким месяцам записные книги, где корреспонденция отражена в форме черновиков, копий и отпусков[290 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 109–110, 148, 162, 181 и т. д.]. С одной стороны, благодаря наличию записных книг мы имеем объемный комплекс материалов, в которых отражена суть посланных от А. Д. Меншикова документов. С другой стороны, подобная форма представления информации лишь схематично передает смысл документации князя, поскольку имеет вид аннотации основного текста письма. Невозможно с точностью судить о каких-либо мелких деталях, фигурах речи, обращениях и языке корреспонденции А. Д. Меншикова и, как следствие, в полной мере восстановить его стиль общения с комендантом[291 - Примечательны оценки стилистики корреспонденции А. Д. Меншикова в целом. Уже для периода 1703–1704 гг., а тем более для последнего десятилетия петровского царствования, исследователи наблюдают схожесть тона корреспонденции князя с обращениями Петра I. Е. В. Анисимов отмечает показательное превращение Александра Даниловича «из “лейтенанта”, денщика, гофмейстера царевича Алексея во властного, волевого администратора, умевшего наладить отношения с людьми с помощью кнута и пряника». См.: ITINERA PETRI. Биохроника Петра Великого день за днем. URL: https://spb.hse.ru/humart/history/peter/ (https://spb.hse.ru/humart/history/peter/) biochronic/228054719 (дата обращения: 20.09.2023).]. По этим же причинам невозможно достоверно определить, какого типа документ посылался к коменданту – официальный ордер или частное письмо – поскольку в книгах они записывались в одинаковой форме. Некоторую ясность позволяют внести отдельны фразы из писем и доношений Я. X. Бахмеотова, который между слов отмечал способ получения указаний от князя («по ордеру», «по письму», «по указанию»). По этим причинам можно лишь предположить, что ответные письма А. Д. Меншикова, аналогично с корреспонденцией поступавшей от коменданта, отличались сухостью языка без каких-либо значительных комплиментарных формул. При обращениях к Я. X. Бахмеотову генерал-губернатор использовал формулу «ваша милость» – это все, что удалось установить. Поскольку письма в данную эпоху являлись средством самоидентификации и самопрезентации[292 - Lavrinovich М. От любви к разочарованию: выражение чувств как средство коммуникации между графом Н. П. Шереметевым и А. Ф. Малиновским (1800-е годы) // Avtobiografija. 2021. Vol. 10. Р. 176.], представляется, что на уровне языка Я. X. Бахмеотов позиционировал себя в большей степени как подчиненный князя, а А. Д. Меншиков – как его руководитель.
Наблюдения, полученные после анализа языка корреспонденции Я. X. Бахмеотова и А. Д. Меншикова, косвенно находят подтверждение в сведениях «Повседневных записок делам князя А. Д. Меншикова». Чаще всего Я. X. Бахмеотов бывал в доме князя в 1718 г. (34 упоминания)[293 - Примечательно, что Я. X. Бахмеотов бывал у А. Д. Меншикова лишь 2 раза в 1717 г. и 34 раза в 1718 г. После декабря 1718 г. его имя не встречается среди посетителей князя.]. Как указывалось в предыдущей главе, во всех случаях он приходил к Александру Даниловичу в первой половине дня, когда тот «изволил отправлять ардинальные дела»[294 - Труды и дни Александра Даниловича Меншикова. Повседневные записки делам князя А. Д. Меншикова 1716–1720, 1726–1727 гг. М., 2004. С. 189, 192, 196, 200, 203–206, 209, 217–218 и т. д.] и докладывал по служебным вопросам. После докладов комендант покидал дом князя. Ни в обедах, ни в торжествах, прогулках и увеселениях, проводившихся в доме А. Д. Меншикова, он участия не принимал, в отличие от других петровских соратников, занятых в системе управления столицей (А. М. Девиера, У. А. Сенявина, С. Т. Клокачева, М. М. Голицына и т. д.). Соответственно, есть все основания утверждать, что в число ближнего круга князя Я. X. Бахмеотов не входил. Тем не менее имеющиеся в нашем распоряжении источники не позволяют говорить о полном отсутствии внеслужебных или личных связей между Я. X. Бахмеотовым и А. Д. Меншиковым прежде всего потому, что и князь, и комендант оказывали друг другу услуги, которые можно отнести в поле их личных отношений, основанных на взаимном доверии и лояльности.
Надо полагать, наиболее важной услугой, которую Я. X. Бахмеотов мог оказать А. Д. Меншикову, являлось информирование о происходящем в Санкт-Петербурге и его округе. Комендант, очевидно, был не единственным каналом, по которому князь получал интересовавшие его сведения, находясь вдалеке от руководимой им губернии. А. Д. Меншиков на протяжении многих лет поддерживал устойчивые связи с руководителями городских и губернских структур Ф. М. Апраксиным, М. М. Голицыным, Р. В. и Я. В. Брюсами, А. М. Девиером, С. Т. Клокачевым и пр. Большинство из них занимали ключевые должности в государственной иерархии, входили в ближний круг государя и, соответственно, обладали более ценными и подробными сведениями, нежели мог предложить комендант. Однако известиями Я. X. Бахмеотова князь не пренебрегал, сопоставлял полученную от него информацию с сообщениями других контрагентов. При этом сам А. Д. Меншиков, насколько позволяет судить сохранившаяся часть его корреспонденции, извещал коменданта лишь о тех событиях, которые касались вопросов управления Санкт-Петербургской крепостью или Санкт-Петербургом и могли быть полезны Якову Хрисанфовичу при исполнении должностных обязанностей. Тем более князь не интересовался частной и семейной жизнью Я. X. Бахмеотова, никогда об этом не спрашивал, а комендант, придерживаясь субординации, не рассказывал.
Сфера осведомленности Я. X. Бахмеотова ограничивалась столичной жизнью и близлежащими пунктами, где он имел определенное влияние как комендант Санкт-Петербургской крепости. Осуществляя свои служебные обязанности, он получал некую, так скажем, дополнительную (не относящуюся напрямую к сфере его компетенции) информацию о здоровье и передвижениях Петра I, военных кампаниях, праздничных мероприятиях и церемониях, проводимых в городе, миссиях государственных деятелей, приемах иностранных посольств[295 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 378. Л. 59–63 об., 65–68 об., 69–70 об., 82–83 об., 162–162 об.; Д. 379. Л. 157–157 об. и т. д.]. Комендант имел своих информантов из числа военных, которые узнавали для него необходимые сведения, прежде всего, по вопросам, входившим в сферу его компетенции[296 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 379. Л. 71 об.-72.]. Каких-либо фактов, достоверно указывающих на наличие устойчивых и доверительных отношений Я. X. Бахмеотова с другими представителями петровского окружения, выявить не удалось. Лишь в одном письме генерал-полицеймейстера А. М. Девиера встречается упоминание об организованном комендантом новоселье в новопостроенных постоялых домах, куда был приглашен сам Антон Мануилович, а также А. И. Ушаков и другие должностные лица Санкт-Петербурга[297 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 557. Л. 170 об.].
Итак, Я. X. Бахмеотов, беспеременно находясь в столице, регулярно сообщал А. Д. Меншикову о передвижениях государя и государыни по территории санкт-петербургской округи. 30 июня 1720 г. комендант передавал детали путешествия Петра I по близлежащим резиденциям и местностям: «Его царское величество был на Котлине острове и отуда в Аранимбоуме и в других дворцах, також и в новозавоведенном, что в Дубках, и оттуды возвратился и прибыл в Санкт-Питербурх щасливо прошедшаго июня 22 числа»[298 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 378. Л. 71–71 об.]. Он также извинялся перед князем за ложные сведения о прибытии государя в Санкт-Петербург 16 июня, полученные от информанта («ардинанца»)[299 - В этот день прибыл в Санкт-Петербург только польский посол, сопровождавший Петра.]. «Сего ж июня 24 дня, – продолжал Я. X. Бахмеотов, – в день Святаго Самсона Страноприимца Его величество со всеми своими министрами изволил слушать Литургию у церкви Святыя Троицы, а во время службы палили з города ис пушек за бывшую Викторию, что под Полтавою – первы раз, за Евангелием из 33 – другой раз, по окончании Литоргии из 43 – третей раз, по окончании благодарного молебна – из 53, которой был в церкви на площади, где изволил быть Его величество сам со всеми особы»[300 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 378. Л. 72–72 об.].
Во время многочисленных поездок А. Д. Меншикова комендант передавал сведения о состоянии дел в его доме, информировал о здоровье детей и домочадцев, следил за решением хозяйственных вопросов[301 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 378. Л. 64–65 об., 82, 194; Д. 379. Л. 3–3 об.; Д. 380. Л. 73–74 об. и т. д.]. Так, 24 мая 1720 г. Я. X. Бахмеотов, помимо хода дел в Санкт-Петербурге, уведомлял Александра Даниловича: «…а у нас в Санкт-Питербурхе и в доме вашей светлости все благополучно и светлейшая княжна, дочь ваша, наша государыня Екатерина Александровна обретаетца милостию Божиею в добром здоровье и в теизоименитство пресветлейшей вашей княгини, нашей премилостивейшей государыни Дарьи Михайловны в доме вашего светлейшества веселились господа генералы-порутчики Роман Вилимович Брюс, Иван Иванович Бутурлин и все господа брегадиры и от лейб-гвардии маэоры и протчие господа штап-афицеры, и господин секретарь Макаров, и господин Алсуфьев и про здоровье вашего светлейшества и пресветлейшей княгини и детей ваших изрядно подливали и со всяким благодарением розъехались»[302 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 378. Л. 51–51 об.]. В данном случае, как и в ситуации с передачей информации о санкт-петербургском управлении, Я. X. Бахмеотов являлся одним из множества информантов, которые наведывались в княжеский дом, чтобы выразить дань уважения его семье, и не забывали упомянуть о своем визите в тексте письма[303 - Например, подобные сведения встречаются и в письмах А. М. Девиера, и в корреспонденции А. В. Макарова.]. В каком-то смысле посещение дома А. Д. Меншикова в его отсутствие выступало маркером лояльности, которую хотели продемонстрировать князю те или иные лица. Поведение Я. X. Бахмеотова отличало то, что, во-первых, комендант не был вхож в семью А. Д. Меншикова настолько, чтобы занять прочное место среди участников семейных обедов и приемов, бывать в доме запросто, а во-вторых, он навещал домашних князя «по должности», т. е. выполнял обязанность, связанную с его служебным статусом[304 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 378. Л. 59–60 об.]. Возможно, он делал это по специальному указанию князя. По просьбе А. Д. Меншикова Я. X. Бахмеотов следил за безопасностью княжеского дома, выполнением строительных и ремонтных работ[305 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 378. Л. 194.].
Я. X. Бахмеотов выступал для А. Д. Меншикова информантом по его судебно-следственным делам, доставлявшим беспокойство князю на протяжение 1710-1720-х гг. 24 марта 1719 г. комендант в цидуле сообщал о прибытии в Санкт-Петербургскую крепость в губернаторский дом генерал-лейтенанта И. И. Бутурлина[306 - О деятельности И. И. Бутурлина см.: Серов Д. О., Федоров А. В. Следователи Петра Великого. М., 2018. С. 203–216.] с майорами от гвардии для проведения следствия по делам, надо полагать, связанным с хищениями государственных средств и подрядными аферами. Следователи, как подчеркивал Я. X. Бахмеотов, расследование «…за умножением других дел на несколько времени отложили»[307 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 378. Л. 52.]. Снова вопрос о судебно-следственных делах князя возник в письмах коменданта 14 апреля того же года, когда он делился с А. Д. Меншиковым расстановкой сил: «…дело вашего светлейшества сего апреля 4-го числа в Тайной канцелярии учрежденые к тому господа штап- и обер-офицеры слушали и все разсуждали изрядно и на некоторую пользу вашему светлейшеству говорили, о чем, я надеюсь, от домашних вашего светлейшества писано пространно, понеже я им предъявлял и разъяснял имянно, какие розгаворы между ими были. Только за асесоров два человека Козлов и князь Урусов воспрещают и за тем не согласуютца, о чем я господину брегадиру и от лейб-гвардии маэору Ушакову говорил, обещал оное вашего светлейшества дело еще к слушанию предложить без них. А что будет чинитца, о том до вашего светлейшества, премилостиваго государя писать буду. Токмо он, господин маэор Ушаков, сожалеет, что ныне Григорья Григорьевича Скорнякова-Писарева при Санкт-Питербурхе нет, отлучился х канальной работе, которой в том, вашего светлейшества, деле не малой спомощник был»[308 - РГАДА. Оп. 1. Д. 378. Л. 55–55 об.]. Больше в корреспонденции упоминаний об участии коменданта в делах князя не обнаружено. Возможно, Я. X. Бахмеотов информировал князя о ходе судебно-следственного процесса не по причине своей близости или доверенности, а только потому, что следственная комиссия заседала в стенах Санкт-Петербургской крепости, которая находилась под пристальным вниманием Якова Хрисанфовича.
Подобное умозаключение подтверждает и тот факт, что А. Д. Меншиков не использовал коменданта в качестве информанта в ходе другого судебно-следственного процесса, грозившего ему полным политическим крахом – знаменитого Почепского дела. В их переписке ни явно, ни косвенно обстоятельства межевого спора вокруг г. Почепа никак не упомянуты, хотя по вопросам, связанным с управлением Санкт-Петербургом, комендант и генерал-губернатор продолжали контактировать с заметной стабильностью. Должно быть, А. Д. Меншиков не видел необходимости посвящать Якова Хрисанфовича в щепетильные обстоятельства Почепского дела, поскольку не доверял ему достаточно и объективно оценивал его политическое влияние. Комендант не имел ни разветвленной сети информантов, близких к престолу, ни устойчивых социальных связей с другими представителями политической элиты, ни доверительных отношений с Петром I или с лицами, к чьему мнению государь прислушивался. В сложившихся обстоятельствах Я. X. Бахмеотов был абсолютно бесполезен для А. Д. Меншикова.
Зато А. Д. Меншиков пользовался услугами коменданта при решении дел, связанных с частными проблемами лояльных ему государственных деятелей[309 - Пользуясь доверительными отношениями с князем, они лично просили его о помощи.]. Так, А. Д. Меншиков привлекал коменданта к розыскным мероприятиям по делу о разорении деревни адмирала Ф. М. Апраксина; следствию о непотребных словах в сторону А. И. Репнина и суду над протонотариусом Юстиц-коллегии Ф. Гейденрейхом; решению проблем управляющего И. Борисова; поискам потерянного государственными деятелями имущества и т. д.[310 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 378. Л. 41, 45–45 об., 54, 159–161, 196, 221–221 об., 223–224 об.; Д. 379. Л. 332–334 об.; Д. 380. Л. 43–45 об.] Отчасти задачи, порученные Александром Даниловичем Я. X. Бахмеотову, соотносились со сферой его прямой компетенции. Вмешательство и желание князя выступало в данном случае усиливающим фактором.
В 1722 г. А. Д. Меншиков привлек Я. X. Бахмеотова к организации освобождения из-под ареста А. И. Нарышкина. Согласно «Биохронике Петра Великого», 11 июля 1720 г. из Тайной канцелярии вышел указ о начале следствия по доносу дьяка С. Большова на А. И. Нарышкина, связанного с делом царевича Алексея[311 - ITINERA PETRI. Биохроника Петра Великого день за днем. URL: https:// spb.hse.ru/humart/history/peter/biochronic/231733270 (дата обращения: 09.09.2021).]. С. Большов обвинял А. И. Нарышкина в том, что тот, исполняя в Угличе обязанности коменданта и лантрата, контактировал с епископом Досифеем («разстригою Демидом»), списывался с царевичем Алексеем, посылал казну к Е. Ф. Лопухиной, убил посланного от себя к царевичу Алексею человека и т. д.[312 - Дело Алексея Нарышкина см.: Собрание документов по делу царевича Алексея Петровича, вновь найденных Г. В. Есиповым, с приложением рассуждения М. П. Погодина. М., 1861. С. 327–357.] Следствие над А. И. Нарышкиным продолжалось несколько лет, в течение которых он находился под арестом в Санкт-Петербургской крепости. В 1721 г.[313 - Цидула, содержавшая просьбу, не датирована. В архивном деле она находится между двумя письмами от 9 апреля 1721 г.] Александр Данилович обращался к государю с просьбой освободить А. И. Нарышкина на поруки, «…а являтца бы ему по вся дни в канцелярии, ибо по его делам не может скорое решение быть»[314 - РГАДА. Ф. 9. Оп. 4. Отд. II. Д. 56. Л. 31]. Однако вопрос на протяжении года оставался нерешенным. 9 апреля 1722 г. князь извещал А. И. Нарышкина: «Его императорское величество указал вас свободить на поруки и для собрания по вас поручной записи быть вам в Москву немедленно. Того ради вам сим предлагаю, извольте ехать сюда на почте без всякого замедления, дабы вам можно здесь застать Его императорское величество»[315 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 180. Л. 188 об.]. Одновременно он указывал М. М. Голицыну отпустить А. И. Нарышкина на поруки и для составления поручной записи прислать его в Москву[316 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 180. Л. 188.], а Я. X. Бахмеотову добавлял – Алексея Ивановича отправить без замедления «на почте», дать ему коляску и все необходимое в дорогу[317 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 180. Л. 188.]. 21 апреля комендант в письме уведомлял А. Д. Меншикова, что А. И. Нарышкин из-под ареста освобожден и отослан к М. М. Голицыну для переезда в Москву[318 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 379. Л. 7.]. Чуть позже М. М. Голицын окончательно объявлял: «…и по оному вашей светлости указу полковнику и санкт-питербурскому каменданту Бахмеотову велел взять здесь поруки в том, чтоб стать ему в Москву и явитца вашей светлости, а кто будут поруки, объявить нам и помянутом полковник и камендант Бахмеотов по нем, Нарышкине, поруки собрал, с котораго поручнаго письма копию, також и онаго, Нарышкина, посылаю присем с присланным от вашей светлости куриером Максимовичем, а по прибытии в Москву велел объявить вашей светлости»[319 - РГАДА. Ф. 198. Д. 518. Л. 94–94 об.].
Таким образом, круг услуг, которые Я. X. Бахмеотов был способен оказать А. Д. Меншикову, имел довольно четкие границы. Роль коменданта в большинстве своем сводилась к информированию по вопросам, связанным с его служебными полномочиями внутри системы управления Санкт-Петербургом или вытекающим из них. На ответную помощь князя Яков Хрисанфович мог рассчитывать в таком же ограниченном варианте. Например, остается только догадываться о том, какую роль сыграл А. Д. Меншиков в получении Я. X. Бахмеотовым повышений и назначений. Если учитывать именной указ 1712 г., согласно которому коменданты крепостей назначались по воле генерал-губернатора, то можно предположить, что Я. X. Бахмеотов был обязан подобным назначением никому другому как А. Д. Меншикову. Однако никаких сведений о контактах коменданта и генерал-губернатора до 1717 г. не обнаружено, равно как нет документальных свидетельств относительно инициативы Александра Даниловича определить именно Я. X. Бахмеотова на должность руководителя Санкт-Петербургской крепости после смерти М. О. Чемесова. В дальнейшем роль А. Д. Меншикова в карьерном продвижении коменданта прослеживается так же смутно. Яков Хрисанфович, получивший в 1717 г. чин полковника, соответствовавший занимаемой должности, в 1722 г. просил «за службы и показанные в делах труды» переменить рангом и назначить бригадиром[320 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 180. Л. 622 об.]. Вместе с ним требовали повышения по рангу генерал-полицеймейстер А. М. Девиер, обер-полицеймейстер М. Т. Греков, полковник С. И. Сукин, полковник Петриков и флигель-адъютант Щербачев. Неизвестно, получили ли все просители желаемые ранги в ближайшие сроки. Требования Я. X. Бахмеотова были полностью удовлетворены летом 1723 г.[321 - В период между 26 июня и 10 июля. См.: РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 379. Л.192–193.] и, надо полагать, не без участия А. Д. Меншикова как непосредственного начальника коменданта.
Относительно кадровой политики в Санкт-Петербургской крепости и назначений на различные городские службы указывалось, что Я. X. Бахмеотов считал необходимым обсуждать с А. Д. Меншиковым кадровые изменения в подведомственном ему гарнизоне. Аналогично он уведомлял князя о собственных миссиях, напрямую не касавшихся обязанностей коменданта. В феврале-марте 1724 г. на этой почве между ними возникли разногласия. Я. X. Бахмеотов доносил А. Д. Меншикову, что 21 февраля был призван в Сенат, где ему объявили царский указ, по которому он должен исполнять обязанности асессора при графе А. А. Матвееве в Правительствующем Сенате. Комендант «рабски» просил князя способствовать отставке и назначению другого должностного лица, аргументируя тем, что у него и так много дел: «…гварнизонные дела здешней губернии, також рекрутские приемы, и фергеры и криксрехты, и постоялые домы, и канальное строение»[322 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 380. Л. 72.]. Подчеркнем, что в конце доношения (именно такой вид документа он отправил) Я. X. Бахмеотов употреблял комплиментарный оборот, характерный для частных писем: «…пожалуй, милостивой государь, сотвори со мною высокую свою милость и заступи меня милостивым своим предстательством, истинно мне таких положенных немалых дел не снесть»[323 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 380. Л. 72.]. Подобное выражение эмоций представляется совершенно нехарактерным для корреспонденции коменданта к князю.
3 марта 1724 г. Я. X. Бахмеотов написал письмо Александру Даниловичу. Несмотря на заступничество А. Д. Меншикова, который ходатайствовал в Сенате и Военной коллегии об отставке коменданта с должности асессора, 24 февраля («по отбытии вашем») из Военной коллегии был прислан указ на имя генерал-губернатора, повелевавший Я. X. Бахмеотову исполнять обязанности по-прежнему. Коменданту полагалось прибыть в Сенат и принять дела. Ослушаться, очевидно, он не мог[324 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 380. Л. 73.]. В ответ на подобное сообщение 20 марта Я. X. Бахмеотов получил гневное письмо – князь был возмущен решением коменданта приступить к службе асессором без его ордера (sic! только на основании указа). 24 марта Яков Хрисанфович оправдывался, что никакого указа из Сената или Военной коллегии о его отставке до сих пор не приходило, а с А. А. Матвеевым, при котором ему полагалось служить, он «словесно» договорился, что должность свою исполнять он будет только до тех пор, пока не начнутся канальные строительные работы[325 - Ситуацию он описывал следующим образом: «Сего ж марта 20 числа получил я от вашей светлости ордер, ис которого выразумел не без гневу вашей светлости, что я по присланному его императорского величества от Государственной военной коллегии указу без ордеру вашей светлости отправление при сенацком члене вступил. На что вашей светлости, милостивейшему государю нижайше доношу, что хотя предложение от вашей светлости о небытности моей в Сенате и подано, но з господином графом Матвеевым в розговорах у меня было, хотя и быть мне при нем в Сенатском отправлении, токмо до вступления канальной работы, в чем я больши не мог преслушать Государственной военной коллегии указа и сенатского объявления». См.: РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 380. Л. 79.].
Я. X. Бахмеотов уверял генерал-губернатора, что все свои обязанности исполняет «по самой моей возможности»[326 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 380. Л. 79.]. В дальнейшем тема асессорства Якова Хрисанфовича в корреспонденции не поднималась.
В конце декабря 1722 г. Я. X. Бахмеотов стал фигурантом следственного разбирательства, спровоцированного майором Зезевитова полка Назимовым. Комендант от своего лица писал А. Д. Меншикову с просьбами о заступничестве, а также просил о защите у М. М. Голицына. Суть дела сводилась к следующему. Назимов был обвинен в убийстве своего «хлопца». По фергеру и кригсрехту, проведенных презусом, полковником Орловым и асессорами (их имена не уточняются), Назимов признал свою вину и подписался под приговором, согласно которому был написан в солдаты на три года. Это решение вскоре получило конфирмацию от М. М. Голицына[327 - Как отмечал Д. О. Серов, вынесенный кригсрехтом приговор обязательно должен был быть направлен на утверждение вышестоящему воинскому начальнику. Для Санкт-Петербурга в 1722–1723 г. М. М. Голицын являлся высшим военным руководителем. См.: Серов Д. О. Судебная реформа Петра I: Историко-правовое исследование. М., 2009. С. 131.], не вызвавшую у обвиняемого протестов. Назимов был определен в черниговский полк. 8 декабря Назимова вновь призвали к Орлову по делу городового батальона каптенармуса Бегичева. С собой на разбирательство он привез роспись всех четырех полков штаб- и обер-офицеров Санкт-Петербургского гарнизона, которые, по его мнению, являлись подозрительными. Поскольку Назимов не смог предоставить никаких доказательств, то роспись к суду не приняли, а его самого отправили обратно, приказывая явиться с доказательствами 10-го числа того же месяца. В назначенный срок разжалованный майор не явился. В ответ к нему был послан капрал, которому Назимов сказал следующее: суд над ним был несправедливым, все обвинения он опровергает, приговоры не признает и судьями недоволен, всех участников считает подозрительными. В конце Назимов объявил, что за ним есть «Его императорского величества дело». После своих высказываний Назимов был отправлен в Тайную канцелярию, а оттуда, не предоставив никаких доказательств «против первых двух важных пунктов», в Военную коллегию. Видимо, в коллегии он и подал доношение на коменданта Я. X. Бахмеотова.
Как отмечал М. М. Голицын, 21 декабря презус генерал-майор И. Я. Дюпрей прислал письмо с извещением, что доноситель Назимов и комендант Я. X. Бахмеотов призывны к суду. По ходу следствия комендант Я. X. Бахмеотов подписался, что презусом и асессорами доволен; Назимов подписался, что асессорами доволен, а презусом недоволен, потому что он ему подозрителен, так как сам находится под подозрением по судебному делу. Обвинял бывший полковник и самого М. М. Голицына. Описывая приведенные выше обстоятельства, Михаил Михайлович заключал: «…и оное поданное письмо от того суда и доношение ево на полковника и каменданта Бахмеотова с сим подателем послал в Москву в Государственную Военную коллегию и прошу вашей княжеской светлости, чтоб повелено было от него Назимова оборонить, дабы другим впредь того чинить было неповадно»[328 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 518. Л. 196–197.]. В тот же день, 24 декабря, к А. Д. Меншикову писал и сам Я. X. Бахмеотов. Он повторял просьбы М. М. Голицына о защите: «…всенижайше вашему светлейшеству, моему премилостивейшему государю объявляю, что бывшей маеор Назимов подал на меня доношение, по которому я и свидетели были призываны, и по оному делу явился я во всем невинен, а оной бывшей маеор по фергеру за убивство хлопца своего написан на три года в салдаты. Всеподданейше вашу высококняжею светлость, моего премилостивейшаго государя прошу от онаго доносителя милостиво меня оборонить, понеже что он объявил на меня доношением своим и об оном о всем я вашему светлейшеству репорт и ведомости подавал. А презеса господина генерала-маеора Дупрея от суда отрешил и протчих»[329 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 379. Л. 120–121.]. А. Д. Меншиков прошениям М. М. Голицына и Я. X. Бахмеотова внял и спустя пару дней отправил Михаилу Михайловичу царский указ по состоявшемуся в Военной коллегии приговору[330 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 180. Л. 620 об.]. Якову Хрисанфовичу он посылал копию с письма М. М. Голицыну[331 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 180. Л. 621.]. Несмотря на то что текст указа в корреспонденции государственных деятелей обнаружить не удалось, можно предположить, что дело было решено в пользу коменданта.
Заключая данную главу, отметим, что отношения между Я. X. Бахмеотовым и А. Д. Меншиковым базировались на принципе прямой подчиненности и вряд ли могут быть рассмотрены как отношения покровителя и клиента. Внеслужебные (личные) связи между комендантом и генерал-губернатором хоть и имели место, но ограничивались односторонним – от Я. X. Бахмеотова к А. Д. Меншикову – обменом информацией и оказанием мелких, связанных со сферой должностной компетенции услуг. Такая специфика социальных связей, на наш взгляд, соответствовала статусу Я. X. Бахмеотова в системе городского и государственного управления, поскольку его влияние и авторитет не распространялись намного дальше стен Санкт-Петербургской крепости и, более того, напрямую зависели от воли самого А. Д. Меншикова. Я. X. Бахмеотов не имел достаточных материальных и нематериальных ресурсов, чтобы стать настолько полезным и значимым для князя, чтобы тот решил установить с ним более тесные и доверительные отношения.
Глава 4
Проект постоялых дворов
По мере роста территории Санкт-Петербурга и расширения его застройки, увеличивалась численность населения города. В столицу с момента ее основания стекалось огромное количество разнородных групп людей, переселенных в город принудительно или переезжавших по собственной инициативе с целью несения службы и получения заработка. Все переселенцы сталкивались с одной насущной проблемой – им нужно было где-то жить. Соответственно социальному статусу и финансовым возможностям в Санкт-Петербурге существовало несколько вариантов размещения. С одной стороны, практиковали принудительное переселение на «вечное житье». Ему подвергались как представители дворянства и верхушки купечества, так и «подлые люди» – ремесленники, торговцы, мастеровые и т. д.[332 - Подобных указов о переводе на жительство в Санкт-Петербург находится множество. Например, 20 ноября 1717 г. государь именным указом, объявленным из Сената, повелел: «…купецких и ремесленных людей, которые из Губерний в первую треть на житье в Санктпетербург не высланы, и о том, за чем та высылка остановилась и по многим указам не ответствовано, ныне выбрав, выслать их с женами и с детми в Санктпетербург безсрочно, а выбирать их в городах Земским Бурмистрам и выборным людям меж собою самим, как их первостатейных, так и средних людей добрых и пожиточных, которые б имели у мебя торги и промыслы, или заводы какие свободные, а не убогие были б и не мало-семейные, и тот выбор учинить им без всякаго послабления не обходя и не наровя никому ни для чего, такожде и на маломочные не посягаяя отнюдь, и в том тех людей, на которые тот выбор меж собою положен у них будет, привести к вере под таким прещением, что ежели они в том будут чинить неправедно и из первостатейных и из средних статей и из семейных и из пожиточных кто от кого обойдены, а вместо их из маломочных и одинаких или из престарелых выбраны такожде и в высылке какое вымышленное продолжение чиниться от них будет, и за то те выборные (яко клатвопреступники и преслушники указа,) с разорением домов и всего имения их, жестоко наказаны будут». См.: ПСЗ РИ-1. Т. V. № 3118.] В соответствии с предполагаемым планом и разработанными архитекторами нормами строительства домов (образцовые дома Д. А. Трезини и Ж.-Б. А. Леблона) новым жителям раздавались городские участки, на которых они должны были построить дома. В 1719 г. Петр I издал указ, предполагавший принудительное строительство на Васильевском острове для представителей дворянства и купечества. Документ вводил имущественный ценз, по которому обозначался круг лиц, попадавших под Василеостровское строение: для дворян необходимо было владеть 40 дворами, для купцов – нести 40 рублей тягла[333 - ПСЗ РИ-1. Т. V. № 3305.]. Впоследствии для дворянства ценз был снижен, а купечеству предлагалось селиться по желанию[334 - ПСЗ РИ-1. Т. V. № 3332, 33348.]. Для других переводимых на постоянное житье категорий населения также вводились нормы строительства и предоставлялись участки. Задолго до появления городского планирования развернулась стихийная застройка (в особенности на правой стороне р. Невы), с которой местные власти старались по возможности бороться.
С другой стороны, в город прибывали группы, которые требовали не постоянного, а временного размещения. Прежде всего, это касалось расквартирования в Санкт-Петербурге различных армейских частей. Постойная повинность, как единодушно отмечают исследователи, в условиях военного времени ложилась тяжким бременем на плечи горожан. Хотя городские власти, в частности генерал-полицеймейстер А. М. Девиер, к чьей сфере компетенции с 1718 г. относилось распределение постоя, старались вести учет населения и равномерно размещать военные формирования по городским районам, не учитывая социальный статус жителей[335 - К «Пунктам» генерал-полицеймейстера царь приписал наказ о постое: «…солдат ставить всем на дворы по пропорции, какого б кто ранга не был». См.: Петров П. Н. История Санкт-Петербурга с основания города. СПб., 1884. С. 153.], содержание в доме прибывших солдат и офицеров оставалось для петербуржцев наиболее стеснительным обязательством. Согласно наблюдениям С. П. Луппова, на каждый дом в Санкт-Петербурге приходилось по нескольку добавочных постояльцев, тогда как дома в городе в большинстве случаев были невелики по своим размерам[336 - Луппов С. П. История строительства Петербурга в первой четверти XVIII века. М., Л., 1957. С. 150.].
Вторым вариантом временного проживания являлся частный наем. Те, кто имел знакомых или родственников в городе, находились в более выгодном положении, поскольку получали возможность подселиться в дом бесплатно. Другие приезжие нанимали жилье за деньги: они либо селились непосредственно в дом к арендодателю (говоря современным языком), либо занимали место в специально построенных домах, т. е. в частных постоялых дворах[337 - С. П. Луппов указывал, что еще в 1708 г. А. Д. Меншиков докладывал царю, что в Петербурге солдаты разных полков построили дома и отдают их из найма. Автор «Описания» Петербурга 1720 г. сообщал, что в Петербурге есть «здания, где останавливаются гости, а для их удобства и трактиры». См.: Луппов С. П. История строительства Петербурга в первой четверти XVIII века. М., Л., 1957. С. 151; Русский быт в воспоминаниях современников. XVIII век. М., 2012. С. 180.]. Частный наем имел взаимные преимущества как для арендатора, так и для арендодателя. Во-первых, он позволял обеспечить временным кровом прибывающих в город людей, во-вторых, являлся источником дохода для владельцев домов, мотивируя наиболее предприимчивых строить дополнительные помещения. Однако подобная практика бесконтрольного подселения не соответствовала стремлению городских властей контролировать пребывающее в Санкт-Петербург население, так как трудно поддавалась учету. В качестве решения обострявшихся трудностей в 1718 г. всем владельцам недвижимости в Санкт-Петербурге под страхом штрафа указывалось доносить в новоучрежденную Полицеймейстерскую канцелярию о любом человеке, прибывшем к ним или собиравшемся уехать из города[338 - ПСЗ РИ-1. Т. V. № 3203.]. Селиться в дома разрешалось только тем лицам, которые получили разрешение на нахождение в городе. При этом хозяину жилплощади необходимо было оформить у служащих Полицеймейстерской канцелярии «жилую запись» с поручительством[339 - Кошелева О. Е. Полиция есть душа гражданства // Отечественные записки. 2004. № 2; Семенова Л. Н. Правительство и рабочий люд Петербурга в первой половине XVIII в. // Внутренняя политика царизма (середина XVI – начало XX в.). Труды Ленинградского отделения Института истории. 1967. Вып. 8. С. 136–137.].
В подобном контексте идея организации постоялых дворов (домов) виделась Петру и местным властям весьма перспективной. На территории города существовало несколько видов постоялых дворов: частные, построенные на средства частных лиц, и казенные постоялые дворы. Согласно С. П. Луппову, одним из первых появился постоялый двор князя А. Д. Меншикова, представлявший собой длинное мазанковое здание, крытое черепицей, располагавшееся за Исаакиевской церковью, ниже Адмиралтейства[340 - Луппов С. П. История строительства Петербурга в первой четверти XVIII века. М., Л., 1957. С. 34, 92, 94.]. Он использовался для государственных целей – в нем жили иностранные мастеровые, занятые на строительстве городских объектов. За их проживание князь получал из казны плату.
Принадлежавшие казне постоялые дворы появились в первое десятилетие существование города. Согласно подворной описи Петербургской стороны за 1713 г., на Городском острове при входе в Посадскую улицу напротив Гостиного двора находился постоялый дом, называвшийся «фатерной избой». В нем по распоряжению квартирмейстера можно было найти временный приют до назначения на постой в жилой дом[341 - Луппов С. П. История строительства Петербурга в первой четверти XVIII века. М., Л., 1957. С. 151; Петров П. Н. История Санкт-Петербурга с основания города. СПб., 1884. С. 98–99.]. Подчиненные Главной артиллерии постоялые дворы упоминал в своем исследовании П. Н. Петров. Он отмечал, что 6 июня 1723 г. «…была замечательная гроза, с вихрем и бурею, которою сломан один из постоялых дворов, построенных в теперешней Литейной части, между Косым Дементьевским переулком, Фонтанкою и Невою»[342 - Петров П. Н. История Санкт-Петербурга с основания города. СПб., 1884. С. 220–221.]. К комплексу постоялых дворов, по сведениям историка, были пристроены бани. По описанию, составленному А. И. Богдановым, деревянные казенные постоялые дворы были построены силами Санкт-Петербургского гарнизона на Гагаринской пристани[343 - Е. В. Анисимов уточняет локацию постоялых дворов на Гагаринской пристани. Он пишет: Домик Петра находился «по берегу реки Невы между Святейшим Синодом и [избами] постоялых дворов». См.: Анисимов Е. В. Юный град. Петербург времен Петра Великого. СПб., 2003. С. 203–204.] и на противоположной стороне р. Невы в Литейной части в 1723 г. (10 июля 1723 г. о строительстве постоялых дворов состоялся именной царский указ)[344 - Богданов А. И. Историческое, географическое и топографическое описание Санктпетербурга: От начала заведения его, с 1703 по 1751 год. СПб., 1779. С. 141.]. А. И. Богданов так описывал их внешний вид: «…построены были на сваях нарочитыя светлицы и архитектурою преизрядною украшены были, то есть: убиты тесом с карнизами и пилястрами и прочее убранство, а при том и выкрашены»[345 - Там же.].
Несмотря на то что историки активно используют сведения А. И. Богданова, есть все основания усомниться в их точности. В 1723 г. на левой (Петербургской) и правой (Московской) стороне по берегам р. Невы действительно располагались комплексы постоялых дворов, строившиеся силами гарнизонных солдат. Однако дата начала их строительства, обозначенная А. И. Богдановым, вызывает сомнения. Благодаря сохранившимся письмам и доношениям коменданта Я. X. Бахмеотова, известно о начатом в 1722 г. строительстве под его руководством комплексов деревянных постоялых дворов на Петербургской и Московской сторонах около р. Невы. Учитывая схожесть локализации строительства и описания внешнего вида зданий, можно предположить, что речь идет об одной группе постоялых домов[346 - Трудно предположить обратное, поскольку в выявленных Источниковых комплексах не говорится ничего о существовании и параллельном строительстве еще одного комплекса постоялых дворов с использованием сил Санкт-Петербургского гарнизона.]. Обратимся к деталям их создания.
В июле 1722 г. генерал-губернатор А. Д. Меншиков послал коменданту Я. X. Бахмеотову[347 - Стоит еще раз оговориться о специфике системы управления в Санкт-Петербурге в 1720-х гг. Летом 1722 г. в столице не присутствовал ни государь Петр I, ни генерал-губернатор А. Д. Меншиков. Первый находился в Персидском походе и вернулся в город весной 1723 г., второй – пребывал в Москве до мая 1723 г. Соответственно, забота о повседневной жизни Санкт-Петербурга легла на плечи тех руководителей местной администрации, кто остался в столице: генерал-полицеймейстера А. М. Девиера, директора Канцелярии городовых дел У. А. Сенявина, военного руководителя Санкт-Петербурга генерала М. М. Голицына. В данных обстоятельствах Я. X. Бахмеотов, получивший важное поручение от А. Д. Меншикова, оказывался в ситуации, когда ему необходимо было отчитываться и перед М. М. Голицыным как военным главой города, и перед генерал-губернатором А. Д. Меншиковым, которому он подчинялся с самого начала и должен был рапортовать по инструкции. Как правило, М. М. Голицыну Я. X. Бахмеотов отчитывался о результатах работы – сколько работ сделано, сколько средств потрачено. А. Д. Меншикову комендант подробно описывал ход строительства, решал с ним насущные вопросы о деталях строительных работ, поиске материалов, средств, размещении домов и проблемах занятых в строительстве солдат. Я. X. Бахмеотову приходилось координировать (не без вмешательства А. Д. Меншикова) свои действия с А. М. Девиером, в рамках своих полномочий контролировавшим правильность застройки, и У. А. Сенявиным, в распоряжении которого находились материальные и людские ресурсы.] инструкцию о строительстве постоялых домов. Надо полагать, что приказ о создании комплексов был отдан чуть ранее (в июне), во время пребывания князя в Санкт-Петербурге, возможно, устно[348 - С. П. Луппов отмечал, что А. Д. Меншиков несколько раз проявлял инициативу строительства комплексов постоялых дворов.]. По инструкции Я. X. Бахмеотову полагалось: строить дворы на берегу Невы по чертежу, копры для битья свай требовать у генерал-полицеймейстера А. М. Девиера и обер-комиссара Канцелярии городовых дел У. А. Сенявина, на покупку леса и необходимых материалов деньги взять у дьяка Ф. Захарова и принять из Ладоги у майора А. Алябьева, пустующие после отъезда французских строителей дома на Васильевском острове перевозить и употребить под строение[349 - Эти дома должен был показать Я. X. Бахмеотову архитектор Д. А. Трезини, которому А. Д. Меншиков дал соответствующие указы. См.: РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 180. Л. 413 об.], лес покупать за самую дешевую цену, определить к строению батальону Лефортовского полка и батальону Петербургского гарнизона, обо всем рапортовать А. Д. Меншикову и, наконец, «…поступать как доброму и верному офицеру надлежит»[350 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 180. Л. 335–336.]. Также князь уточнял, что из денег (10 000 р.), полученных от А. Алябьева, необходимо отдать половину (5000 р.) генералу М. М. Голицыну к шлюзному и бечевому делу[351 - М. М. Голицыну А. Д. Меншиков также об этом отписал. См.: РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 180. Л. 372–372 об.; Д. 518. Л. 113.]. Одновременно А. Д. Меншиков послал письма к А. М. Девиеру и У. А. Сенявину, указывая отдать коменданту все имеющиеся копры с распиской без замедления[352 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 180. Л. 339 об.].
Комплексы постоялых дворов возводились одновременно на левом и правом берегах Невы, т. е. на Петербургской и Московской сторонах. Относительно выбора места для строительства первых домов на левом берегу А. Д. Меншиков писал: «…також построить на Санкт-Питербурхском острову по берегу реки Невы, начав от того места, где зачаты строить Стрешнева мазанки к Гагаринской пристани»[353 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 180. Л. 380.]. Чуть позже князь определил еще одну локацию: «…на другой стороне близь Синоду постоялые дворы с помощию Божиею до дому покойного генерала-лейтенанта Брюса (имеется в виду санкт-петербургский обер-комендант Р. В. Брюс. – М. Н.) строить велите, а оного его дому до прибытия нашего ломать не велите, понеже о том определитца по прибытии нашем в Санкт-Питербурх»[354 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 180. Л. 465.]. В 1723 г. к комплексам постоялых домов на Петербургском острове и на Московской стороне близ Летнего домика государя и Литейного двора добавились постоялые дворы у Мытного двора[355 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 379. Л. 113, 115; Д. 518. Л. 181 об.].
Я. X. Бахмеотов, руководивший строительством на месте, следовал указаниям князя неукоснительно. Он практически еженедельно отправлял к Александру Даниловичу подробные доношения о ходе строительства. Вместе с отчетами он уточнял у А. Д. Меншикова даже самые мелкие детали – например, как подбивать потолки досками и прутьями, подмазывать ли их алебастром или не подмазывать, как правильно класть полы и т. д. 2 августа 1722 г. Я. X. Бахмеотов докладывал генерал-губернатору по поводу проделанной работы: «…по два дома, где будут строитца для постою, на сей неделе сваи со всем побиты будут, и плотничную работу уже с помощию Божиею начали, а имянно на побитые свои брусья, где полам быть, нарубают. А француские домы еще не ломаны, понеже архитектор Трезин за многими делами еще нам их не показал, а как скоро покажет, розломав, перевозить будем»[356 - Другие отчеты о строительстве см.: РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 379. Л. 52, 54, 56, 113, Л. 188–188 об., 279, 320, 349, 395; Д. 180. Л. 454, 509–509 об.]. Параллельно Я. X. Бахмеотов посылал отчеты М. М. Голицыну, который, их просматривая и обрабатывая, составлял рапорты для А. Д. Меншикова (он также еженедельно переправлял их к князю в Москву[357 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 180. Л. 584; Д. 518. Л. 118, 124, 128, 131, 133, 139, 142, 146, 152, 155, 161 и т. д.]). Например, 15 августа 1722 г. генерал указывал, что у строения постоялых дворов с начала работы по 12-е число сделано: «…бревен из воды выгружено и в стопы покладено 8188 дерев; свай обтесано 1212, свай же побито 1488; козлов зделано 101; к пилам зделано 50 ручек; брусов на копры вытесано 16; из оных копров зделано новых 6; брусов выпилено 645, от них горбылей 492; бревен перепилено на пластины, каждое бревно на двое 254 пластины; моху привезли 4 барки; шипов отесано на 570 сваях; на сваи посажено 77 бревен; кобыл зделано 64; на сваях шипов зделано 422; верхних бревен на шипы положено 107; поперешных бревен на шипы ж положено 71, в длину положено 37; из стопы положено на мост для укрепления свай бревен 194; от шапатли пригнали бревен 4 плота; фашин привезено 1300, и оные употреблены в середину в новозастоенной дом; с новых заводов перевезено кирпичю 10000; и воды на бечевник выгружено бревен 150; по две светлицы бревенчатова мосту положено 179; да под сараи струговых тесниц 212; на Васильевском острову во француской слободе разобрали 4 светлицы»[358 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 518. Л. 118.].
Строительство, как показывают донесения Я. X. Бахмеотова и М. М. Голицына, шло без значительных перебоев. Тем не менее А. Д. Меншиков постоянно напоминал им о необходимости рапортовать еженедельно и упорно поторапливал, чтобы дома были в готовности и «в совершенство прийти могли»[359 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 180. Л. 394, 425, 573; Д. 191. Л. 105; Д. 379. Л. 57.]. Князь назидательно повторял коменданту – «…того ради в строении постоялых дворов имейте неусыпной труд и попечение, дабы оные к прибытию нашему были в готовности»[360 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 180. Л. 413.]. А также «предлагал» (т. е. указывал) присылать ведомости о том, как скоро дома будут закончены и туда можно будет селить постояльцев[361 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 180. Л. 573 об.]. Очевидно, что князь спешил с произведением строительства, стремясь порадовать государя, планировавшего вернуться в Санкт-Петербург весной 1723 г.
Жилые сооружения нуждались в продуманной инфраструктуре. Поэтому коменданту, не закончив строительство постоялых домов, прошлось заниматься устройством подсобных помещений – бань, лавок, сараев, прилежащих к постоялым комплексам гаваней, заборов вокруг них, мясных рядов[362 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 180. Л. 463–463 об., 610; Д. 191. Л. 20 об.-21, 157; Д. 379. Л. 98, 122, 124, 197.]. В 1722 г. Я. X. Бахмеотов подыскивал место под строительство бань около постоялых дворов на Московской стороне[363 - А. Д. Меншиков указывал построить баню «сажень пяти или шести» и к ней избу на каком-либо простойном месте у канала. См.: РГАДА. Ф. 198. On. 1. Д. 180. Л. 487 об.]. В письме А. Д. Меншикову он объявлял, что «…по указу вашей светлости при постоялых домех о строении бани и к ней для роздевания другой избы объявлял я Антону Мануиловичу, на что изволил сказать, что оную баню строить опасно, понеже стало близь дому Его императорского величества, и затем оную баню строить до указу вашей светлости отложили»[364 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 379. Л. 77–77 об.]. Князь, понимая всю неразумность строительства бани рядом с царским домом, в ответ указывал возвести баню и избу к ней на той стороне, что ближе к Литейному двору[365 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 180. Л. 532; Д. 379. Л. 109.].
Отдельным делом являлась закупка дров в бани[366 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 380. Л. 58–59 об.] и сена в сараи при постоялых дворах. Я. X. Бахмеотов с подачи А. Д. Меншикова стремился купить сено по наименьшей цене[367 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 191. Л. 20 об., 21; Д. 379. Л. 52, 59, 61, 107, 111, 127, 252, 410.]. В октябре 1722 г. князь советовал коменданту, если тот нигде не найдет сено дешевле, купить его у дворецкого дома адмирала Ф. М. Апраксина Д. Янкова на сумму 1000 р.[368 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 379. Л. 487.] Заготовленное сено продавалось постояльцам по установленной цене – Я. X. Бахмеотов совместно с М. М. Голицыным записывал объемы продаж и суммы выручки в ведения и отсылал их к А. Д. Меншикову[369 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Л. 128, 132, 136 об., 139 и т. д.]. Комендант также следил, чтобы продажа сена происходила по справедливым ценам и финансово не стесняла постояльцев[370 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 380. Л. 39–39 об.]. Остатки запасов сена при необходимости могли быть выставлены в свободную продажу[371 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 380. Л. 406.].
Для сооружения постоялых дворов и всей прилегающей к ним инфраструктуры требовалось большое количество различных материалов[372 - Приход и расход материалов подлежал тщательному учету так же, как и расход средств на них. См.: РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 379. Л. 70, 72, 107, 199–216, 217; Д. 518. Л. 170 об., 277–277 об., 285.]. Комендант не располагал собственными материальными ресурсами. Поэтому он был вынужден или искать надежных подрядчиков, способных доставить все необходимое по приемлемой цене, или самостоятельно отправлять разведывательные группы для поиска и покупки леса, фашин, кирпича и т. д.[373 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 379. Л. 119, 131–131 об.] Другой способ найти нужные материалы заключался в том, чтобы обратиться за помощью к государственным учреждениям, располагающим ими. Благодаря А. Д. Меншикову Я. X. Бахмеотов получал пушечные ядра для переплавки из Главной артиллерии, фашины – от генерал-полицеймейстера А. М. Девиера и т. д.[374 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 379. Л. 67–67 об., 316.] В некоторых случаях князь советовал коменданту надежных подрядчиков[375 - Князь писал: «Ежели ко оному строению понадобитца кирпич, извольте брать з заводов полковника Лутковского, за которой деньги извольте платить по той же цене, по которой ставится к протчим Его императорского величества строением». См.: РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 180. Л. 509–509 об.] или сам предоставлял необходимые материалы и технику[376 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 191. Л. 8 об.]. Так, в ноябре 1722 г. Я. X. Бахмеотов уведомлял А. Д. Меншикова, что полученные для строительства постоялых дворов «ваши собственные» гонты остались с избытком, так как солдаты сделали новый гонт и будут использовать его. Князь отвечал: «…оные наши гонты извольте продавать точию не меныии той цены, по которой оные взяты к строению оных постоялых дворов»[377 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 180. Л. 592.]. Все вырученные от продажи средства шли в Домовую канцелярию А. Д. Меншикова[378 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 379. Л. 119–119 об.].
На фоне передачи материалов от одного государственного института к другому произошел конфликт Я. X. Бахмеотова с генерал-полицеймейстером А. М. Девиером. 4 октября комендант подал А. Д. Меншикову первую жалобу. Он сообщал, что А. М. Девиер передал для строительства постоялых дворов 2600 шт. фашин и обещал впредь выдать еще, но после от своих слов отказался и затребовал фашины обратно[379 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 379. Л. 65–66.]. 8 октября Я. X. Бахмеотов добавлял еще один повод для недовольства – «…також не повелите ль ваша светлость на Московской стороне позади постоялых дворов возле канала, которой от Литейнаго двора, построить баню сажен пяти или шести и к ней избу, где б роздеватца, на что буду ожидать от вашего светлейшества повеления, а которую землю близь постоялых домов ваша светлость изволили повелеть употреблять к оным домам, и оную землю ныне Антон Мануилович нам не дает, а отводил ее господину Синявину к церкви Иоанна Предтечи на канал, в которой при строении обстоит велика нужда»[380 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 379. Л. 67 об.-68.]. А. Д. Меншиков, получив оба послания, решил разобраться в деталях спора и обратился к А. М. Девиеру[381 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 180. Л. 483.]. Князь отмечал, что фашины, как и постоялые дворы, принадлежат казне, поэтому определять их на счет Полицеймейстерской канцелярии, а следовательно, и требовать к возврату, некорректно[382 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 180. Л. 483 об.]. Относительно земли, якобы отданной У. А. Сенявину, он просил вернуть ее Я. X. Бахмеотову ввиду большой нужды[383 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 180. Л. 487–487 об.].
Генерал-полицеймейстер имел свою версию событий. Он сообщал А. Д. Меншикову, что разрешил коменданту взять фашины, правда не на Выборгской стороне, где они оказались некачественными, а за р. Фонтанкой. Только Я. X. Бахмеотов туда своих людей не послал. В неполучении земли, по мнению генерал-полицеймейстера, также был виноват комендант: «…а что он о земли писал бутто я Синявину отдал, и я ему такой земли не отдавал, токмо усмотрели мы по должности своей, что канал возле Семиона Богоприимца не в отделке, и оного его к засыпке и в протчих ниских местах, где водою розмыло, потребно земли, о чем мы Синявину говорили и писменно предлагали, чтоб тот канал також и у Литейного двора водою попорченой землею засыпать и сровнять. Сего ради он землю излишнюю, лежащую по сторонам канала Литейнаго, велел возить х каналу Семеона Богоприимца и, где надлежит засыпать и сравнивать, ибо оныя каналы строили от Городовой канцелярии и в ведомстве той состоят и мне в то дело мешатца не для чего. Однако ж он, Бахмеотов, брал земли от сего каналу, токмо что потребно довольнова числа не исполнил, и для того я ему показывал брать не очень далеко в другом месте близ Казачьей слободы на Выборхской стороне»[384 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 577. Л. 169–169 об.]. На этом конфликт был исчерпан.
Среди корреспонденции Я. X. Бахмеотова и А. Д. Меншикова встретился исключительный случай, когда комендант отдавал имевшиеся в его распоряжении ресурсы для других целей. Так, в феврале 1723 г. он получил указ собрать навоз при постоялых дворах и, положив в удобное место, держать в сохранности. Запасы навоза, по повелению государя, должны были затем употребить в сады и огороды Его величества[385 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 191. Л. 62 об.]. 21 февраля 1723 г. Я. X. Бахмеотов уведомлял А. Д. Меншикова, что все указанное исполнено[386 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 390. Л. 140–141.].
От коменданта зависело обеспечение строительства рабочей силой. Как справедливо отмечал А. И. Богданов, строительные работы на постоялых дворах велись силами петербургского гарнизона[387 - Богданов А. И. Историческое, географическое и топографическое описание Санктпетербурга: От начала заведения его, с 1703 по 1751 год. СПб., 1779. С. 141.]. В дополнение к петербургским солдатам в процесс создания зданий и прилегающей к ним инфраструктуры, поиска и доставки необходимых материалов[388 - Военные выполняли следующие службы: строительные работы, посылки для получения денег, разведывательные операции для получения материалов. См.: РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 379. Л. 63–64.] вовлекались иные военные формирования (гарнизоны близлежащих ингерманландских городов, действующие отряды армии)[389 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 379. Л. 46, 175, 312–315 об., 320, 395 и т. д.]. Имея в своем подчинении гарнизонных солдат и офицеров, Я. X. Бахмеотов вел счет привлеченных к работам формирований. Он – а иногда и контролировавший его М. М. Голицын – регулярно посылал А. Д. Меншикову табели с указанием численности, должностного состава занятых на строительстве военных, отмечал характер выполняемых ими работ[390 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 379. Л. 175, 195.]. В ряде случаев комендант вынужден был перенаправлять солдат, находящихся у постоялых дворов, к строительству других объектов (каналов, царских резиденций, бечевника и т. д.). Перетасовки рабочих рук Я. X. Бахмеотову не нравились. Как он отмечал в письме А. Д. Меншикову, они шли в ущерб ходу строительства, так как оставшихся солдат и офицеров для осуществления задуманных мероприятий было недостаточно[391 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 379. Л. 113.]. Комендант следил за своевременной выплатой солдатам и офицерам жалованья, положенного в соответствии выполняемым работам, и обеспечением их мундиром[392 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 379. Л. 70, 174, 194–195; Д. 380. Л. 58.].
В марте 1723 г. из Персидского похода (после короткого пребывания в Москве) в Санкт-Петербург вернулся Петр I. Предполагая, что царь соберется осмотреть новопостроенные постоялые дворы, А. Д. Меншиков беспокоился о реакции правителя на проводившиеся работы. Сам он, как указывалось ранее, в городе отсутствовал, поэтому активно призывал столичных информантов (Я. X. Бахмеотова, М. М. Голицына и А. М. Девиера) в своих письмах упоминать о происходящем. По приезде Петр отправился осматривать все имевшиеся на тот момент комплексы постоялых дворов. Я. X. Бахмеотов в четырех письмах от 4, 7,18 марта и 4 апреля передавал А. Д. Меншикову реакцию государя. Суть различных формулировок сводилась к тому, что «…Его величество оные домы похвалял, что очюнь де построены хорошо»[393 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 379. Л. 143–163 об.]. Государь, согласно наблюдениям коменданта, осматривал строительные работы, уделяя внимание деталям, а не только внешнему виду. Например, его интересовали элементы повседневного быта постояльцев, которые в то время жили в домах[394 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 379. Л. 144.]. Вместе с мнением монарха Яков Хрисанфович извещал князя о похвальных отзывах, полученных от М. М. Голицына[395 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 379. Л. 158.]. Михаил Михайлович и сам доносил А. Д. Меншикову о царской инспекции. В первый раз (4 марта), как сообщал генерал, он при осмотре государем постоялых дворов не присутствовал «за некоторою своею нуждою» и узнал о реакции Петра из донесений Я. X. Бамхеотова (тот «объявил, яко изволил оные милостиво хвалить»)[396 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 518. Л. 266 об.]. 19 марта М. М. Голицын снова писал А. Д. Меншикову, уточняя, что правитель изволил при постоялых домах быть 3 марта и их хвалил, а при прочих работах не был[397 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 518. Л. 274.].
Не полагаясь исключительно на М. М. Голицына и Я. X. Бахмеотова, князь обратился к генерал-полицеймейстеру А. М. Девиеру (он отправлял практически идентичные письма ко всем троим и в одни числа[398 - Он передавал указ, чтобы дома к посещению государя содержать в чистоте. См.: РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 191. Л. 66–66 об., 69, 93 об.-94 об.]) с просьбами своевременно сообщить о мнении государя относительно постоялых дворов тем более что генерал-полицеймейстер еще в 1722 г. по собственной инициативе делился с ним впечатлениями о строительстве. Тогда Антон Мануилович передавал: «…а что на прежней почте вашей светлости доносил, что здесь снег начался идти, но токмо оной после того вскоре пропал и не долго стоял, а ныне пока обстоят изрядные морозцы, и сего числа камендант господин Бахмеотов звал нас на новоселье в новопостроеныя по приказу вашей светлости домы, и тут я и Андреи Иванович Ушаков и протчия были и веселились и изрядно оныя зделаны»[399 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 557. Л. 170 об.]. Об осмотре постоялых дворов Петром А. М. Девиер рассказывал М. М. Голицыну и Я. X. Бахмеотову. 7 марта генерал-полицеймейстер отмечал, что государь строение хвалил, дома ему понравились и, более того, он поделился восторгом с Екатериной Алексеевной[400 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 557. Л. 241 об.]. Поскольку письма доходили и отправлялись с небольшой задержкой, то 18 марта Антон Мануилович снова успокаивал князя, что «домами новопостроенными постоялыми зело Его величество веселился и весьма ему нравны»[401 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 557. Л. 248–248 об.].
Как указывал А. И. Богданов, построенные под руководством Я. X. Бахмеотова постоялые дворы через несколько лет обветшали, и их было решено разобрать[402 - Богданов А. И. Историческое, географическое и топографическое описание Санкт-Петербурга: От начала заведения его, с 1703 по 1751 год. СПб., 1779. С. 141.]. Однако это случилось не во время комендантства Якова Хрисанфовича. После того как дома и прилежащая к ним инфраструктура были построены, коменданту полагалось следить за их содержанием в подобающем виде и иногда достраивать новые элементы[403 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 379. Л. 182, 187–188, 409–410.]. 6 июня 1723 г. Я. X. Бахмеотов доносил А. Д. Меншикову, что сильным ветром разрушило сарай и заборы у новопостроенных постоялых дворов на Московской стороне[404 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 379. Л. 182.]. Несколькими днями позже он объявлял, что к ремонтным работам приступили практически сразу же и исправляют поломки по возможности[405 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 379. Л. 187–187 об.].
Построить постоялые дворы – это была только половина дела. Как оказалось, бо?льшие трудности вызвала необходимость сдать дома внаем или отдать на откуп, поскольку популярностью у населения они не пользовались. Поиском постояльцев и откупщиков, заключением с ними договоров и взиманием платы занимался Я. X. Бахмеотов.
А. Д. Меншиков посылал указания и связывал коменданта с другими государственными деятелями. Указы и ордеры относительно сдачи внаем постоялых домов выходили в Санкт-Петербурге благодаря усилиям М. М. Голицына и А. М. Девиера.
Стремясь принудить приезжих в Санкт-Петербург к пользованию постоялыми дворами, А. Д. Меншиков в октябре 1722 г. указывал генерал-полицеймейстеру А. М. Девиеру: «Предлагаем вашей милости, когда постоялые хотя два или три дома в отделке будут, тогда немедленно извольте публиковать Его императорского величества указом[406 - Генерал-полицеймейстер имел подобное исключительное право публиковать и объявлять с барабанным боем царские указы.], которые люди в домех своих имеют постои или отдают для приезжих всякого чину людей для своей прибыли в наймы, и те б люди впредь в домех своих постою не имели и в наймы не отдали, а кто пожелает иметь из найму постой, и те б люди для найму оных постоялых дворов являлись генералу, ковалеру, его сиятельству князю Голицыну»[407 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 180. Л. 493.]. Письма с тем же содержанием А. Д. Меншиков отправил к Я. X. Бахмеотову и М. М. Голицыну[408 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 180. Л. 492 об., 505.]. Причем первому из них он обещал, если тот приложит свой посильный труд, то будет награжден «Его императорского величества милостью», а последнему добавлял – на случай, если постояльцев в постоялые дома не будет, то «…изволите приказать определить на оные постоялые дворы Санкт-Питербурхского гарнизона из обер-афицеров доброго и правдивого человека, придав ему несколько салдат, и дать ему ордер, чтоб оной в те домы купецких и протчих всякого чину и иностранных людей, кои приезжают в Санкт-Питербурх за своими промыслами и нуждами пускал жить, коликое время кто похочет жить из найму, в цену полажить, осведомясь против того, как в Санкт-Питербурхе до сего времяни бывало и оные домы велеть ему содержать в чистоте»[409 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 180. Л. 492 об.]. Как показывают дальнейшие события, указы о постоялых дворах именем Его императорского величества из Полицеймейстерской канцелярии были опубликованы[410 - 5 ноября 1722 г. Я. X. Бахмеотов А. Д. Меншикову писал: «…и на оное нижайше доношу, о найме новопостроенных постоялых домов указами его императорского величества ис Канцелярии полицымейстерских дел публиковано, токмо еще мало для взятья их на откуп являютца, токмо надеюсь, что не без охотников будет». М. М. Голицын также отчитывался об указе. См.: РГАДА. Ф. 198. On. 1. Д. 379. Л. 107; Д. 518. Л. 163.]. Однако проблем это не решило – откупщиков и съемщиков находилось немного. В феврале А. Д. Меншиков снова писал Я. X. Бахмеотову и М. М. Голицыну о необходимости подтверждения указа, запрещавшего жителям иметь в своих домах постой[411 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 191. Л. 53 об.; Д. 379. Л. 137–138 об.; Д. 518. Л. 256.]. В сентябре 1723 г. просили подтвердить указ сами откупщики (боцман и купец), откупившие постоялые дворы на Петербургской и Московской сторонах[412 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 379. Л. 264.].
Нерешенные проблемы с окупаемостью постоялых дворов вынудили генерал-губернатора апеллировать напрямую к монарху. 2 июля 1723 г. на корабле «Святая Екатерина» по пути в Ревель Петр I объявил изустный указ, запрещавший частный наем жилья и принуждавший приезжих селиться в казенные постоялые дома[413 - Кошелева О. Е. Люди Санкт-Петербургского острова Петровского времени. М., 2004. С. 138–140.]. О распоряжении государя в столице узнали через письмо А. Д. Меншикова, посланное генерал-полицеймейстеру А. М. Девиеру 9 июля, в котором объявлялось: «…всем приезжающим в Санкт-Питербурх купецким и всяких чинов людем, кои домов своих не имеют, ставитца из найму в новопостроенных постоялых дворах, а санкт-питербурские б жители, кто до сего времяни в домы свои постояльцов пускали из найму, впредь отнюдь в домех своих постою не имели. Також у которых людей дворы свои на Васильевском острову построены, и те б люди сами жили в тех своих дворах на Васильевском острову. А ежели кто по сему Его императорского величества высокому указу исполнять не будут, и в том те люди от кого доказаны будут, таким людем учинен будет жестокой штраф яко презирателем Его императорского величества высокого указа. И для того б Его императорского величества указ во всем Санкт-Питербурхе публиковать по многие дни з барабанным боем, дабы впредь неведением никто не отговаривался, а определенным ис Полицымейстерской канцелярии по слободам старостам, соцким, десяцким и протчим надзирателем велеть смотрить того накрепко под жестоким за несмотрение наказанием»[414 - РГАДА. Ф. 248. Оп. 18. Кн. 1206. Л. 240–240 об.].
Как представляется, продвигая подобную законодательную меру, князь упорствовал не столько из-за собственных неоправданных амбиций, сколько исходя из представлений об экономической выгоде: постоялые дворы, на строительство которых были потрачены немалые суммы, должны были приносить казне доход или хотя бы окупить себя. Пока дома стояли без постояльцев и только ветшали, государство несло убытки. Другое дело, что подобная законодательная мера в реальности не была осуществима, поскольку построенные постоялые дворы не могли полностью покрыть потребность приезжих в жилье, а ликвидация практики частного найма влекла за собой убытки для городского населения, получавшего доход со сдачи свободных жилых помещений. Поэтому инициатива А. Д. Меншикова мгновенно встретила противодействие.
11 июля 1723 г. при получении доношения из Главной полицеймейстерской канцелярии у должностных лиц Сената возник вопрос: распространяется ли запрет частого найма на «…афицерских и шляхетских ж, и штатских же чинов людей, детей, которые обретаются в науках, а в Санкт-Петербурге своих домов оные не имеют, стаят в домех у свойственников и родственников своих, а иные и по знакомству»[415 - РГАДА. Ф. 248. Оп. 18. Кн. 1206. Л. 241.]. Для уточнения деталей был сделан запрос в Главную полицеймейстерскую канцелярию, в ответ на который доносилось, что в повторном письме от 15 июля А. Д. Меншиков определял: «…приезжающие купецкие всякого чина люди, разумеющие такие, которые из России приезжают в Санкт-Питербурх с товарами на время»[416 - РГАДА. Ф. 248. Оп. 18. Кн. 1206. Л. 248 об.]. Какие убеждения сподвигли А. Д. Меншикова сузить круг лиц, которым запрещалось селиться в домах горожан, неизвестно. Возможно, на это повлияли аргументы, связанные с практической целесообразностью.
Параллельно за спиной Александра Даниловича развернулась активная деятельность по отмене императорского указа, в которой оказались замешаны люди, имевшие к петербургским делам опосредованное отношение, – П. И. Ягужинский, И. И. Бибиков, П. А. Толстой, А. И. Остерман и Ф. М. Апраксин. О. Е. Кошелева в качестве главной движущей силы «оппозиции» называет генерал-полицеймейстера А. М. Девиера, который, предположительно, первым обратился к П. И. Ягужинскому и И. И. Бибикову с просьбой оказать противодействие инициативе князя[417 - Кошелева О. Е. Люди Санкт-Петербургского острова Петровского времени. М., 2004. С. 138–140.]. Однако имя А. М. Девиера не встречается среди сохранившейся корреспонденции, отправляемой друг другу участниками событий. Как представляется, А. М. Девиер выступал в роли информанта, которому в силу занимаемой должности было доподлинно известно о ходе строительства и использования постоялых дворов и который мог сообщить в вышестоящие инстанции о невыгодности подобного проекта для жизни граждан.
19 июля 1723 г. от имени генерал-прокурора Сената П. И. Ягужинского и обер-прокурора Сената И. И. Бибикова были отправлены два идентичных письма П. А. Толстому и Ф. М. Апраксину. Они, не зная содержания письма А. Д. Меншикова от 15 июля, просили убедить государя изменить указ о частном найме и приводили следующие аргументы: «…обретающияся у дел шляхетство многие служат без жалованья, а которым жалованье хотя и есть и то малое, которого уже многое время не получают, а ежели оные ис того постою выключены не будут, то может произойтить не без великой обиды и напрасных убытков. К тому ж ежели всем как не имеющим дворов, кои без съезду в Санкт-Питербурхе живут, и на время приезжающим, так и выше объявленным харчевым промышленником и ремесленным людем на тех дворех стоять, то не токмо утеснение будут иметь, но и вместитца всем не возможно»[418 - РГАДА. Ф. 248. Оп. 18. Кн. 1206. Л. 242 об.-243.]. Упоминалось и о невыгодности отмены частного найма для самих городских жителей, поскольку они «строили дворы и лишние покои с немалыми себе убытками для отдачи в наймы», уже заплатили за лишние помещения сборы и в случае публикации указа не смогли бы окупить подобных капиталовложений[419 - РГАДА. Ф. 248. Оп. 18. Кн. 1206. Л. 243.].
Ответ Ф. М. Апраксина на посланное к нему письмо в выявленных Источниковых комплексах не сохранился. П. А. Толстой оказал меншиковским оппонентам посильную помощь. Получив письмо от П. И. Ягужинского, Петр Андреевич подыскал «благополучный час» и передал Петру I аргументы, оспаривавшие инициативу А. Д. Меншикова. Государь принял его сторону. 23 июля 1723 г. с корабля «Москва» на Ревельском рейде П. А. Толстой и сопровождавший его А. И. Остерман отвечали П. И. Ягужинскому: «…а что до протчего содержания того указу и до постоялых дворов надлежит, и в том повелел Его величество произведением удержатца до возвращения»[420 - РГАДА. Ф. 248. Оп. 18. Кн. 1206. Л. 244–245.]. Параллельно П. А. Толстой урегулировал еще один вопрос, волновавший Сенат, о строительстве домов на Васильевском острове[421 - Он писал: «…что надлежит до тех, которым велено на Васильевском острову строитца а они как вышеупомянуто не строятца, а иные и построились, да не живут тамо, и о тех его императорское величество повелел всемерно тот указ свой в действо произвесть». См.: РГАДА. Ф. 248. Оп. 18. Кн. 1206. Л. 244–244 об.]. Двумя днями позже, 26 июля, письмо было вручено П. И. Ягужинскому, а в Главную полицеймейстерскую канцелярию направлено постановление Сената – опубликование и объявление царского указа отложить. К решению данного вопроса Петр I не вернулся ни по возвращении в Санкт-Петербург, ни когда-либо еще вплоть до своей кончины.
Стоит отметить, что в данном случае соединились две тенденции, связанные с функционированием социальных связей. С одной стороны, обстоятельства выработки и реализации указа о запрете частного найма и повсеместном распространении постоялых дворов отражают упадок личного влияния А. Д. Меншикова на государя, чьи инициативы чаще всего получали поддержку в столице. Князь как генерал-губернатор Ингерманландской (Санкт-Петербургской) губернии действительно был строителем петровского города-парадиза, но его замешанность в коррупционных делах подрывала безоговорочную веру в его порядочность. С другой стороны, не стоит абсолютизировать роль сил, противостоявших князю. Отмена практики частного найма объективно повлекла бы за собой значительные негативные последствия, которые могли бы оказать заметное влияние на уровень благосостояния городского населения и принести государственным структурам одни лишь убытки и социальную напряженность. Поэтому решение Петра I отложить вынесение окончательного вердикта выглядит вполне логичным.
Имевшиеся в наличии постоялые дворы окупались двумя способами – сдавались внаем или отдавались на откуп. В первом случае постояльцы заселялись в дом, пользовались инфраструктурой (ходили в баню, оставляли лошадей в сарае и т. д.), при необходимости покупали сено и овес, а также другие предметы быта. За все предоставленные услуги с них взималась плата. Постояльцев в домах жило немного: комендант в письмах и доношениях постоянно (особенно в 1722 г.) жаловался генерал-губернатору на пустующие помещения[422 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 379. Л. 107–108 об., 113 об.-114, 116, 129.]. Со временем ситуация немного улучшилась. Параллельно постоялые дворы предлагалось взять на откуп. Стоит отметить, что желающих стать откупщиками можно было пересчитать на пальцах[423 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 379. Л. 107, 113 об.-114, 116, 129, 411; Д. 518. Л. 199.]. Имена их сохранились в доношениях коменданта, которые тот посылал М. М. Голицыну, а М. М. Голицын пересказывал в письмах А. Д. Меншикову. Еще в 1722 г. А. Д. Меншиков указывал М. М. Голицыну отдать на откуп с торга на два года постоялые дворы и при них лавки, которые были построены с краю от Летнего дома государя. Для удобства откупщиков рядом с дворами необходимо было создать ледники и поварни, а также направить к откупщикам для охраны четырех человек солдат, как они ранее просили коменданта[424 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 180. Л. 620–620 об., 621; Д. 379. Л. 124–124 об.; Д. 518. Л. 196.]. В январе 1723 г. князь вновь обращался к Я. X. Бахмеотову и М. М. Голицыну по поводу готовых на тот момент постоялых домов, «…кроме одного, которой построен к Летнему Его императорского величества дому». Он предлагал их сдать на откуп только на один год, так как «…по прошествии года можно ведать, в колико лет оныя домы могут окупитца»[425 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 191. Л. 20 об., 21, 26.]. По прошествии некоторого времени А. Д. Меншиков просил дополнительно уведомить, за какую цену указанные постоялые дворы будут отданы на откуп[426 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 191. Л. 43, 47 об.; Д. 379 Л. 120–122 об.]. Причем князь вместе с М. М. Голицыным настаивали, чтобы «…постоялые домы отдавать в наем, усматривая которыя будут давать больше»[427 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 518. Л. 248.].
Новый откупной срок (один год вместо двух) вызвал недовольство откупщиков[428 - Они просили изменить срок через Я. X. Бахмеотова. См.: РГАД. Ф. 198. Оп. 1. Д. 379. Л. 137; Д. 518. Л. 131–131 об.]. Практически сразу же князю пришлось пойти на уступки. Он соглашался с М. М. Голицыным, отмечая, что, если откупщики не берут постоялые дома на год, тогда сдавать им на два[429 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 191. Л. 53 об.]. Тем не менее, как показывает дальнейшая переписка Я. X. Бахмеотова и А. Д. Меншикова, постоялые дворы в большинстве своем продолжали сдавать только на год. 22 мая 1723 г. Я. X. Бахмеотов писал А. Д. Меншикову и передавал ему просьбу греческого купца Г. Галатьянова, желавшего взять на откуп постоялый дом на Петербургском острове на два года вместо одного[430 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 379. 169–169 об.; Д. 518. Л. 250–250 об.]. Князь, заинтересованный в получении наибольшей выручки, с условиями согласился[431 - РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 191. Л. 175.]. Подчеркнем, что откупщиками постоялых домов по преимуществу становились купцы, которым было выгодно вести торговую деятельность, не отходя от дворов, в лавках, построенных комендантом специально для этих целей.