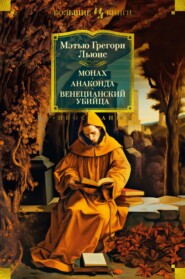скачать книгу бесплатно
– Ты весела, Матильда!
– И у меня есть на то право. Мне только что была дарована радость, какой я не ведала прежде.
– Какая же?
– Такая, какую я должна скрывать ото всех и особенно – от тебя.
– Особенно от меня? Нет, Матильда, я настаиваю…
– Т-ш-ш, отче! Т-ш-ш! Тебе нельзя разговаривать. Но если сон бежит от тебя, может быть, сыграть тебе на арфе?
– Как? Я не знал, что ты осведомлена и в музыке.
– Ах, я играю дурно. Но тебе велено двое суток хранить молчание, и, может быть, моя музыка развлечет тебя, когда ты устанешь от размышлений. Я схожу за арфой.
Она скоро вернулась с инструментом и спросила:
– Так что же мне спеть тебе, отче? Не хочешь ли послушать балладу о Дурандарте, доблестном рыцаре, который пал в знаменитой Ронсевальской битве?
– Как угодно тебе, Матильда.
– О, не называй меня Матильдой! Называй меня Росарио, называй своим другом! Вот имена, которые мне дороги в твоих устах! Так слушай же!
Она настроила арфу и сыграла небольшую прелюдию с величайшим вкусом, доказывавшим, что она в совершенстве владеет этим инструментом. Мотив был гармоничным и грустным. Слушая, Амбросио ощутил, как рассеивается его тревога, а грудь преисполняется сладкой печалью. Внезапно Матильда заиграла по-другому. Смелым быстрым движением она извлекла из струн воинственные аккорды, а затем запела следующую балладу под простой, но мелодичный аккомпанемент.
Дурандарте и Белерма
Песнь о битве в Ронсевале
Так ужасна, так грустна!
Славны рыцарей, что пали
В том ущелье, имена.
Там и доблести зерцало,
Дурандарте был сражен.
Смерть уста ему сковала,
Но успел промолвить он:
«О Белерма! Семь уж лет я
Преданно тебе служил.
От тебя в ответ семь лет я
Лишь презренье находил.
Ныне же, едва ответный
Я огонь в тебе зажег,
Помешал мечте заветной
Сбыться беспощадный Рок.
В цвете лет, в том честь порука,
Я с улыбкой на устах
Смерть приму, и лишь разлука
С милой мне внушает страх.
Монтесинос, родич милый,
Выслушай, молю, меня,
Заклинаю дружбы силой,
Заклинаю светом дня,
Чуть мой дух покинет тело,
Сердце из моей груди
Извлеки рукою смелой
И к Белерме с ним пойди.
Скажешь ей, мои владенья
В смертный миг я ей отдал,
На нее благословенье
Вздох последний мой призвал.
За нее, скажи ей, верно
Я молитвы возносил,
Да помолится усердно
За того, кто так любил.
Монтесинос, близок час мой,
Дай на грудь твою прилечь.
Чу! Слабею, взор угас мой.
Чу! Я выронил свой меч.
Те, что провожали в битву,
Уж не свидятся со мной,
Родич, сотвори молитву
И глаза мои закрой.
Перестанет сердце биться,
Понапрасну слез не лей,
Не забудь лишь помолиться,
Родич, о душе моей.
Пусть к мольбе твоей Спаситель
Милосердно склонит слух
И в Небесную Обитель
Примет мой смиренный дух».
Встретил смолкнувший в печали
Дурандарте свой конец.
Мавры все возликовали,
Что погиб такой боец.
Горько плача, Монтесинос
Мертвые глаза закрыл,
Горько плача, Монтесинос
Для него могилу рыл.
Выполняя обещанье,
Дурандарте грудь рассек,
Чтоб Белерме дар прощальный
Отвезти, любви залог.
Монтесинос над могилой
В лютой горести стенал:
«Дурандарте, родич милый,
Кто тебе подобных знал?
Чести рыцарской зерцало,
Кроток духом, лев в бою!
Горе сердце истерзало,
Как снести мне смерть твою?
Родич, прах твой схоронивши,
Я останусь слезы лить.
Для чего тебя сразивший
Враг меня оставил жить?»
Амбросио с восхищением внимал ее пенью. Никогда он еще не слышал столь мелодичного голоса и удивлялся, что, кроме ангелов, кто-то способен изливать сердце в столь небесных звуках. Но, услаждая свой слух, он после единственного взгляда понял, что не должен подвергать такому искушению и зрение. Певица сидела в некотором отдалении от его ложа, склоняясь к арфе с грациозной непринужденностью. Капюшон был надвинут на лицо не так низко, как обычно, и открывал глазу коралловые губки, сочные, свежие, манящие, а также прелестный подбородок, где в ямочках, казалось, притаилась тысяча Купидонов. Длинный рукав ее одеяния задевал бы струны, а потому она завернула его выше локтя, обнажив безупречной красоты руку, нежная кожа которой могла бы поспорить белизною со снегом. Амбросио осмелился взглянуть на нее лишь раз. Но и одного взгляда оказалось достаточно, чтобы он убедился, сколь опасной была близость этого соблазнительного видения. Он закрыл глаза, но тщетно пытался изгнать образ Матильды из своих мыслей. Она все так же витала перед ним, украшенная всеми прелестями, какие могло измыслить разгоряченное воображение. Красота того, что он уже видел, стократно возрастала, а все скрытое от его взора фантазия рисовала самыми яркими красками. Но по-прежнему он помнил о своих обетах и необходимости строго следовать им. Он вступил в борьбу с желанием и содрогнулся, узрев, какая перед ним разверзалась бездна.
Матильда умолкла. Страшась ее чар, Амбросио не открыл глаз и только молил святого Франциска укрепить его в этом опасном испытании. Матильда поверила, что он спит. Она встала, тихо подошла к постели и несколько минут безмолвно смотрела на него с пристальным вниманием.
– Он спит! – произнесла она наконец тихим голосом, но аббат ясно различал каждое слово. – Теперь я могу смотреть на него, не возбуждая его неудовольствия. Я могу смешать мое дыхание с его дыханием, могу с обожанием созерцать его черты, и он не заподозрит меня в нечистоте помыслов и в обмане! Он страшится, что я соблазню его нарушить обет! О несправедливец! Будь моей целью пробудить желание, разве я стала бы так старательно прятать от него мое лицо? Лицо, о котором я каждый день слышу от него…
Она умолкла, погрузившись в размышления, а затем продолжала:
– Это случилось только вчера! Лишь несколько коротких часов прошло с той минуты, когда он сказал, что я ему дорога, что он уважает меня, – и мое сердце обрело удовлетворение. Но теперь!.. О, как страшно изменилось мое положение! Он смотрит на меня подозрительно! Он велит мне покинуть его, покинуть навеки! О ты – мой святой, мой кумир! Ты второй в моем сердце после Бога! Еще два дня, и мое сердце откроется тебе… Можешь ли ты постигнуть чувства, с какими я смотрела на твою агонию? Можешь ли ты понять, насколько дороже сделали тебя мне твои страдания? Но недалек час, когда ты узнаешь, что моя любовь чиста и бескорыстна. Тогда ты пожалеешь меня и почувствуешь всю тяжесть такой печали!
Голос ее прервался от рыданий, и на щеку Амбросио, над которым она склонялась, упала слеза.
– О, я обеспокоила его! – воскликнула Матильда и торопливо отошла.
Тревога ее была напрасной. Крепче всех спят те, кто решает не просыпаться. Монах был именно в этом положении. Он еще изображал глубокий сон, но каждая проходящая минута все больше лишала сон всякой заманчивости. Жгучая слеза обожгла его сердце.
«Какая нежность! Какая чистота! – восклицал он мысленно. – Ах! Если моя грудь так отзывчива на жалость, что было бы, взволнуй ее любовь!»
Матильда вновь встала, но отошла от ложа еще дальше. Амбросио осмелился открыть глаза и боязливо взглянуть на нее. Она стояла спиной к нему. Скорбно положив одну руку на арфу, она созерцала образ Мадонны, висевший напротив ложа.
– Счастливое, счастливое изображение! – так обратилась она к прекрасной Мадонне. – К тебе он обращает свои мольбы! На тебя взирает он с восхищением! Я думала, ты облегчишь мои горести, но ты лишь сделала их тяжелее. Ты внушаешь мне мысль, что, узнай я Амбросио, прежде чем он принял постриг, он и счастье могли бы стать моими. С каким упоением смотрит он на тебя! С каким жаром обращает молитвы к бесчувственному холсту! Ах, но вдруг эти чувства пробуждает в нем какой-нибудь тайный и добрый гений, друг моей любви? Но вдруг естественный инстинкт подскажет ему… Прочь пустые надежды! Надо гнать мысль, отнимающую блеск у добродетелей Амбросио. Религия, а не красота будит в нем восхищение, и не перед женщиной, но перед Божественностью преклоняет он колена. О, если бы он обратился ко мне с самым холодным из слов, которые изливает перед своей Мадонной! О, если бы услышать от него, что он, не будь уже обручен с Церковью, не презрел бы Матильды! О, позволь мне питать эту сладкую мысль! Быть может, он еще признает, что чувствует ко мне не просто жалость и что любовь, подобная моей, заслуживает взаимности. Быть может, он скажет это, когда я буду лежать на смертном одре! Тогда ему не надо будет опасаться нарушения обета, а признание в его истинном чувстве утишит смертные муки. Ах, если бы я была уверена в этом! О, как искренне вздыхала бы я о смертном миге!
Из этой речи аббат не упустил ни единого слога, а тон, которым она произнесла последние слова, проник в самое его сердце. И он невольно приподнялся на подушке.
– Матильда! – сказал он взволнованным голосом. – О моя Матильда!
Она вздрогнула и быстро обернулась к нему. Это внезапное движение сбросило капюшон с ее головы, и ее лицо открылось вопрошающему взгляду монаха. С каким же изумлением он узрел точное подобие своей Мадонны! Те же безупречные черты, та же пышность золотых волос, те же алые губы, небесные глаза и то же величие – вот каким было дивное лицо Матильды. Вскрикнув от удивления, Амбросио вновь упал на подушки, не зная, видит ли он перед собой смертную или небожительницу.
Матильду, казалось, сковало смущение. Она стояла, окаменев, с рукой на арфе. Глаза ее потупились, щеки залил жаркий румянец. Затем она поспешила вновь скрыть лицо под капюшоном и дрожащим испуганным голосом обратилась к монаху так:
– Несчастная случайность сделала тебя обладателем тайны, которую я открыла бы только на ложе смерти. Да, Амбросио, в Матильде де Вильянегас ты видишь оригинал своей возлюбленной Мадонны. Вскоре после того, как мной овладела моя злополучная страсть, я придумала план, как послать тебе свое изображение. Толпы поклонников убедили меня, что я не лишена красоты, и мне не терпелось узнать, какое впечатление она произведет на тебя. Я поручила Мартину Галуппи, знаменитому венецианцу, прибывшему тогда в Мадрид, написать мой портрет. Сходство было поразительным, и я послала его в капуцинский монастырь как бы на продажу – еврей, у которого ты его купил, был моим доверенным. Да, ты купил портрет. Вообрази же мой восторг, когда я узнала, что ты смотрел на него с восхищением, а вернее, с преклонением во взоре; что ты повесил его в своей келье и обращаешь свои молитвы только к нему. Будешь ли ты после этого открытия смотреть на меня с еще большим подозрением? Однако оно должно убедить тебя в чистоте моей любви и не лишать меня твоего присутствия, твоего уважения. Я ежедневно слышала, как ты восхваляешь мой портрет, я видела, в какой экстаз ввергает тебя его красота. Но я не обратила против твоей добродетели это оружие, полученное от тебя же. Я скрывала от твоего взора черты, которые ты бессознательно любил. Я не пыталась пробудить желание своими прелестями или при помощи твоих чувств стать госпожой твоего сердца. Единственной моей целью было привлечь твое внимание усердным исполнением благочестивых обрядов, стать нужной тебе, убедив тебя в добродетельности моих мыслей, в искренности моей привязанности. И я преуспела! Я стала твоей собеседницей и другом. Я скрыла от тебя свой пол, и, если бы не твоя настойчивость в расспросах и не мой страх перед случайным разоблачением, ты продолжал бы знать меня только как Росарио. И ты по-прежнему хочешь прогнать меня? Немногие часы жизни, какие мне еще остаются, ужели я не могу провести рядом с тобой? О, прерви же молчание, Амбросио, и скажи, что я могу остаться!
Эта речь дала аббату время собраться с мыслями. Он понимал, что в нынешнем его расположении духа не отдаться во власть этой пленительной женщины он мог, лишь избегая ее присутствия.
– Твое признание так меня ошеломило, – сказал он, – что пока я не способен ответить тебе. Не настаивай на ответе, Матильда. Оставь меня пока, я должен побыть в одиночестве.
– Я повинуюсь… Но прежде чем я удалюсь, обещай не требовать, чтобы я покинула монастырь теперь же.
– Матильда, подумай о своем положении, подумай, к чему приведет твое пребывание здесь. Наша разлука неизбежна, и мы должны расстаться.
– Но не сегодня, отче! О, сжалься! Только не сегодня!
– Ты слишком настойчива! Но я не могу воспротивиться этому молящему тону. Раз ты так этого желаешь, я уступаю твоей просьбе и даю согласие, чтобы ты осталась здесь на время достаточное, чтобы в какой-то мере подготовить братию к твоему отъезду. Останься еще на два дня. На третий же… – Он невольно вздохнул. – Помни, на третий мы должны расстаться навсегда!
Она благодарно схватила его руку и прижала к губам.
– На третий? – воскликнула она с мрачной торжественностью. – Ты прав, отче, о, ты прав! На третий мы должны расстаться навсегда.
В ее глазах, когда она произносила эти слова, появилось дикое выражение, пронзившее ужасом душу монаха. А она еще раз поцеловала его руку и выбежала вон.
Амбросио старался подыскать оправдание присутствию своей опасной гостьи, памятуя, насколько оно нарушает устав его ордена, и грудь его превратилась в арену противоборствующих страстей. В конце концов его привязанность к лже-Росарио, подкрепляемая природной его пылкостью, начала брать верх. И победа ей была всецело обеспечена, когда на помощь Матильде пришла самоуверенность, составлявшая основу его характера. Монах рассудил, что преодоление соблазна неизмеримо большая заслуга, чем бегство от него. Он подумал, что ему скорее надо радоваться случаю доказать твердость своей добродетельности. Святой Антоний выдержал все искушения плотской страстью. Почему же он не способен сделать то же? К тому же святого Антония искушал дьявол, пускавший в ход все ухищрения, лишь бы зажечь в нем греховную страсть. Ему же, Амбросио, угрожает лишь смертная женщина, боязливая, целомудренная, причем мысль, что он уступит соблазну, страшит ее так же, как и его самого.
– Да, – сказал он, – несчастная останется. Мне нечего опасаться ее присутствия. Даже если моя воля окажется слишком слабой перед искушением, невинность Матильды мне щит от всякой опасности.
Амбросио только предстояло узнать, что порок еще опаснее для незнакомого с ним сердца, когда прячется под личиной добродетели.
Ему стало настолько легче, что вечером, когда его снова навестил отец Паблос, он попросил разрешения покинуть келью уже на следующий день. И получил его. Вечером Матильда к нему не пришла, но только появилась на минуту вместе с монахами, когда они все пришли справиться о здоровье настоятеля. Казалось, она страшилась разговора наедине с ним и быстро покинула келью. Амбросио спал крепко, но ему привиделось то же, что накануне, а сладострастные ощущения стали сильнее и утонченнее. Те же будящие похоть образы витали перед ним. Матильда во всем блеске красоты, теплая, нежная, обворожительная, прижимала его к груди и расточала ему самые пылкие ласки. Он отвечал тем же и уже готов был удовлетворить свои желания, как вдруг неверный призрак исчез, оставив его всем ужасам стыда и разочарования.
Занялась заря. Усталый, измученный, истомленный своими дразнящими снами, он не захотел встать с постели и не пошел к заутрене. Впервые в жизни он пропустил эту службу. Встал он поздно, и в течение всего дня у него не было случая поговорить с Матильдой без свидетелей. В его келье толпились монахи, желавшие выразить ему свое сочувствие и озабоченность его состоянием. И он все еще выслушивал их поздравления с быстрым исцелением, когда звук колокола позвал их в трапезную.
После обеда монахи разошлись по саду, где древесная сень и укромные уголки предлагали тихий приют для сиесты. Аббат направил свои стопы к гроту отшельника. Взглядом он позвал с собой Матильду. Она повиновалась и без слов последовала за ним. Они вошли в грот и сели. Ни он, ни она, казалось, не решались что-нибудь сказать, охваченные смущением. Наконец аббат прервал молчание, но заговорил он о самых обыденных вещах, Матильда отвечала в том же тоне. Казалось, ей хотелось, чтобы он забыл, что с ним рядом не Росарио. Оба они не осмеливались, да и не хотели даже намекнуть на то, что больше всего занимало обоих.
Веселость Матильды выглядела напускной. Ее угнетала какая-то тяжкая тревога, и голос ее звучал тихо и слабо. Казалось, она хотела кончить разговор, который тяготил ее, и, сославшись на нездоровье, попросила у аббата разрешения вернуться к себе. Амбросио проводил ее до дверей кельи, а там остановил и сказал, что согласен, чтобы она и дальше оставалась товарищем его одиночества, пока ей будет угодно.
Выслушав его, Матильда ничем не выразила радости, хотя накануне добивалась его согласия с такой настойчивостью.
– Увы, отче! – произнесла она, печально покачивая головой. – Твоя доброта опоздала! Мы должны разлучиться навеки. Но верь, я благодарна за твое великодушие, за твое сострадание к несчастной, которая столь мало его заслуживает!
Она прижала платок к глазам. Капюшон прикрывал только половину ее лица, и Амбросио заметил, что она бледна, а глаза у нее запали и стали смутными.
– Боже мой! – вскричал он. – Ты больна, Матильда! Я тотчас пришлю к тебе отца Паблоса.
– Нет. Не надо. Я больна, это правда, но он не сможет вылечить мой недуг. Прощай, отче! Помяни меня завтра в своих молитвах, а я помяну тебя на Небесах!
Она вошла к себе в келью и затворила дверь.