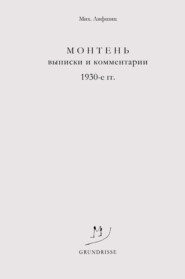скачать книгу бесплатно
Монтень. Выписки и комментарии. 1930-е годы
Михаил Александрович Лифшиц
Настоящее издание продолжает знакомить читателей с неопубликованными до сегодняшнего дня текстами Мих. Лифшица.
В 1930-е гг. Лифшиц изучал Монтеня, делая выписки из «Опытов» и сопровождая их комментариями. Книга о Монтене не была Лифшицем написана, но его эксцерпты сохранились.
«От просветителей Монтеня отличает гораздо более глубокое понимание того, что существующая дисгармония связана с историческим развитием самосознания.
Признавая разнообразие и относительность точек зрения, просветители, в соответствии со своим познавательным объективизмом, искали некоего естественного мнения, исходили из абстрактного противопоставления истины и заблуждения. Развитие сознания было для них благом, противостоящим совокупности всех ошибок и блужданий фантазии и чувства. Для Монтеня характерно более диалектическое, более историческое понимание трагедии субъекта и объекта».
Из комментариев Мих. Лифшица к XIV главе I книги «Опытов» Монтеня.
Михаил Лифшиц
Монтень. Выписки и комментарии. 1930-е гг
АРХИВ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
Издательство благодарит за содействие в публикации
директора Архива РАН В.Ю. Афиани
и
зав. отделом Архива РАН Е.В. Тугову
Работа с французскими текстами: Мария Лепилова
Издание подготовлено Архивом Лифшица и Институтом Лифшица
Издание осуществлено при поддержке Дмитрия Аксёнова
ООО «Издательство Грюндриссе»
e-mail: info@grundrisse.ru (mailto:%20info@grundrisse.ru)
http://www.grundrisse.ru (http://www.grundrisse.ru/)
© ООО «Издательство Грюндриссе»
© Архив РАН
© М.А. Лифшиц, авторский текст
«Выписки и комментарии» Мих. Лифшица относятся к первой книге «Опытов» Монтеня (в настоящее время хранятся в Архиве РАН, папка № 51, рукопись, и папка № 52, соответствующая рукописи машинопись)[1 - Мих. Лифшиц работал с переводом «Опытов» Монтеня, выполненным В. Рудневым, который никогда не был опубликован (Архив РАН, архив М.А. Лифшица, папка № 50, машинопись). Этот перевод отличается от перевода, вышедшего в серии «Литературные памятники» в 1954–1960 гг.]. В этих же папках хранится несколько страниц выписок из первых глав второго тома, не включённых в настоящее издание. Также в данную публикацию не вошли многочисленные замечания Лифшица о Монтене, находящиеся в других папках архива.
Лифшиц делал выписки в 1930-е гг., возможно, для текста о Монтене, который не был им написан, или они были подготовительной работой к предполагавшейся публикации «Опытов» в издательстве «ACADEMIA», главным редактором которого Лифшиц являлся в те годы.
В «Выписках» прямые цитаты из Монтеня соединяются со сжатым пересказом отдельных глав «Опытов» и комментариями самого Лифшица. Макетировка текста в настоящей публикации принадлежит редакции, и в ней комментарии Лифшица, иногда неотделимые от пересказа, выделены сдвигом влево.
Свободное изложение содержания глав и цитаты из Монтеня, часто у Лифшица приведённые без кавычек, также переходят друг в друга.
Все примечания к тексту сделаны Мих. Лифшицем, за исключением особо отмеченных. Выделенные места в тексте, набранные курсивом, принадлежат Лифшицу. Добавления от редакции даны в угловых скобках.
Хотя работа о Монтене не была Лифшицем завершена, его краткие комментарии и даже одно слово порой меняют привычное впечатление о тексте.
«Неосуществлённое входит в общий баланс осуществления целого и часто бывает ближе к сердцу его, как первый набросок может быть ближе к цели, чем законченная картина», – писал Лифшиц в конце жизни.
К Монтеню у Михаила Александровича было особое отношение, как и к породившей его эпохе, которой удалось пройти между молотом и наковальней истории. У французского писателя Лифшиц находит стиль мышления, в определённой мере более широкий и свободный, чем логика «сумрачного германского гения» Гегеля.
Мих. Лифшиц
С. 11 – страница рукописи Мих. Лифшица «Монтень. Выписки и комментарии. 1930-е гг.», глава l-ая, начало ll-ой главы.
Мих. Лифшиц. Монтень. Опыты
Том первый. Книга первая
Пер. В. Руднева
От автора к читателю (1 марта 1580 г.). Представление об естественном состоянии свободы:
«Я хочу показаться на глаза в своём самом простом, естественном и обыденном виде, непринуждённо и безыскусственно, ибо я рисую самого себя. Но и недостатки предстанут здесь как живые, а также и мой естественный облик, насколько это позволяет уважение к публике. Если бы я принадлежал к одному из тех народов, которые, как говорят, до сих пор ещё живут в сладостной свободе первоначальных законов природы, то, уверяю тебя, я с большой охотой нарисовал бы себя целиком и совершенно голым».
Глава I
Различными средствами достигается одинаковая цель
Сострадание и уважение. Не добившись своим обращением первого, можно часто добиться того же, заставив себя уважать, т. е. идя наперекор. Монтень более склонен к «состраданию», чем к «уважению» (вопреки идеям стоиков). Это – черта простонародная. Хотя народ способен иногда и уважать того, кто идёт ему наперекор:
«Можно сказать, что восприимчивость к состраданию есть признак слабости, добродушия и мягкости, откуда и проистекает, что натуры более слабые, каковы женщины, дети и простонародье, наиболее этому подвержены; если же человек, презирая слёзы и жалобы, движим только уважением к священному образу добродетели, то это есть признак души сильной и неумолимой, любящей и почитающей упорную мужественную твёрдость. Тем не менее, и в душах не столь благородных удивление и восхищение могут вызвать подобное же действие; свидетельство тому – фивский народ: возбудив уголовное преследование против своих начальников за то, что они продолжали оставаться у власти долее предписанного и установленного для них срока, он с большим трудом помиловал Пелопида, который был подавлен тяжестью этих обвинений и для своей защиты прибегал только к просьбам и мольбам; между тем те же фивяне не решились даже притронуться к баллотировочным шарам, чтобы судить Эпаминонда, который величественно говорил о свершённых им деяниях и упрекал народ с гордым и вызывающим видом; они удалились с собрания, восхваляя возвышенное мужество этого человека
».
По-видимому, масса способна испытывать изумление перед доблестью, чаще всего жалость, а иногда и то и другое вместе.
«Поистине, изумительно суетное, непостоянное и колеблющееся существо – человек: трудно установить относительно него какое-либо постоянное и неизменное суждение…»
Жестокость завоевателей, которых иногда не останавливает ни жалость, ни уважение.
Итак – непостоянство человека и отсутствие прочной истины.
Глава II
О скорби
«Я принадлежу к людям, наименее подверженным этой страсти, не люблю и не уважаю её, хотя весь свет стремится, как бы по заказу, окружить её особым почётом, облекает её в одеяния мудрости, добродетели, совести: глупое и чудовищное разукрашивание! Итальянцы окрестили её более подходящим именем «злобы»
, ибо это качество всегда вредоносное, всегда безрассудное; и, как чувство трусливое и низменное, стоики воспрещают скорбь своему мудрецу».
Здесь Монтень, отвергающий (гл. 1) стоическое пренебрежение к жалости, берёт у стоиков отвращение к скорби.
Высшая форма скорби переходит в равнодушие. Высшая скорбь неизобразима. Ниобея превращается в камень, вследствие этого способность испытывать скорбь, плакать и т. д. есть уже некоторое облегчение, «освобождение от пут».
Вообще сильное чувство переходит в бесчувствие, в изнеможение. Пример – «ледяной холод», охватывающий влюблённых под влиянием крайней пылкости. «Лишь умеренные страсти в состоянии мы вкушать и переваривать». Смерть от радости и т. п.
«Я мало подвержен этим неистовым страстям; моя восприимчивость от природы груба, и чем более я размышляю, тем более она обрастает корой и притупляется».
Итак – переход из одной противоположности в другую в случаях крайней резкости чувства. Лишь среднее поддаётся человеческому восприятию вообще. Необходимость известной грубости и невосприимчивости. Переход излишней утончённости и развития чувств в недостаток.
Глава III
Наши душевные движения увлекают нас за пределы нас самих
«Те, которые обвиняют людей в том, что они всегда жадно устремлены к будущему, и учат нас держаться благ настоящего и довольствоваться ими, ибо грядущее так же мало находится в нашем обладании, как и прошлое, затрагивают одну из самых распространённых человеческих ошибок, если только позволительно назвать ошибкой вещь, на которую наталкивает нас сама природа, с тем, чтобы мы продолжали её дело; природа внедряет в нас, наряду с прочим, это ложное воображение, более заботясь о наших действиях, чем о нашем познании. Мы никогда не находимся у себя: мы всегда вне себя: опасение, желание, надежда бросают нас в будущее, лишают способности ощущать и созерцать то, что есть, ради удовольствия забавляться тем, что будет, быть может, даже тогда, когда нас уже не будет. Calamitosus est animus futuri anxius
».
Выход за пределы нас самих есть ошибка, но она вложена в нас природой, которая заботится о наших действиях. Эта ошибка нужна для продолжения дела природы. Но можно привести её к менее опасному виду:
«Вот великая заповедь, на которую часто ссылается Платон: «Делай своё дело и познай себя». Каждая из двух частей этого предписания объемлет наш долг целиком и вместе с тем объемлет другую часть. Тот, кто захочет делать своё дело, увидит тотчас же, что первая его задача – это узнать, что он такое и что ему свойственно; а кто познал себя, не примет уже чужое дело за своё; он прежде всего любит и совершенствует себя, отвергая всякие излишние занятия, бесполезные мысли и предложения…»
Делай своё дело, но не обманывайся, не заглядывай слишком далеко, и ты будешь делать своё дело ещё лучше, чем раньше. Итак – разумная умеренность стремления так же необходима для продолжения дела природы, как и само стремление. Наоборот – чрезмерное забвение настоящего вредно для той же непрерывности развития. Идеал равномерного движения.
После смерти должно совершиться правосудие. Стремление к одностороннему прославлению монархов после их смерти несправедливо (хотя при жизни их им следует подчиняться). После смерти наше дело кончено. И здесь не должно быть исключений. Народ, терпевший дурного короля, должен быть вознаграждён за это, а его господин наказан в мнении людей.
«Среди правил, касающихся усопших, мне кажется наиболее обоснованным то, которое предписывает обсуждать деяния государей после их смерти
. Воля государей стоит наравне с законами или даже господствует над ними; ту власть, которой правосудие лишено по отношению к ним самим, справедливо предоставить ему по отношению к их доброму имени, достоянию их преемников, – вещь, которую мы часто предпочитаем самой жизни. Это обычай, чрезвычайно полезный для тех народов, у которых он соблюдается, и желательный для всех добрых государей, которые иначе могли бы пожаловаться на то, что их память и память дурных государей окружается одинаковым почётом. Оказывать покорность и повиновение мы обязаны в равной степени всем королям, ибо это относится к их сану; но уважение, а тем более любовь мы должны питать только к их добродетели. Ради государственного порядка будем терпеливо сносить их, недостойных, скрывать их порок, поддерживать нашим одобрением их безразличные деяния, пока их авторитет нуждается в нашей поддержке; но раз окончена наша связь с ними, нет основания отказывать справедливости и нашей свободе в праве выразить наши истинные чувства; в особенности, не следует лишать добрых подданных славы почтительных и верных слуг господина, недостатки которого им были хорошо известны; этим и потомство было бы лишено столь полезного примера. И те, которые в уважение к каким-либо личным обязательствам несправедливо прославляют память государя, не заслуживающего похвалы, удовлетворяют справедливости частной за счёт справедливости общественной. Тит Ливий правильно говорит, что «язык людей, воспитанных в монархии, всегда полон пустого чванства и ложных свидетельств»
. Каждый стремится поднять своего монарха на высшую ступень значения и державного величия…»
Своеобразный демократизм в духе греческого равенства перед лицом Аида; чувства, выраженные здесь, вполне народны и выдержаны в обычном для Монтеня духе умеренности и подчинения, сознания собственного достоинства и сознания относительности всякого величия. Итак – для Монтеня, по крайней мере, в идеальном мире славы, господствуют справедливость и равенство, оценка не по занимаемому месту, а по личным заслугам и добродетелям, что неприменимо в самой исторической жизни народов. Он осуждает спартанцев за чрезмерные проявления скорби после смерти царя и обычай восхвалять его независимо от личных достоинств умершего.
«Никто не может быть назван счастливым, пока он не умер», сказал Солон. Но когда человек умер, он уже не может быть счастлив. «Не лучше ли было бы поэтому Солону сказать, что человек никогда не может быть счастливым, ибо он смог бы стать таковым лишь после того, как уже перестал существовать».
С особенным неудовольствием отзывается Монтень о тех, кто слишком заботится о своей земной карьере после смерти, о церемониях погребения и т. д., и вообще о всех, кто не может понять, что после смерти он уже не существует. Впрочем, эти люди счастливы в своём заблуждении.
Мимоходом высказывается он о своём политическом идеале:
«Я почти готов проникнуться непримиримой ненавистью ко всякому народоправству, хотя эта форма правления представляется мне самой естественной и правильной, когда вспоминаю о бесчеловечности и несправедливости афинского народа, который приговорил к смерти без помилования, не пожелав даже выслушать оправдания, своих храбрых военачальников, вернувшихся после выигранной ими у лакедемонян морской битвы близ Аргинусских островов, – самой упорной и жестокой из всех битв, какие когда-либо выдержали морские силы греков. Вина осуждённых состояла в том, что после победы они действовали, как того требовала военная обстановка, вместо того, чтобы остановиться собирать тела своих убитых и предавать их земле».
Впрочем, нужно понимать, что этот идеал имеет теоретический характер, так же, как посмертная справедливость.
Глава IV
Как душа обращает свои страхи на ложные предметы за неимением настоящих
К эстетике Монтеня:
«И в самом деле, подобно тому, как, подняв руку для удара, мы чувствуем неудовольствие, если удар наш ничего не встречает и падает в пустоту; подобно тому, как открывшийся перед нами вид будет приятен лишь в том случае, если взор наш не теряется в неопределённом пространстве, но встречает на подходящем расстоянии холм, на котором он может задержаться…»
Старинное пластическое воззрение. Против бесконечного, бесцельного, беспредметного блуждания взора в пространстве. Требование определённости, законченности, успокоения.
Чтобы разрядить свои чувства, мы прибегаем к самым разнообразным предметам, изливаем своё горе или нежные чувства каким угодно способом, лишь бы остаться в бездействии. Насмешки над чрезмерным гневом и тщеславием великих мира сего, разнообразные примеры.
Глава V
Должен ли начальник осаждённой крепости выходить для переговоров
Глава посвящена выяснению вопроса о том, допустима ли хитрость на войне. Не всё ли равно, как победить? Как правило, выходить из крепости не надо, это опасно; но бывают случаи, когда переговоры приводят к лучшему.
«Я вообще легко доверяюсь людям; но мне трудно было бы это сделать, если бы имелся повод думать, что я поступаю так в силу безвыходности положения, скрепя сердце, а не по свободному желанию, из доверия к добросовестности других людей».
Глава VI
Час переговоров – опасный час
Основное содержание главы: в наше время, весьма далёкое от честности, не следует доверять друг другу, особенно во время переговоров. Впрочем, и древние нередко считали, что зло, причиняемое неприятелю, выше справедливости. «Война естественно имеет много привилегий над разумом и в ущерб ему». Однако существуют известные правила честности, впрочем, весьма условные.
Глава VII
О том, что наши поступки надо судить по нашим намерениям
Ложное осуществление обязательства, при одновременном обходе его посредством уловки, непростительно. Неосуществление данного обязательства в силу фактической невозможности равносильно осуществлению.
Рассуждения и примеры примыкают к рыцарскому правилу доверия, высказанному Монтенем в конце главы пятой. Истинно аристократического в области понимания чести у Монтеня вообще очень много. И это совмещается с осмеиванием крайностей спеси, чванства, тщеславия, фразёрства и прочих исторических добродетелей шляхетства. Истинно аристократическая умеренность «порядочного человека» является, таким образом, шагом к республиканскому рыцарству буржуазной демократии, к идеалу общественного равенства и даже к кантовскому закону субъективной морали. Но ступень эта по-своему выше последующей. Субъективная мораль позднейшей буржуазной идеологии заключает в себе гораздо меньше истинно человеческих черт. В ней заключён нравственный иезуитизм, приводящий к полной бесчеловечности, к самообожанию субъекта, полуангела, полузверя, к идеалистическому, высокопарному оправданию чистотой намерений всякой гнусности в мире. Эту глубокую внутреннюю непорядочность буржуазного самосознания, субъекта, ограниченного буржуазным кругозором, заметил и прекрасно изобразил Констан в своём «Адольфе».