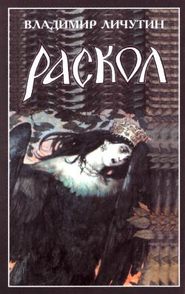скачать книгу бесплатно
– Как ты хошь, старица, но не лежит у меня душа в этот вертеп ехать. Там каждый угол дворскими псами мечен, так и смердит. А глазами-то едят, да раздевают, кобелины. Будто уличную б… ку…
– А ты не бери, девонька, в ум. Душу-то эдак вот, в кулачок, сожми, а нос-от в мохнатушку спрячь, да и смело иди, будто никого нет. К чистому да совестному грязь не пристанет… Ты на дворню не угрюмься, не сутырься с нею. Тоже ведь люди подневольные. Не всякого Бог-от сразу привечает, а попускает во гресе; когда-то еще очнется тот человечина. А ты не возгоржайся, матушка, что ко Христу скоро припущена… Ну да что зря говорить: ступай давай не промедля. Мертвые живых не ждут.
… Ой, Мелания, ой, матушка сокровенная; каждое словечушко твое – золото да серебро; и откуль, из каких глубин сердечных берутся те потаенные истинные слова, кои восколеблют и самую унылую душу…
И подумала тут Федосья Прокопьевна: да и что я, всамделе, сама себя поедом ем? Марьюшка ждет, лежит окоченелая, уже вся во Христе, меня, поди, заждалася душа ее любовная, а я здесе-ка, во своем терему ширюсь, как воевода на кормлении…
И прижала боярыня наставницу к широкой груди, приклонила ее сухонькую головенку, словно к высокой приступке, и понянчила возле сердца; черный платочек кулем, повязанный вроспуск, пахнул росным ладаном и маслицем, и сухариками ржаными, и дымком курильницы. Вот она, исповедница, судьбою отмеченная: сама, как конопушка, воробей подзастрешный, а вся от головы до пят, будто единое Божье слово; рассудила разом, как от ковриги ломоть однорушный отсадила ножом, и сказала: де, на, Федосья Прокопьевна, отъедайся на моих словесных хлебах.
… Самой себя испугалась боярыня: ой, не выеден изнутри ветхий человек, так и клянчит себе послабки, чтобы оступилась, дала воли ко греху.
И уже большухой, московской именитой вдовою, свойкой государю, пошла Морозова за дверь; и сенные девки не успели подхватить ее под локотки. Прочь, прочь!.. Что я, пирог слоеный, чтобы рассыпаться на крохи от встряски? Еще ноги, слава Богу, держат, и жилы не набрякли от многопирования, но, словно можжевеловые коренья, прочно пронизали тело…
* * *
На Пожаре, высоко взметывая пламя, зловеще горели сторожевые костры. Возле стрельцов увивались бродячие собаки, робея, жались к ногам. У рыбных рядов впаялись в мартовский снег сани, выставив в небо оглобли; мужики ночевали тут же, закопавшись в возы, иные паслись у кружечного двора. Боярыня не сразу свернула во дворец, но велела проехать к Васильевскому спуску. В Кремле гудели скорбные колокола, по стенам зорко стерегла воинская спира, гремя бердышами и топорками, порой била в тулумбасы, беспокоя ночь. Боярыня вышла из каптаны на Болоте, невдали от палаческой колоды, приказала челяди ждать; настуженный воздух пахнул рыбьей кровью, максой, требушиной и свежими огурцами. Наверное, с вечера привезли корюшку с Белоозера. По аспидному небу шатались сполохи, вороны угрюмо крыкали над иноземными торговыми лавками.
Боярыня, шаркая валеными пимками, осторожно спустилась по покати берега к урезу льда и будто угодила в погребицу, такая мертвящая тишина объяла ее. Глухо было, темно, хоть глаза выколи, за Москвой-рекою с протягом выли волки, прибиваясь к церковным звонам. Щербатые кирпичные стены дышали стужею, казалось, за каждым уступом скрывались варнаки; всхолмленная небесная твердь нависла над головою, готовая придавить. И в груди Федосьи Морозовой тоже застыло все, как в черепушке, выставленной на мороз. Боярыне хотелось узнать глубину грядущего одиночества и сиротства, и тут она почуяла его: жизнь кончилась, незачем было продлевать ее, а Бог не призывал к себе. В ледяной погребице, куда нечаянно сунулась Федосья, вся мирская шелуха разом опала с плеч, как нищее платье; словно голую, выставили архангелы боярыню на посмотрение пред Христом, чтобы узрел Господь, как в стеклянной склышечке, насколько черна ее душа…
Боярыня вздрогнула; ночной холод ознобил ее всю, прокравшись под подол костыча… Опомнилась. Зачем оказалась здесь? Чего нашла сокровенного?.. Да вот сподобилась тайне, как причастилась и соборовалась.
Федосья оглянулась, подняла глаза вверх, будто со дна лесной лощины, обросшей дубравником. На горе, в белесом зыбком облаке отраженного кострового света и небесных залысин, табунком толпилась челядь, упорно вглядывалась в толщу тьмы, боясь потерять госпожу. Боярыня всхлипнула от жалости к себе и вдруг с пронзительной остротой ощутила утрату; ресницы сразу склеились, а в груди не то чтобы облегчило, но все готовно приготовилось к скорби.
Федосья Прокопьевна скорым шагом пересекла заулок у рыбных рядов, залезла в избушку каптаны, задернула тафтяную завесу на окне, велела ехать ко Двору. И все время, пока тихой ступью попадали по Болоту мимо стрелецкой вахты и свертывали на Никольский мост надо рвом и сторожа с фонарями, проверив поезд, со скрипом отворяли железные ворота в башне, пропуская в ночной Кремль каптану, окруженную многой челядью с батогами и сенными девками, стоящими у переднего щита и на наклестках саней; и пока ехали мимо Чудова и Борисовских дворов к Успенскому собору, наконец-то остановясь на Соборной площади в затулье близ Благовещенского храма; и после, когда скорым шагом спешила на внутренний Постельный двор за переграду мимо церкви великомученицы Екатерины, – так вот, во всю эту дорогу у Федосьи было каменно-застывшее лицо и никого не видящие глаза, по-рыбьи округлившиеся, похожие на мартовские льдинки, в глубине которых свернулась розоватая слеза.
В сенях царицынских хором толпилась служба; пахло талым воском, ладаном и тем неуловимым сладковатым духом, что посещает дом сразу с приходом покойника. Боярыня сбросила лисью шубу на руки мовнице, жестко протерла ладонями лицо, чтобы снять мертвящую личину, перекрестилась пред надвратным образом Матери Небесной; две отроковицы, облаченные во все черное, распахнули пред нею дверь в спальный чулан.
Федосье показалось поначалу слишком людно в опочивальне. Хлопали двери, не стережась, туда-сюда шаталась челядь; ходил крадущимся валким шагом крестовый поп Феофан и кадил, гремя цепями курильницы; крестовый дьякон читал Псалтырю; теремные нищенки, обмыв государыню в мыленке и завернув в смертное, принесли покоенку прямо на лавке и поставили посреди чулана; мовницы скатали постелю в трубу и вытащили в сени, кисейный полог связав в узел; царицына кровать без глубоких пуховых перин, сголовьиц и крахмальных одеяльниц осиротела, и спаленка сразу так опустела, словно хозяйка съехала в новые хоромы. А разве и не так?.. в Христовы чертоги отведет Марьюшку шатающаяся средь небесной тверди зыбкая лествица. Но праведного жития была Госпожа, и спосыланные ангелы помогут вскарабкаться душе чистой к подножью Вышнего престола.
Ее же хладеющая безмолвная оболочка, завернутая в саван, как гусеница в белоснежный кокон, недвижно покоилась на лавке. Напоследок вошли в чулан мамки, вынесли прикроватную колоду, обтянутую бархатом, и комната как бы совсем отъединилась от живого мира, приуготовилась к похоронам.
Федосью тут ждали. Она еще с порога поняла это; ждали и как бы не верили, что явится суемудрая в «вертеп». Насурмленные брови Анны Ртищевой безмолвно взметнулись и опали. С двух сторон лавки стояли четыре креслица немецкого дела, обитые золотной парчою. И как бы по странному списку на трех подушках, горестно пригорюнясь, сутулились три Анны: Ртищева, Хитрова и Морозова.
Сестра покоенки, Анна Ильинишна, комкала в ладонях батистовую фусточку: наплакалась, сердешная, до дурноты; да и как не уреветься, ведь не только родную сестреницу спровадила в вечную разлуку, но и потеряла надежную тропу в Терем. И Федосья Прокопьевна, глядя на свойку, искренне пожалела ее, простив сразу все грехи. Действительно: с глаз хитрая, в словах увертливая, голосом шумливая, повадками нахальная. А разгостится да спознается, – такая ли добрая и развеселая; и шутку иной раз такую подкинет, что и молодой разбитной женке не скроить… Анна Ртищева, хоть и близкая родница, но гордовата и ломовата, Никоновы отирки, любит, чтобы все по-ейному стало, чужой воли не терпит и всякую святую душу под свой норов приклоняет… Анна Хитрая с виду сама простота, а с исподу – змеюка подколодная, всю царицыну жизнь под себя уноровила, только что в кровати не ночевала. Два-оба с Богданом, как псы цепные, улеглися у престола…
Опустилась Федосья Прокопьевна в креслице и, не глядя на верховых боярынь, принагнулась к упокоенке, поцеловала скрещенные руки и губы, и лоб усопшей. А, чего там: смерть не красит человека. Ведь как крепилась Федосья, велела себе настрого держаться, чтобы ни слезинки из глаз; знала себя, лишь дай послабки, а там прихватит до родимчика, не остановить. И вдруг горло запрудило, ком приступом накатил из груди, Федосья Прокопьевна ойкнула, не сдержалась, заскулила по-собачьи, сбивая к затылку сборник, выцапывая седые пряди себе на глаза, словно собралась волосами обирать с лица слезы. И завыла в полный голос, запричитывала, плотно ударяя ладонями по коленям. Поди, до государева Терема донесся пронзительный воп боярыни: «Ой, да на кого ты нас и спо-ки-ну-ла-а-а… !»
Анна Ильинична вздрогнула, обняла за плечи свойку, прижала к груди, чтобы не рвалась печальница к усопшей. Анна Петровна Хитрова подумала с тайным торжеством: «Сутырщица-поперечница, злая раскольница. Притащилась в хоромы в сарафане. На кого взнялась?.. Повой, пореви. Это и ты спехала царицу в могилку допрежь времен. Марьюшка-то покоенка была поноровщица-потаковщица тебе, много сердца поизорвала, улещая государя… Эх вы, на горе стоите, да никого не видите. Людей-то ни во что не ставите, пока живы те. Пусть слеза свинцовой пулей застрянет в сердце. Авось поумнеешь, суемудрая…»
– Ну, будет тебе убиваться-то. Мы не реветь сюда созваны, – скрипуче осадила Хитрова, стараясь оттеплить голос. – Мертвых из могилы не принашивают, – добавила невпопад. Хорошо, никто не расслышал последних укорливых слов. Тут сенная девка внесла жбанчик сыченой воды, налила в кубок, и Анна Ильинишна напоила страдницу, будто уснувшую на ее высокой груди. Сомлевшей Федосье Прокопьевне стало так уютно, спокойно от горячего телесного духа, волнами истекающего от свойки. И не то чтобы вдруг стало стыдно за свой воп и кликушество, но неловко оттого, что она, Федосья, как бы отняла, присвоила главное горе царицыной сестры.
Надсада потиху отступила от сердца, в горле унялись клекоты и всхлипы. И вдруг из подклети, где жили теремные нищенки, по обогревным колодцам, как из подземной таинственной часовенки, просочилась в спальный чулан духовная песнь, словесно невнятная, но в звуках удивительно приимчивая к душе. Старицы пели с приголашиванием, высоко вздымая голос и взойкивая. Федосья Прокопьевна невольно прислушалась и тут совсем очнулась, глубоко вздохнула. Колыбнулось тонкое пламя свечи в руках покоенки, и царица умиротворенно улыбнулась, благость и нездешний покой разлились на крахмально-белом вытончившемся лице.
«Ой, что же я улилася? Подумают, притворщица, – укорила себя Морозова. Тайная постриженица почувствовала власяницу, жестко прильнувшую к увядшим сосцам и к впалой родове с провалившимся пупком. Как бы сама мать – сыра земля позвала: „Фео-до-ра-а“, – и украдчиво обняла боярыню-монашену. – Ведь слезами дорогу не торят. Христовы невесты плачут потиху и роняют слезы, как свеча ярый воск, чтобы каждой каплею пронимало душу насквозь».
Морозова приощипнулась по-бабьи, расправила складки синего костыча на коленях, приодернула вниз сарафан на валяные переда черных пимков, усеянных каплями ворсистого талого снега; и снова, как прежде в сенях, жестко растерла ладонями, размяла коченеющее лицо. Будто холод от усопшей проникал глубоко в Федосью и выстужал ее всю.
«Прежде с нею экого не бывало, – досадливо подумала двоюродница Анна Михайловна Ртищева; она невсклонно сидела напротив, будто проглотив аршин, с высоко поднятой головою, по-птичьи, из-под крутых коричневых век зорко приглядывая за Морозовой, как площадной расправы подьяк. – Что же она, привереда, срядилась в царев Верх, как последняя скотница во хлевище? Не зря бают, что монастырь на дому устроила… Келейниц прячет по погребицам да в подызбице».
А душа царицына тем часом витала по чулану, сыскивая такого места, чтобы, не выпархивая в окно, вместе с тем видеть все хоромы с чадами и домочадцами; и стены, такие прочные снаружи, куда, казалось, и мышь не протянется, стали вдруг прозрачными, как родниковая вода в хрустальной склянице; и каждую царевнину спаленку, охраняемую зоркими мамками, она посетила, проникая в родную кровинку через дрожащие во сне ресницы и невинное дыхание; царевич Алексей, ее любимец, стоял, растерянно угрюмясь, возле аспидного столика и сам с собою играл в шахмат, подолгу грея в ладонях тяжелые костяные игрушки; вдруг не удержал королеву, сронил в глубокий шемаханский ковер; нагнулся за фигурою – что-то мягко-нежно, словно опахало из павлиньих перьев, мазнуло по виску, и отрок кинулся лицом в подушки и заплакал горючими слезьми, жалея маменьку, не желая с нею расставаться; Алексей Михайлович, несмотря на поздний час, стараясь рассеять смуту в черевах и нудное нытье в боку, снова налил в нефритовый кубок белого ренского и выпил, унимая не столько боль, сколько сердечную тоску; ему бы сейчас в царицыных хоромах быть, где остывала благоверная госпожа, и уряживать вместе с верховыми боярынями в последнюю дорогу, но вот по заповеданным Дворцовым уставам нельзя мешать женским срядам.
Спальники сторожили по лавкам каждый знак государя и, не зная, чем помочь его горю, искренне желали, чтобы Господь наслал на царя опойный сон. Алексей Михайлович присел к столу, выудил из серебряного ставика лебяжью остро заточенную тростку и принялся писать царице прощальное письмо, с тем чтобы положить его тайком во гроб. Ставня, плохо ли закрытая на засовец, иль от чьей неведомой руки, но вдруг гулко отпахнулась, так что Алексей Михайлович болезненно вздрогнул, и в продух влетела белая голубка с рыжей коруною на голове, опустилась на переднюю застенку раскинутой ко сну постели и загулькала свирельным горлышком.
Дурной знак! – всполошились спальники, не зная, кого винить, кинулись к ночной незваной гостье, обступили кровать; голубица заметалась по опочивальне, вскружила по-над головами и вдоль стен, взмахом крыл потушивая витые свечи, но закогтилась в тафтяной завесе полога, заплелась в ней и, трепеща, замгнула в ужасе глаза. Царь велел осторожно выпутать птицу и подать в руки. У нее было горячее, знобкое, скользкое тельце, сердце готово взорваться в атласной грудке, и заполошный стук его упруго отдавался в ладонях, прося милости. Государь бережно подул в пестрый хохол, и голубка, уверясь, что жива пока, открыла змеиный, какой-то блестяще-жесткий, непроглядный чернильный зрак, обведенный розоватой каймою…
Нет-нет, то не Марьюшкина нежная душа посетила. Ей-то что за толк отлетать от домовины? поди, няньки уже поставили на подоконье тарель с просяным зерном и водицы корчик, чтобы не оголодала, сердешная, и Марьюшка, тоскуя, уместилась где-нибудь поверх канарейных избушек и досматривает, как спроваживают ее из мира земного родня и челядь…
От этих мыслей что-то оттеплило в груди, царь вздохнул освобожденно и выкинул залетку в ночной морозный кудрявый морок, густо завесивший окно. Сам же захлопнул ставню и набросил крюк. Стольники, чуя укоризну и скрывая растерянность, снова расселись по лавкам, принялись вполголоса судачить, обсуждая случай, припоминали пришедшие в ум досюльные приметы. Государь слушал их вполуха, уверившись, что прилетал вестник за ним; он отбросил сомнения и древние прилики и, минуя сени, где толпились бояре, отправился к Марьюшке.
… Царица лежала на лавке, как фарфоровая кукла, губы уже обвело синим; в подглазьях и на крутизне выступивших скул проступила рыхлая ржавчина.
– Чего расселися? Чего рассупонились? – вдруг всполошилась Анна Ильинична. – Расплылись, как бражное сусло. Христос-от не ждет распустих… Кто ко времени на запятки не вскочит, тому в прибавку сто лет терзаний.
Четыре свойки, приопомнясь, принялись уряживать покоенку. Убрали волосы, покрыли золотной скуфейкой; из суремницы, низанной жемчугом, с помощью спиц вычернили брови и ресницы и седатые паутинные волосы на висках; будто языческую куклу, толсто умазали царицу белилами и впалые щеки нарумянили турским баканом, и губы навели багрецом. Федосья Прокопьевна подавала боярыням коробочки и бочечки яшмовые, и кипарисовые шкатунцы, и погребцы сандалового дерева, клеельницы и скляницы, и ароматницы, стараясь не глядеть на усопшую, как бабьими руками превращается царица в труп повапленный, теряющий всякое сходство с родименькой Марьюшкой, подружней и заступленницей. Боярыни с таким усердием охорашивали мертвенькую, так вошли во вкус, прикусив язык от старания, с таким тщанием мешали белила и краски и прыскали гуляфными вотками из фарфурных скляниц, будто на брачное ложе собирали покоенку.
«Ой, матушка, – думала Федосья, – что же ты не посхимилась, сердешная, в крайний час? как бы ладно, уютно в ряске лежать, да в скуфеечке и в полотняных ступнях. Невинное Божье чадо! Бог-от чует безгрешных загодя, на сто лет вперед, и подгадывает к себе, как Христовых невест ко своему венцу. Вот ужо перекосит его с обиды, будто уксусу изопьет…»
… Вмешаться бы, да заново умыть Марьюшку родимым простым костромским мылом, согнать с чела мертвенную усталость и в хладные изболевшие уста влить живой заговорной водицы…
«Ой, миленькая, как мне без тебя жить-то-о?!» – беззвучно всплакала Федосья и, чтобы не взвывать снова в голос, кинулась в сени, где толпились мовницы, постельницы и рукодельные мастерицы, мамки и комнатные девки. И тут челядь, как по зову, рассыпалась по клетям, к нижнему рундуку, забилась в повалуши и чуланы; в переходе, как на грех, появился царь, Федосья Прокопьевна вздрогнула, проглотила слезный ком и растерялась не от страха, но не зная, куда девать себя, как повести; боярыня так давно не видела государя и, часто слыша про гнев его, вдруг зашлась душою, обмерла. Государя, отступя шага на три, провожал дворецкий Хитров, за ним сгрудились грудастые стольники, и в той ватаге увидела боярыня и своего сына, юного Ивана Глебовича…
Щетинистые брови царя удивленно вздернулись, когда разглядел боярыню в пестрядинном холопьем сарафане. Царь остановился, не доходя сажени; Морозова как бы перекрыла ход в спальный чулан…
Федосья Прокопьевна простила бы царя, если бы увидела его в несчастии, с почерневшим от горя лицом. Он же был в лазоревом зипуне и легких сафьянных, шитых золотом чувяках, лишь черная байбарековая скуфейка напоминала о туге. Мягкий перелив от платья беззаботно оттенял какое-то светлое, иссмугла лицо; в каштановом ожерелье бороды червленно горели, почти пылали губы, сложенные сердечком, голубые глаза были безмятежно сонны.
«Ах кот, ну и коти-на-а, – мстительно, неправедно подумала боярыня, скоро загораясь сердцем. – Мало ты шастал по повалушам, снимая сливки, не убоясь любодейного греха. Вот и радость отныне, не станет попрека и укора. И что тебе совесть, ежели стыд порастерял и самого Господа не чтишь, изгнав из своего Дома…»
Но она поклонилась низко, скромно отступя в сторону, потупила взгляд. От царя не укрылись припухлость зареванного лица, синие пятаки под глазами. Но царь помнил еще просьбу покойной и, отделившись от челяди незримой стеною, когда всякое слово становится уместным, вдруг поймал широкий, внапуск, рукав белоснежной сорочки и спросил грубо, властно:
– Федосья… Что ты бегаешь от меня, как черт от ладана? Царица помирала, просила даве за тебя… Иль я басурман? Иль на мне рога бесьи?.. С Соловков вот тоже шлют подметные листы: де, я рожок антихристов. На, пощупай.
Царь порывисто принаклонился, содрал с головы байбарековую еломку, волосы просыпались на лоб волною; пред взором Федосьи мелькнул вроде бы заячиный хохолок… Эко, вот и царь поседател; не годы убеляют, а тревоги.
– На-на… Ты щупай! – требовательно настаивал государь и, напирая на боярыню, прижимал ее к стене.
«И то верно, что шиш. Вон донимает, бодучий. Да и не один, поди, рог, а все три», – почудилось Федосье Прокопьевне; ей так захотелось потрогать под клином волос, но она испугалась, опомнилась, отдернула руку.
– Кто я? – вопросила жалобно. – Червь малый. На мне грехов изнасажено, как сажи в печной трубе. Спусти меня, государь, дуру-бабу. Дай помереть во спокое. Иль ссади в монастырь. – И вдруг призналась глухо: – Вот все плачут из-за тебя, государь. А я – по душе твоей. Как уголь черна…
Алексей Михайлович крякнул, отступил на шаг, стемнел лицом, в глазах появилась так знакомая челяди сполошливая гроза. Федосья Прокопьевна даже призамглила глаза, ожидая удара. Но царь опомнился, скрипнул зубами, а сказал вяло, сипло шепелявя, словно порастерял зубы:
– Ох, Федосья… Я ли тебе не Отец? Вот и сын твой одинакий, как батожок возле меня. Что ты церкви бежишь, как бес от просвирки… Все сблудили, а ты одна на тропе? Да коли любишь нас, то и сойди. Вот тебе совет…
– Отец мне один – Господь Бог. Это вы Бога не страшитесь потерять, а я боюся… И на что мне ваши хлевища? Можно и дома молиться; затвори клеть и там помолись. Господь вездесущ, увидит и услышит меня, грешную… Господи Исусе Христе сыне Божий, помилуй мя… Ежли и я струшу, государь, да обмануся ласковостью словес твоих, так кто подопрет праведников, что немотствуют в темничках?.. Ты бы очнулся, батюшко Алексей Михайлович. У тела матушки бездыханной, что завещала всех простить, пришел бы в ум, – вдруг резко добавила боярыня. – Ино гляжу на тебя, а будто спишь. Не чуешь, бедный, что на твоей главе беси уж гнездо свили, – досказала шепотом.
И призажмурилась в ожидании казни. Такой прыти от себя не знала. Эко разнесло на дорожной колее, и вот опружило, и растерло саньми. И тело стало, как лист баенный, как тощая речная камбалка, что и тени своей боится. Переждала Федосья малость, приоткрыла глаза; царь покачивался перед нею с пятки на носок, задумчиво жевал ус. Поостерегся, кулаком не ошавил промеж глаз. А по заслугам-то и надо бы… Эх ты, тетка, налимий бок… И показалось Федосье Прокопьевне, что в государевых зеницах скользнула веселая искра и пропала. Да нет, помстилось: с чего Алексеюшке радоваться?
И вдруг такая благость накатила, как бы знойным июльским ветром скружило голову. Засмеяться бы, запрокинув небу лицо, но грешно. За стеною Марьюшка лежит во гробех, и душа ее безгрешная сторожит всякий чих. И подумала Федосья Прокопьевна, зажимая греховные, какие-то кобыльи радости: ну и пусть сронит каженик голову мою с плеч, как капустное ядро, иль в костер живьем вкинет. Пусть!.. И от этой мысли легко стало, что наконец-то перешла крайнюю засеку и теперь уже и бояться нечего; вот перекрыла себе все дороги во Дворец и отныне на всяком совете синклита и черном соборе ее клясть не устанут; но зато отворила нараспах пути во Спасение, и оттого так вольно тоскующему сердцу. Объяснилась с великим господином, и осталось лишь причаститься и собороваться…
– Не знаешь ты удержу, дура. В голове ветер, в промежье дым. Сатанина ты, б… , – по-мужицки, презрительно сплюнул государь под ноги строптивице и, холодно отстранясь, ну прямо обдав Федосью Прокопьевну стужею, вошел в опочивальню.
Следом четверо стряпчих внесли дубовый гроб.
Федосья же устремилась вон из хором и сына вроде бы не заприметила. Спустилась к переграде почти бегом, миновала вахту боярских детей, а спиною все ждала окрика, тычка царева слуги. Сенные девки встретили госпожу, набросили на плечи лисью шубу, надвинули на голову треух, подхватили под локотки…
В Успенском кончалась полунощница; уже, звякнув, упал из проушины железный запорный крюк, из притвора в полураспахнутую дверь пролился изжелта-лимонный теплый свет; курчавый облак пара выскользнул на волю. И вдруг что-то похожее на зависть горько колыхнулось в груди, и стало Федосье так неприкаянно, жалобно и одиноко, что впору взвыть. Те богомольники, что выходили со службы на паперть, были в груде, в скопе, в одной сходке, под одной покрывальницей, под одной священнической епитрахилью, дышали одним церковным воздухом, причащались от одного святого хлебца, испивали одного винца; и лишь она, боярыня Морозова, порастеряв в пути всех близких по подвигу единоверцев, осталась нынче совсем одна, как бесплодная смоковница средь знойной пустыни, полной гадов, и ни капли живой влаги не сыщется, чтобы напоить тоскующее сердце. Ведь когда душа полна светлой любви, то и хрустящих акрид хватит, чтобы напитать грешные телеса…
На Ивановской горел в ночи костер, шатались тени, сторожа, звеня бердышами, грелись, с хрустом перетаптывались на подмерзшем снегу. Московки спешили домой, одна, вроде бы знакомая обличьем, вдруг обернулась и с неожиданной злобой выплеснула прямо в лицо боярыне:
– Видит Бог, в аду тебе гореть, тетка…
– В аду, милая, в аду, – торопливо согласилась Федосья. – Только бы вам Господь поволил… Христос вас спаси…
Глава третья
Царь скрылся в опочивальне. Дворецкий Богдан Матвеевич Хитров, молодовитый, рыжеусый окольничий с обритой бородою, встал у двери, поманил к себе вызолоченной булавою стольника Морозова. По полу вдоль стены в медном коробье стояли свешники и слюдяные фонари с цветными шибками, свет от них подымался к потолку пестро-тусклыми рассеянными столбами. По лавкам наособицу расселись спальники в червчатых ферезеях и шелковых зипунах и, улучив минуту, чутко дремали; вязкие на ухо и глаз, они мгновенно погружались в верхний сон, скоро впадали в забытье, хотя все тело, казалось, жило особым слухом и каждый неверный шорох и тончайший скрип тут же подымали на ноги, заставляли хвататься за клинок. В этих-то спальниках в ночные долгие часы и состояла надежда государя; они были его бронею, его латами и кольчужкою, всегда готовые свое холопье сердце подстелить под сафьянную царскую ступню…
Иван Глебович поймал короткий знак, подошел неслышно, на пальцах, словно канатоходец, перебирая по войлоку зелеными сапожонками, и кожаный терлик до пят, будто змеиная шкура, плавно струился вокруг его гибкого стана; зарево румянца, несмотря на ночь, горело во всю щеку, присыпанную нежным персиковым пухом, ус струился над припухлой губою, но вокруг глубоких янтарных глаз уже легли серые сумерки усталости; не высыпался вьюнош, и служба от гулящей до гулящей во многие дни выпивала силы. Хитров ревниво восхитился стольником, невольно вспомнил и себя таким и, чуя себе угрозу, сказал скрипуче: «Вот видишь, Иван Глебович, горе-то какое, а?..»
Морозов вспыхнул, пожал плечами, потушил взгляд, бархатную круглую шапочку, комкая, стянул с головы; в правом ухе, сверкнув алмазом, качнулся круглый диск серьги. Стольник только что проводил тайным взором мать, ее согбенное тело в старушечьем сарафане; он так хотел заглянуть в зареванное, опухлое лицо боярыни, чтобы прочесть ответное чувство, но мать миновала сына, как чужая…
«Эх, и почто мира-то нет меж има? – подумал с грустью. – Два родных, любимых человека ратятся на ножах, не могут пристать сердцем друг к другу…»
Дверь вкрадчиво отворилась в жиковинах, даже страшась скрипнуть в таком безутешном горе, и бесшумно, на цыпочках вышли стряпчие с черными полотенцами через плечо. Дворецкий посторонился, не снимая, однако, взгляда со стольника. Тот покорно уставился себе под ноги, ожидая приказа, смолевые непролазные волосы торчали копешкой, и в самую-то молодеческую рань уж посеялось на теменце белым снежком: не годами рос парень, но часами. И хоть вон на какую гору, почитай с колокольню Ивана Великого, вымостился при Дворе худородный алексинский дворянин, завладев многими вотчинами и поместьями и свою родову притулив в кремлевских повалушах, но сейчас Хитров с какой-то недоуменной враждою глядел на стольника и мрачно завидовал ему: ведь все драгие шемаханские ковры выстелены стольнику под ноги с младых ногтей, только ступай горделиво, не спотыкнувшись; третьим по богатству после самого государя и царева дядьки Никиты стал нынче Иван Глебович, он как бы своей черной бархатной шапчонкой с головой упрятал Хитрова, заколдовав того в безропотного ягненка… Да и тетка-то Анна лишь в верховых боярынях, а Федоска, эта черница-кобылица, в приезжих, и не надо ей в день да в ночь торчать в хоромах, услуживая во всякой прихоти, боясь прослыть в неугодных.
Юный стольник поднял стеснительный взгляд, и Хитров не успел согнать кривую усмешку; в выцветших голубых глазах еще плавал злой морок. И посоветовал дворецкий треснутым голосом:
– Иван Глебович, дал бы ты матери наук, ввел в ум. Чего она, безумная, ерестится противу царя, как моль на пушнину, и других с толку сбивает? Что ей, жизнь не в пользу иль жить не хочется? – Хитров посуровел, стиснул булаву, как боевую палицу. – Не тебе под материной юбкой ходить. Сам хозяин… Коли уселся на конь, так чуй стремя да плеть. Земля-то, малыш, близко под копытом, да неутешлива, как грянешь. Иль не боишься падать?
– Не боюся, Богдан Матвеевич, сковырнуться. Земля наша матушка мягше пуховой перины… А Федосье Прокопьевне я не отец, чтобы вразумлять. Яйца курей не учат, – по-стариковски рассудил юный стольник.
Он осекся, не успел договорить, круто осечь дворецкого, чтобы не лез в чужой монастырь с уставом; тут из чулана, будто заговорщицы-притворщицы, выпятились с поклонами три Анны. Хитрова поманила дворецкого за собою, затаилась в сутемок ценинной печи, зашепталась, в чем-то настойчиво пытая Богдана. Иван Глебович невольно навострил ухо, и послышалось ему, будто шипит змея подколодная: «Видал-нет, как Федоска Морозова ускочила, будто нашпарили. Ишь выставляется, безумная… Сама из житенных высевок едва слеплена, а выдает себя за перепечу из княжьего выводка. Ты, Богдан Матвеевич, не солодись пред има, пуще на ейного выродка нажимай, без послабки. Коли служить взялся…»
Наверное, поблазнило стольнику, ибо когда вышла боярыня из-за столбовушки, то вдруг одарила Ивана Глебовича сусальной улыбкой и отбила поклон.
* * *
… Что, царь-государь, горюшица призатаенная, не сыскалось тебе места во всем Терему, чтобы без пригляда облегчить сердце? Хоть и погнал прочь из спаленки всех доглядчиков, но присмотрись пуще, и будто из каждой проточинки и пазушки в стене, из ставенки и картинной рамы с персонами тайные приставы дозирают твое горе… Да ты не робей, Алексей Михайлович, не бойся подпазушного клеща, что впрыскивает яд без боли, но страшись зрака Божьего, от него-то и чуешь испуг и ломотье в душе…
Стихло в чулане, не слышно чужого вздоха, и за дверьми могильная тишина, словно бы вся вахта спальников ушла в запойный сон, и лишь Богдашка Хитрый неотступно караулит у ободверины, чтобы лисьим умом своим скоро уловить тайное твое желание.
А Марьюшка в повапленном гробу возлегла, как уряженная, раскрашенная кукла. Что ты окаменел, как мореный дуб? иль ноги твои остамели, налились водянкой, вот и боишься оторваться от дверной скобы, как бы не упасть.
Не кручинься много, милый мой, безутешливый, не убивайся долго, того Господь наш не любит, а маленько поплачь, вырони слезу; ведь то радостная печаль навестила тебя, к Богу в райские кущи убыла голубеюшка с беспечальным вздохом…
Царь-государь, покорно склони выю, не упрямься, не взглядывай с темной надеждою на гроб, укутанный в прозрачные пелены, вроде бы воспаренный над лавкою, как челн, покачивающийся на воздусях; хоть властию на бренной земле ты вроде Создателя на небеси, но всей твоей тленной мощи самодержца не хватит, чтобы вдунуть малую толику живого огня в одеревеневшие, уже ломкие уста. То лишь Христу нашему под силу бы, но и Он, Благодетель, ждет восстанного означенного дня, чтобы поднять с погостов к вечной жизни всех верных своих.
… Царь решился наконец, деловито прошел к тяблу, с печальными воздыханиями и влажной пеленою в потемневших глазах оправил фитили елейниц, сощипнул нагар, подлил маслица, тяжело прихватывая грудью душного воздуха, протер иконы влажной губкой, опустился на колени, а после и вовсе растянулся на полу, прося Спасителя о милости, и невем сколько пролежал с непролившейся слезою в озеночках. Очнулся, с трудом на ноги поднялся, подсыпал пашенца в тарель, подлил из серебряного кувшина родниковой воды в скляницу: отведай, Марьюшкина душа, последней земной ествы, чтобы хватило сил взняться крылами по небесной тверди. И вдруг скрипнуло что-то сзади, горготнуло, едва уловимый всхлип донесся до слуха. Вздрогнул царь, устрашился и, подойдя к домовине, с любовию оперся двумя ладонями о взглавие его, всмотрелся в покоенку… Да полноте, ведь оживела матушка, вон и ресницы насурмленные вздрогнули, и натертые румянами губы изогнула улыбка, и грудь всколыхнулась так, что полыхнуло пламя свечей, вон и влажная испарина просыпалась на челе росою, и упругая дождинка сочно упала с расписной подволоки на переносье царицы, закатилась обратно в рыжеватый родничок слезника и там студенисто замерцала.
… Господи, батюшко государь, да ты никак плачешь?!
Толстые восковые свечи в посеребренных панафидных столицах горели ровно, без треску по четырем стенам домовины, золотистый туск, словно тончайшая июльская солнечная кисея, приокутывал лицо Марьюшки.
«Упокой, Боже, рабы Твоя и учини ея в рай…»
Царь присдвинул со лба венчик, поцеловал жену в тонкую морщину, рассекшую лоб наполы, и вдруг всхлипнул, прижался к родному обличью, с какой-то надеждою впитывая студеный холод, чтобы навсегда укупорить его в своем сердце; потом облобызал лимонной желтизны пробежистые тонкие персты, пахнущие елеем, ароматными вотками и чужим сладковато-пряным духом, и тяжелое, устюжской чеканки распятие на груди с небесной чистоты эмалями и зернами багровых рубинов, так похожих на капли Христовой крови. Государь зачем-то воровато оглянулся на дверь и, тайно казня себя за языческое малодушие и неизживаемое детское простодушие, напитанное сказками мамок и песнями дворцовых нищих, просунул под вишневый бархат тугого огорлия, низанного алмазами, прощальное свое писемко; а потом с придиркою оглядел затею: не обнаружат ли ее случайно крестовые священницы и дьяконы.
Шел девятый час ночи, когда вовсе очнулся государь, а сердце остекленело в тупом спокое, и в самой глуби его, как в драгоценной хрустальной склышечке, навсегда поместилась жена. Царь встал за гробом и начал честь псалмы, мерно покачиваясь и почасту взглядывая на усопшую; он словно бы вместе с Марьюшкой примерялся к небесной лествице, к ее шатким ступеням и поручам. Эк, ветер-то как разносит по-за облак, аж в ушах свистит.
«… Помяни, Господи, Боже наш…»
Марьюшка покоилась во гробу с радостным живым лицом, и натертые помадою губы приоттягивала безмятежная улыбка, словно покоенка утешала оставшихся: де, не горюйте, родненькие… кабы знали вы, ведали, какое счастие помирать-то.
И вдруг нелепо подумалось царю: «С мертвыми-то куда легше быть, чем с живыми».
И позавидовал Алексей Михайлович новопреставленной.
Глава четвертая
Бывает, что и один день за вечность покажется, не знаешь, куда его деть; а как дождешься ночи, то и тогда сон нападет тягомотный, с борозды на борозду, словно адскими лемехами вывернули все в голове наизнанку.
… Федосья Прокопьевна, матушка, не майся попусту, не скрипи, как старый очеп, войди в ум и, полагая каждый прожитой день за последний, живи праздной столбовой боярыней на пуховых перинах и попивай меда с вотками… Да, пожалуй, пустое подначивает бес за плечом. Нет нынче на свете Федосьи Прокопьевны, ушла пораньше государыни, а затворилась в спаленном чулане, вернувшись из Дворца, монашена Феодора, Христова дщерь, и тело ее, давно не знавшее бани, уже натуго опеленуто власяницей; чрез такую кольчужицу ни один луканька не прободит крюковатым носом своим прореху, чтобы прокрасться до груди постриженицы и угреться там…
Что ей мир с его утробными прелестями, саламаты белужьи и уха стерляжья, да семужьи кулебяки и лебяжьи окорочка… Когда огурец с грибком тяпаным, да в самую редкость звено щуки гретой сунет в рот, чтобы совсем не пропасть, – вот и трапеза. А во весь Великий пост за обыденку хлебенная корка да квасу монастырского ковш.
И дом пространный от Оки до Волги со множеством чад скинут с плеч под Божий пригляд; Господь пособит, не оставит без подмоги, лишь уповай на Него без сомнения. И вот каждая минута нынче, кою урвала для одиночества, – вся в молитве. А глаза смежишь после ночного куроглашения, то и во сне, как овечье прядево меж перстов, струится сквозь все тело от макушки до пят Исусова молитва, омывая каждую телесную жилку. И долго ли так спишь? – но много всего насмотришься; по небесной тверди и подземным теснинам набродишься, нагостишься в аидовых пещерицах, а после сколько явится полезной пищи уму и сердцу на весь день; всем домовым старицам не разжевать тех черствых пророческих колобов…
Била поклоны боярыня, припадая на узорчатый бархатный подручник, расшитый в долгие дни постов, молила покоенке-царице райского места да на сотом метании, приклонив голову к ворсистой кошме, вдруг и призабылась, будто слоистой хлопковой бумагою обложили всю.
… Откуда-то сестрица Евдокия Урусова взялась, летами моложе нынешней, догоняет Федосью, стуча чеботками. Федосья оглянулась, не удивилась, прихватила княгинюшку за край фусточки, мокрой от слез. А за стеной тук-тук, молотки по крышке гробовой дробят. Подумала еще: чего так рано? еще и не отпевали. Из сеней бы поскорее вон, а в дверях окольничий Хитров в нагольном мужичьем тулупце, плешивая голова тыковкой, глаза, будто лампадки голубого стекла, во рту торчит бесьим рожком фарфурная трубочка, из нее табачный дым кольцами; на плече сидит черт и ловит тот вонявый дым рогами, нанизывает курильный чад, как баранки. И только успела сказать Федосья Прокопьевна сестре: «Вот сейчас на меня бес прыгнет», – и тот преж слов, по одной вроде бы мысли, сиганул боярыне на загривок. Черт невелик, раза в два будет покрупнее кошки, грязно-каштанового цвета, покрыт редкой шерстью, с рыжими глазами. Вцепился за плечами, как клещ, намертво сел на шею… Ах ты, Господи, прости и помилуй! Взмолилась мысленно, а язык-то и сковало… Рукою бы гнусенка ухватить, но не добыть: ловок и лукав черт. Решилась, ударилась спиною о стену. Слышит – затих, ослаб, растекся по плечам, как падаль, и хвост ослиный с кисточкой на конце скатился боярыне на грудь. Хоть и мерзко, и грешно, но только решилась ухватить в пясть, чтобы сдернуть с шеи, а черт окаянный снова в силе и так-то больно вкогтился в затылок. И давай Федосья снова долбить беса о стену, тут и себя не прижаливая, словно задумала убиться до смерти, пока не затих лукавый. Стянула за шкуру, опачкиваясь в мерзости, протянула Хитрову: «На, возьми и паси лучше. Это брат тебе». – «Ты что, убила его?» – спросил в ужасе, замирая от страха. – «Твое счастие… Он же бессмертен».
И тут сестра Евдокия, молчавшая досель в оторопи, вдруг протянула Федосье рубль и сказала: де, на тебе в награду. Рубль неровный, обкусанный с краев, будто заеденный мышью, из буро-красной печатной меди, пробитый в середке, и к этой проточине вроде бы из Федосьиной горсти приник змеино-холодный бесовский зрак. Вскрикнула Федосья, стряхивая с ладони проклятую деньгу, а та будто клеем намазана. И возопила боярыня: «Мати Мелания, пособи дочери!..»
И с этим воплем очнулась. Стоит внаклонку головою в кошме, шея отекла, спина ноет, точно снопы на ней молотили. Ой, беззащитен монах пред дерзким врагом в ночи, и сколько бедной одинокой душе приходится страдать, боронясь от бесов. Перекатилась Федосья на рогозницу возле кровати, завешанной цветными воздухами, с трудом растянула замлевшие ноги. Боль телесная потиху отступила, но сердечная гнетея после внезапного наваждения лишь приросла. И подумала Федосья в тоске: и чем же я прогневила Господа, что вражьи дети решили меня прикупить рублем иудиным? И неуж Марьюшку, царицу-покоенку, так крепко осадили лукавые, что на всякого, кто пересек порог, сразу накинули обавные сети? Исусе! Верховный Батюшка, прости и помилуй грешницу, что поступилась Тобою ради мирских заповедей… Но и покоенка была ближе мне сестры-матери; и в том стане неверных я и одним ногтем не прищипнулась за их обманные нитки… Батюшка, употчуй тихомирную государыню своим нектаром; она, сердешная, всяко терпела, но не дала себя опоить сикером ворожейных словес. Крутилися дворцовые тетки вокруг царицы, как мухи на патоке, да ни одна не оскоромилась…
Прислушалась Федосья Прокопьевна до звона в ушах; огромная боярская усадьба во всех своих сотах еще почивала по-утреннему безмятежно. Только со двора порою доносился мерзлый бой колотушки о тулумбас: то дозорила ночная бессонная вахта. И вдруг как бы по-над ухом очарованно скрипнула потайная дверь из чулана, прошаркали бесплотные, почти бестелесные шаги, обогнули кровать. Боярыня заломила глаза, увидала над собою холстинное личико с кукишек, черный плат шалашиком, повязанный вроспуск, ноги рогатиной из-под пестрядинного монашьего зипуна.
– Тебя ошавило, Феодора, иль колотун взял? Корчишься, как рыбка, – пропела мать Мелания, сомкнула бесцветные губы в нитку, принагнулась, опахнула постным ладанным духом. – Ты Бога-то, дочи, понапрасну не гневли. Он неистовых не любит.
Старица сбродила к тяблу, сняла с полицы кувшинчик со святой водою и просяной веничик и, будто побывав только что с хозяйкою в одном сне и пережив ее тревожную печаль, неожиданно споро пробежала по всем углам опочивальни, сбрызгивая с веничка, а после и саму Федосью окропила святой влагою.
– Ты, девка, не шали без дела. Покорствуй, покорствуй. Иль государь чем обидел?.. Ой, Феодора, как спроваживала во Дворец, наставляла: не ерестись, будь покорной. Не рано ли отец Досифей надел на тебя Христов венец? Пока не прищучили, сердешная, так не кобенься. И то время грянет, милая, а уж где силы?.. Иль восхотела святее быть самой Мастридии и мученицы Феодоры?
– Не ешь ты меня, мати. И без того всю искусали, одно дырье во мне. Осталась я нынь одна, как бывый апостол в пустыни.
– А ты не загрызайся, гордушка. И не убивайся понапрасну. Всему свой срок… Обрядила ли Марьюшку? Да самого-то видела-нет? И много ли верховых прискакали на конех? Дожили… кому и смерть чужая в праздник.
Вздохнув, страдница придвинула низенькую скамеечку, присела возле и, сняв повойник с боярыни, принялась чесать ей голову гребнем. «Зачем это, зачем не ко времени?» – вяло сопротивлялась Федосья Прокопьевна: ей казалось кощуною в такие часы заниматься собою, но корявые старушьи ладони через костяную чесалку словно бы отворяли закрытые в коже руслица и впускали в замоховевшую голову боярыни чистого живого тепла и раструшивали по дальним закрайкам нажитую за день памороку. Федосья поймала руку наставницы, поцеловала веснушчатую постную горбушку и твердые подушечки перстов, а после по-детски прижала ладонь к щеке, насовсем оттаивая. И сон тревожный сразу источился, опал в беспамятство; так лесовой гнус под ветром-сиверком оседает в травяную тенистую прель.