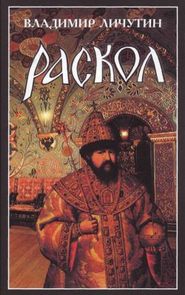скачать книгу бесплатно
«Верно, как не верно, да одно худо, что Никон из него монаха сделает. Он, владыка, нас любит и сына нашего полюбит. Твоя сестреница за него кажинный день молит».
Государь с государыней вдруг спохватились, что оба думают о новгородском митрополите. Небось в тяжком пути ему нынче не раз икнулось.
«Ты себя храни, Алешенька, – жалобно, жалеючи, сказала царица, проведя ладонью по груди мужа, словно бы нынче же, не медля, провожала хозяина на брань. У бабы бабье не вытравить, на каком бы Верху она ни числилась. – Время темное, на миру сколько сарданапалов расплодилось. Не из зависти пусть, так из потехи незнамо какую кобь замыслят. Подумать страшно, нито».
«Ну полно, полно. Нас, поди, у стола заждались. Кушанья-то простыгли».
«Ой, Алексеюшко, я тебя нынче во снях видела, – вдруг призналась государыня, и сердце царя вздрогнуло. – Вот будто вылез из кустов придорожных тать, не наш обличьем. Нерусь, одним словом. И тебя рогатиною прободил. Я и спохватиться не успела, как приключилось. Ну... Хочу, значит, стражу кликнуть да тебя оградить. И никого вскричать не могу, голос пропал. Земля вкруг вся очервленилась, а на тебе ни кровинки. Пробудилась в худых душах полтретья, ни свет ни заря. Давай поклоны метать, о тебе Бога молить. Ой, Алешенька, поопасись...»
Вот как бы сон прочитала.
«Ну полно, полно... Кровь-то не на мне», – хотел утешить царь супружницу, но не успел. Из-за угла полыхнуло светом, раздались возбужденные голоса. Их искали. А государю так хотелось открыться госпоже в своих расстроенных чувствах. И вот не успел.
...Не ествян государь, не нажорист, а если и пухнет преизлиху, так не от сладострастия, не от преданности животу своему и не от дворцовой обильной кухни, но лишь по природе, склонной к тучности.
Царь строго постится восемь месяцев в году; лишь скитники, монастырские схимонахи готовы к таким борениям с плотью, к таким изнурениям страдающего тела своего. В Великий пост государь обедает лишь три раза в неделю: в четверток, субботу и воскресенье. Где те роскошества стола, европейские зажарные каплуны, копченные на вертелах золотистые барашки, от коих сок и жир текут по локти; где та ласкающая горячность взора, что вспыхивает от обильной ествы? Увы! Здесь холодная, заснеженная Московия, господа. И попавший к государю на прием в постный день пусть удовольствуется с внутренней тоскою тем, что принимает великий царь. А для Дворца готовятся ествы: капуста сырая и гретая, грузди, рыжики соленые, сырые и гретые, ягодные ествы без масла и квас. Та самая лешачья еда, что в изобилии произрастает на просторах Руси, про кою говорят в простонародье: «Гриб да огурец – в брюхе не жилец». Та самая ества, от которой смиренно клонится плоть и воспаряет дух. В остальные дни государь Алексей Михайлович кушает лишь кусок хлеба ржаного с солью, соленый же огурец или гриб и стакан пива легкого, с коричным маслом. Рыбу государь ест лишь дважды за Великий пост. Кроме постов, он не ест мясного по понедельникам, средам и пятницам, как монах и пуще того. В обычные же постные дни (понедельник, среду и пятницу) готовят ествы рыбные и пирожные с маслом деревянным, ореховым, льняным, конопляным.
Нынче, на двенадцатое апреля 1652 года, царица Мария Ильинишна сама смотрела порядок ествы. Первая статья: щука паровая живая, лещ паровой живой, стерлядь паровая живая, спина белой рыбины; вторая статья: оладья тельная живой рыбы, уха щучья живой рыбы, пироги с телом живой рыбы, каравай просыпной с телом живой рыбы; третья статья: щука голова живая, полголовы осетрей свежей, тешка белужья. Питья три кубка с отливом, ренское, да романея, да бастр. В золотом ковше подносить красный мед, а в серебряном – белый мед. Не для государя такой стол, но для царицы: она в интересном положении, на сносях дохаживает, ей нужна ества для укрепы, чтобы телом не спасть да новой жизни не потравить.
На царицын Верх для ближних бояронь, для дочерей, для нянек и мамок и для веселья вечернего велено подать: орехи простые, каленые, сибирские, грецкие, волошеские; жамки-груздики, кругляки угольнички, сердечки, горошки, прянички вяземские, белевские, тульские, папушники; яблоки моченые, сушеные, украинские, паренные с кваском; изюм крупный и мелкий, винные ягоды, чернослив заморский, груши моченые, сухие, дули калужские бергамоты, сушеные вишни владимирские, сливы моченые, костеника, моченная кисточками, брусника моченая, калина с медом упаренная, пастилы коломенские клюквенные...
Она даже ела молитвенно, сосредоточенно, погрузившись в трапезу, и всякое брашно воистину благоговейно вкушала.
Ласковость не то чтобы вспыхивала однажды по настроению иль по натуге изображалась на челе, чтобы не прогневить супруга, но она постоянно жила на лице. Ни разу государь не видел, чтобы хмурая тень залегала под ресницами Марьюшки; утром лишь размыкала изумрудные свои очи, а из них проливается кроткая радость. С этим чувством она и за молитвою стояла по пять часов сряду, не выказывая усталости. Боже, как он любил свою Марьюшку.
С серебряного блюда она приняла звено стерляди паровой живой, мимолетно и благосклонно улыбнулась крайчему; на миг как бы прикрывшись от чужого догляда жемчужным нарукавником (сама низала, еще будучи в невестах), поправила выбившуюся будто бы прядку волос под малиновый бархатный сборник, качнулся потревоженный золотой колт в крохотном, внезапно зарозовевшем ушке, и в какой-то миг из-под руки послала государю ласкающий тайный взгляд, чтобы не приметил стольник, стоящий невдали с огромным блюдом стерляди на вытянутых руках.
Алексей Михайлович отпил из кубка овсяной браги, ломоть ржаного монастырского хлеба, присланного чудовским архимандритом, густо присыпал из солонки.
«Отошли стерлядь эту на дом в подачу боярину нашему Богдану Матвеевичу Хитрову», – вдруг приказал стольнику. «Балуешь ты Богдана, балуешь, – с улыбкой укорила Марьюшка. – А он неслух и прокуда». «Он хоть и неслух, да предан, – отозвался царь. – Женила бы ты его, что ли? Он вот и табаку приучился пить, шалопай. Пришлось нынче изрядно поколотить своею рукою». Государь рассеянным взглядом окинул пустынную Столовую палату с длинными столами под браными скатертями и долгими скамьями, покрытыми камчатными налавошниками. На стенах, на божницах стояли образа, горели лампады. Не шелохнувшись, по всей трапезной застыли стольники и ключники, ждущие гласа дворецкого, и как-то странно, сиротливо, что ли, одиноко выглядели государь с государыней в этой зале с глубокими оконцами, откуда струил узорный апрельский свет, обещающий благодать. На воле было солнце. Скоро обещалась охота, царский выезд в дворцовые подмосковные села; распута, рыхлый водяной снег, первые проплешины на буграх, струистое марево над замглившимся приречным тальником. Боже, как хорошо-то!..
«Ты слышь, – встрепенулся царь, – что мне князь Хованский пишет, – будто он вовсе пропал с Никоном. Де, никогда такого бесчестья не было, чтобы государь отдал князя во власть митрополита, а тот заставляет ежедень у правила быть. Да и то верно, учить премудра, премудрее будет, а безумному – мозолие есть. Дак и то народом не зря обозван, что тараруй. Тараруй и есть». Государыня на эти слова укоризненно качнула головою, и царь спохватился, что, быть может, сказал лишнего. А что лишнего-то? Стольникам ли не знать, как государь не раз выговаривал князю Хованскому за спесь его: «Я тебя взыскал и выбрал на службу, а то тебя всяк называл дураком». Кажется, придирчив был царь и жаловал людей даровитых, высоко смотрящих, но Хованского, который и природою-то не мог похвастаться, ни умом, ни стараниями, ни особенными способностями похвалиться, неизвестно за что выделил и приблизил в спальники, ближние бояре.
Вот сейчас с Никоном за мощами святого митрополита Филиппа Колычева послан на Соловки, великая честь дураку указана, а он вот ломается, с пути всякие укоризны шлет. «Прости, Господи, за неявные, заглазные словеса мои. – Алексей Михайлович перекрестился. – А он, поди, Никон-то наш, люто прижимает синклит мой, подвигает к Богу. Ин забыли, как подобает лба перекрестить. Вот и Василий Отяев жалится друзьям своим: де, лучше бы нам на Новой Земле за Сибирью с княжем Иваном Ивановичем Лобановым пропасть, нежели с новгородским митрополитом в посылке быть, силою заставляет говеть».
«Они жалобятся, а того не поймут, что он святой, наш владыко Никон, – сказала царица, с грустью глядя на пустующий серебряный судок супруга, – опять, вот, не ест, сердито поствует, осеннего гриба соленого с маслом конопляным пожевал, и вроде сыт; дак что гриб этот, какой с него толк, зиму цельную в кадке, моченый, вылежал, нынче, что тряпка, ни пару в нем, ни жару – веком не жевал бы. Разве с такой ествы побежишь? Ой, государь мой, опять с соленого квасу надуришься, и будет утробушка непонятно с чего мерзнуть. Сказать бы, но остережись: не каждое лыко в строку – может и губу надуть, не поглядя, что холопы кругом на прислугах, осыплет бранью. Нет-нет, лишнее заганула: царь не то бранчливого слова, но даже сурового взгляда ни разу не сронил в ее сторону. Но крутоват, горяч порою, будто что вспыхнет внутри порохом, взор побелеет. Вон князю Хованскому какую малаксу только что на лоб припечатал, тараруем обозвал. Сейчас пойдет по Москве, не стереть печатки. Стольник Зюзин в крайчих, он молитвен, но с Хованским на ножах. Вот и взгляд спрятал. – Святой за святым отправился, вон в какой не ближний свет поднялся».
Умильно сказала царица, облила государя зеленым светом, неожиданно как бы подольстилась. Знала особую нежность царя к митрополиту.
Алексей Михайлович согласился: «Цареградский патриарх Неофит писал днями. Великий посланник Христов Никон явился на Русь на подвиг!»
Государь замолчал резко, потускнел. Заметила Марьюшка, как прорезалась поперек лба первая ранняя морщина. Замглилось лицо, туман пал на глубокие глаза государя. Невольно загляделась Марьюшка на мужа: приглядист, глаз не отвесть. Плотные русые волосы по плечи, с трудом костяной гребень продерется, борода кудрявая, крупными завитками, тень от ресниц на полщеки, в спокойные очи глядеться можно, как в зеркала, только нынче, вот, на самом дне чуть-чуть рябит, мельтешит тревога, досада ли иль беспричинная тоска... Может, блазнится государыне, казит? У самой-то какое нездоровье. Хоть бы скорее ослобониться да государя сынком обрадовать. Дай Бог, дай Бог. Эк ему там не лежится. Прислушалась невольно, как в животе пыщит, моркотно так встрепенулось, но поприжала алые губы снежной белизны зубами. Мелкие зубки, прихватистые, хоть орехи ими грызи. Бросила быстрый взгляд на государя, не заметил ли ее беспокойства.
«Али гнетет тебя што, государь? Не пристала ли на душу гнетея?» – жалостно спросила Мария Ильинишна и, оглянувшись, велела тут же крайнему с кубком романеи пойти прочь, не торчать за плечом, давая понять, что царю не до питья. Государь строго постится, а ее с рыбьей ествы и без вина тошнит: будущий наследник царицыны черева точит. Значит, и всему Терему нынче сидеть на крутом посту и сыто не кушивать.
«Да так, пустое. Не бери в ум, царица», – пожал плечами Алексей Михайлович. Но забота жены ласково легла на сердце.
«Не болит ли што, Алексеюшко? Вот больно сердит ты на поству. Иль дурное што наснилось?» – домогалась Марьюшка и вновь, другорядь за день, невольно дозналась о причине царской грусти. Верили во Дворце снам, чаяли в них истину и по ним тоже строили грядущую жизнь.
«Знаешь, какая беда. Конец света во сне привиделся. Из ума нейдет, – признался царь, и сразу полегчало на сердце. – Закрою глаза, и все воочию. Стоит и огнем пышется. Все как в Священном Писании. И земля огнем взялась, и пылающие птицы полетели, и град камением, и жупел кругом. И глас Божий. И антихрист было взошел на престол – и пал».
Пришлось сон поведать в тонкостях. Марьюшка, не встревая, слово за словом вытянула цареву печаль и докуку. «Это ли не гнетея? Такая забодает без рогов», – думала тайно царица, участливо, с любовию глядя царю в глаза. Ой, Марьюшка, святая душа, насквозь зрит... «Никона бы сюда. Он бы твое смотрение как в зеркальце прочитал. Святой сон, как бы послание от Господа нашего, – виновато улыбаясь, словно бы прося прощения, ответила царица. И пока говорила, более не подымала глаз. – Моего-то бабьего разумения стоит ли слушать?.. Коли ристать, бежат, пышкая во снях, значит, прочь стремиться от горя. Богородица тебе руку протянула, это ли не счастие? Лествицу скинула, помогла забратися на стену веры. А встати на ноги, вишь ли, ты не смог. Опоры нету. Больна твоя опора, не оперетися. Скоро помрет кир Иосиф, наш патриарх, и от сиротства возопит Русь. Готовься, Алексей. К тому и сон тебе, чтоб ты приуготовлялся. Вот и радуются нехристи, яко скимены, львы варварийские, готовы ухватить тебя за подолы и похитить в гнездилища змеиные, пока в скорби ты... Вот оно: крови нету, а горя не избыть. И мне тоже наснилося. И забойщик тут как тут с невидимым копием, прободил сквозь сердце: знал, басурманин, куда метить. Очервленилась земля, а на тебе руды ни с ягодку. Ой, не ко времени, на всеобщую кручину покидает нас патриарх... Послушайся, Алексей, меня: позови-ка в рассуждение печали своей нищего из потешных хором Венедихтушку Тимофеева. Он тебе рассудит лучше меня, видит Бог».
И снова подивился государь прозорливости жены и сразу уверовал в ее слова, не колебаясь. С этими чувствами он и спать повалился с обеда.
Под гусли Венедихтушки, под песни калик перехожих вроде бы и народился вымоленный Елеазарием Анзерским будущий государь; под песню о бедном Лазаре и вырос царевич. Венедикт всегда был древним, всегда слепым, так казалось Алексею Михайловичу: а нынче домрачей и вовсе закоренел и стареть перестал. Как говаривал Венедихтушко, он ослеп «от напряга» на бою в ополчении Минина, числил себя в родне с Иваном Сусаниным, спасшим боярина Михаила, будущего зачинателя новой царской семьи. Родичи Венедихта, все гнездо его пропало под ляхом, и бобыль, покинув сиротское житье свое, пристал к ватаге слепцов и отправился на Русь.
Однажды Тимофеев притащился с дружиною калик перехожих к царскому Терему, здесь был выслушан, обласкан и оприючен до смертного одра.
Первый царь любил потехи: на площади за соборами прямь перед Верхом устраивались качели на Пасху и ледяные покатушки на масленой; здесь на Троицу девки московские водили хороводы в столбовом наряде, о Петров день скакали на досках, на Иванов – плели венки и с визгом спешили на Москву-реку, чтобы угадать судьбу свою, тут водили потешного бахвала медведя и устраивали звериные бои; ватагою о Рождество навещали ряженые с харями, веселя государя и государыню самыми скромными выходками, тут колядовали со Звездою, ходили с мешками, прося царской милости. Вечерами на Верху постоянно играли в шахматы, шашки, тавлеи, саки, бирки, в карты. В потешных хоромах жили дураки и дурки в платьях, скроенных из цветных лоскутов и покромок; карлы и карлицы, калмычонки, арапы, домрачеи, бахари, гусельники, песельники, дудошники...
Но что приключилося с молодым царем Алексеем? Он напрочь на двадцать лет позабыл потешный свой Дворец и из всех потех оставил для услады охоты псовые и соколиные, медвежьи бои и волчьи осоки, походы на лосей и лесного и полевого зверя. Даже свадьбу свою с Марьюшкой играл по-новому: не плясали тут, не дудели, не играли варганы и цимбалы, не исхитрялись для пущей радости скоморохи и гусельники, домрачеи, скрыпотчики. А велел государь на свадьбе своей вместо труб и органов петь дьякам, переменяясь, строчные и деемственные большие стихи из праздников и из триодей со всем благочинием.
И был немедля разослан по Руси государев жесткий наказ: чтобы мирским людям жить по старческому началу, в домах и полях песен не петь, по вечерам на позорища не сходиться, не плясать, руками не плескать, в ладони не бить, хороводы не играть и игр не слушать; на свадьбах песен не петь и не играть глумотворцам, органникам, смехотворцам, гусельникам и песельникам; загадок не загадывать, сказки не сказывать, личины и платья скоморошья на себя не накладывать, олова и воску не лить; в карты и шахматы не играть, на досках не скакать, на качелях не качаться, с бубнами, сурнами, домрами, волынками, гудками не ходить, медведей не водить, с собаками не плясать, кулачных боев не делать, в лодыги не играть, не ворожить и не гадать. Ослушников на первый раз велено бить батогами, а после ссылать в украйные городы, а гусли, домры, сурны, гудки и все гудебные бесовские сосуды отбирать, ломать и жечь без остатка. Скоморохов же на первый раз бить батогами, а в другой раз – кнутом...
Государь Михаил Федорович, так любивший все русское, помирая, благословил сына на царство и сказал дядьке его Борису Ивановичу Морозову: «Тебе, боярину нашему, приказываю сына и со слезами говорю: как нам ты служил и работал с веселием и радостию, оставя дом, имение и покой, пекся о его здоровье и научении страху Божию и всякой премудрости, жил в нашем доме безотступно в терпении и беспокойстве тринадцать лет и соблюл его как зеницу ока, – так и теперь служи».
И Борис Иванович Морозов, любивший свея и немца, ездивший в карете с зеркальными окнами, привил государю Алексею то особенное благочестие по Стоглаву и Домострою, которое напрочь отстранило душу царя от русских обычаев, казавшихся ему отныне лишь бесовским наущением, косным, грубым и мерзким позорищем, отвращающим народ от Господа... И на двадцать лет позабыл царский Верх потешную игру, песельников, гудошников, гусляров и скоморохов. И прежние бахари и домрачеи, сказыватели старинных русских подвигов, былинщики и старинщики уступили наследственное место «нищим», убогим, юродивым и блаженным, горбатым и расслабленным, что из потешного дворца вместе с карликами и дураками переселились в Терем.
...Убирался прежде за Венедихтом, как и за другими нищими, потешный сторож, а нынче государь приставил за слепцом арапку Савелия для уходу и перевел домрачея в сам Верх, в подклет. Выдали калике новый кожаный тюфак, набитый оленьей шерстью, подушку, крытую кумачом, одеяло бумажное стеганое, и весь тот уряд житейский, без чего трудно человеку, пока он бродит по земле: белье постельное да исподнее, овчинный кошуль, кушак дорогильный цветной, бараньи сапоги и шапку суконную с собольим околом. Обиходили нищего, чтоб не тужил, не плакался на забытость свою, да в общем-то и грех было жаловаться Венедихту Тимофееву. Во Дворце его любили доброй памятью, как старца увечного и благочестивого, стоявшего еще у зыбки государя. Вот и жалованья получил слепец от Алексея Михайловича на год десять рублей с полтиною, это при полной-то дворцовой естве.
...Алексей Михайлович, хорошо отдохнувши, намерение свое, однако, не позабыл, но он не стал дожидаться домрачея в своей опочивальне, а сам спустился к нему в келейку, постучался в дверку и вопросил, как в монастыре, по уставу: «Молитвами святых отец наших...» – «Аминь», – донеслось старчески, дребезжаще.
Арапка Савелий, неожиданно увидев государя, вылупил от счастия блестящие карие глазенки и сразу пал на колени: царь погладил его по лоснящейся кудреватой голове, в который раз дивясь мелкой, жесткой, почти звериной шерсти, излучавшей голубые искры. Арапка поймал государеву руку, счастливо поцеловал и белозубо оскалился, запрокинувши черную рожицу.
В келеице было жарко натоплено: арапка постарался. Старик сидел позабыто, ссутулившись, потупив взор полу и склавши коченеющие руки на острые колени. Так позабыто сидят лишь старики, словно бы виноватые, что еще живут на белом свете и заедают чужой век.
Слепец поднял отсутствующий, в то же время и напряженный, ожидающий взор, перебрал ногами, обутыми в валяные калишки. Что-то зоркое, осмысленное на миг мелькнуло в блеклых глазах нищего. Несмотря на жару, он был в стеганой рясе на овчине, из-под скуфейки спадали белые пенные волосы.
– Дедушка, как здравствуешь? – протянул государь с порога.
– Да слава Господу. Твоими милостями, государь. Вот гликося, всю сознательную жизнь отходил в маменькиных сапогах, то бишь босиком, а нынче-то благодать: башмаки сафьянные да бараньи сапоги. Вот помню, дружиной-то ходили: идешь, пыль загребаешь, босу ногу наколешь, да и заплачешь. Эхма, всплакнешь, матерь-то вспомянешь: зачем родненька на свет спородила. Ты садись, садись, миленькой свет-царь, с край меня-то садись. Сказывай, зачем пришел. Издаля слышу, идешь, значит. Ну, думаю, дожил, дедко: сам царь жалует. За-жил-ся я-я, батюш-ко, ми-лости-вец мой. – Венедихт скоро сплакнул; влага прозрачная и, наверное, бессолая уже, скопилась в коричневых впадинах и тут же, незаметно куда, источилась. Лицо у него было смуглое, прожаренное какое-то, и тонкая кожа туго натянута на скулах и иссечена мелко и слоисто, как трескается старая доска. Царь, словно силясь что понять, вглядывался в это знакомое с детства, но почти чужое в старости лицо; он туго соображал, зачем вот тут он, в келейке, возле душно пахнущего древнего нищего, будто бы знающего вещий смысл земного быванья. И неуж такие изжитые люди что-то хранят в себе? И невольно царь тайно взмолился и вдруг дал обет так долго не жить. Он испугался старости, безвольности и ненужности.
– Ну-ко, дайкосе ручку поцелую, Богов защитничек. – Старик поискал ладонью возле себя, нашарил пальцы государя и, наклонившись, поцеловал.
– Ествою-то не обходят? – спросил царь.
– Не, милушко. Это Христа нашего морили ироды, водички и той пожалели.
Домрачей неожиданно прокашлялся и запел Сон Богородицы:
Пречистая Дева Мария,
Да где ты ночесь ночевала?
Да где ночесь опочивала ? —
На славном-то древе над Иорданом
Ночесь мне-ка мало спалось,
Много во снях виделось...
— Да как не видеть, – сам себя перебил слепец. – Иной раз ночесь то узришь, что и веком не надумать. Как вот дверку откроют и тебя, значит, в другую жизнь кто вдруг введет. Ты небось снам-то веришь? Верь, батюшка родимый, верь, кормилец. Это с небес нам печати явные, чтоб не оступиться по дурости нашей. Эхма...
И он снова тоненько, скрипуче, жалостливо завыл, и слов-то из беззубого рта, наглухо уконопаченного седой бородою, трудно было понять: а царю и разбирать не надо, с младых лет знакомы те духовные стихи. Старик пел, а государь, шевеля губами, повторял:
И вижу: я чадо спородила,
На Иордани реки омывала,
Во пелены пеленала,
Во пелены берчатые.
Во поясы поясала,
Во поясы шелковые.
Иуды Христа продавали
Да за три златницы отдавали,
Жиды Христа распинали,
На крест Христа разновали,
Руки-ноги гвоздьем околотили,
Буйную главу проломали,
Горячую кровь проливали
На бело лицо нахаркали...
Государь дослушал духовный стих и попросил кротко, как велело сердце: «Дедушка Венедихт, рассуди. Вот нынче видел в полтретья ночи конец света. И ужаснулся. Такое наснилось. И с той поры прийти в себя не могу».
И Алексей Михайлович в третий раз на сегодня поведал сон.
– Ой, царь-государь, на дурную голову ты попал, – заотказывался поначалу слепец, но само собою вдруг приосанился, набрался характеру (ну как же, сам государь просит), медный складенек вытянул из-за рубахи и поцеловал: и, пока говорил с царем, не выпускал образ Богородицы из мелко трясущихся желтых пальцев с дряблой отставшею кожей. – Что может знать бобыль окромя живота своего? Что может поведать слепец, как только пожалиться на немочь свою? Как внити в душу чужую, сердешный, коли свету белого не вижу сколькой год. Аки конь стреноженный вокруг ларя своего крутюся, и что арапчонок спроворит, тем и живу. С чужих рук, государь, кормлюся. А ты совета просишь. Иль невмочь гнетет кручина?
– Гнетет, дедушко, – покорно согласился царь.
– Ишь ты, молодой молодец, а уже кручина. Вот и татушка твой, великий государь, благодетель мой и кормилец, от кручины помер. Боговы вы. Богом спасенные, мужиками вымолены, ах ты, прости дурака... Мужиками вымолены да спасены. Я-то уж стар, у меня кожа да кости отстала, во мне и гнить-то нечему, – вдруг мелко засмеялся старец и зачастил, воркуя, но меж тем взгляда блеклого не сводя с красного угла, с полицы, где тускло проступали образа да едва желтела лампадка-пиликалка. – Мне вот вас, молодяжку, жалко очень. Скоро грядет конец света, уже роженья березовые да кнутовья готовят для правежа. А вы еще и не пожили. Хочешь ли слушать меня, государь?
– Говори, Венедихт. Я твоего разумного хлеба сети хочу...
– Не осуди, как сон твой распечатаю не по сердцу... Прежде, милостивец, придет на нас антихрист и воссядет на стуле царском, государей попирая ногою. И станет судить не по добрым делам, а по козням, кто какое кому зло учинил, досадил чем, надсмеялся, кощуны какие устроил, дорогу перебег, злословил и срамотил: вот какие заслуги возьмет дьявол в расчет. И тогда многие, похваляясь, себя откроют, кто успел уже зело развратиться, стыд порастерял, и мрак свой, доселе скрытный, наруже выкажут, ожидая милостей антихристовых. И тогда всяк станет явен, как на солнушке, и невмочно будет таиться, и нельзя единому разделиться надвое. И тут-то внезапно нагрянет Сладчайший, Христосик наш, и примется судить по добрым деяниям. Ну-ка, скажет, разоболокайтесь нутром, притворщики и лицедеи! Небо и земля сотрясется, и падет с трона антихрист. Частые звезды на землю скотятся. Сойдет Михаил Архангел и затрубит в трубу живогласную: вставайте все, живые и мертвые, на суд к Богу! Бог сам зовет вас. По правой сторонушке идут души праведные, в лицах все светлеют, волосы яко ковыль-трава, ризы на них нетленные. Идут они на суд к Богу – радуются. Стречает их Владычица Мати Божия: «Подите мои христолюбивые избранные да покаянные, вот вам царство уготованное». Принимает их сам Господь Царь Небесный! По левой сторонушке идут души грешные, в лицах темные, одеяние страшное. Идут они на свою муку и слезно плачут. Господи, почто ты нас в царствие не впустишь? Мы все, де, люди христиане! И скажет им Христос: «Подите вы, грешные, проклятые, во три пропасти земные. Вы не мою веру веровали». Составит Господь все муки в одну муку, невзвидят грешные свету белого, не вслышат они гласу ангельского...
Царь-государь, да не устрашится того суда, есть еще времечко для тебя. Ты молод, ишо зелен: сладко разлижут, горькое расплюют. Дядьки своего Морозова поостерегися. Столкнет он тебя в ту пропасть. Уж больно народу нелюбый он да с фрыгой близко пасется, как с роднёю, и ближе. А немец до нас завистлив и досадлив. Вот и сон твой, как хошь понимай. Враки, так враки и есть. Что глупый старик набает тебе, кроме вранья, скажи на милость.
И понурился слепец, поняв, что молвил лишнего, со своим уставом, незваный, в чужой монастырь залез, снова сложил бессильные ладони на колена и весь погрузился во всегдашнюю одинокую темь. Он вроде бы и царя-то позабыл, так далеко отплывши. А государь, темнея ликом от последних намеков старца, так и не развеял кручины, недовольно покряхтел возле нищего и, не попрощавшись, покинул келью.
Глава четвертая
Богдан Матвеевич Хитров, разваляся в бархатном креслице, заучивал по Шестокрылу, изданному в Вильне в 1586 году, шабашную песню ведьм на Лысой горе, когда-то, говорят, подслушанную неведомым казаком. Книга была выменяна у немца-лекаря Давыда Берлова за полдюжины собольих хребтин в прошлом месяце и хранилась в страшной тайне. Залучив Черную книгу, Богдан Матвеевич смертно повязал себя с иноземным лекарем: за подобные забавы грозила царева опала и ссылка. Хитров не раз подступался к чародейскому письму, но с первой же страницы приходил в опаску: «Сия печаль премудрого царя Соломона притолковася от мудрого некоего ритора. Толк же ее сице расположился, яко зде ниже сего предложися. Зри опасно, увеждь известно».
Нынче же государь круто обидел Хитрова, толкнув ногою в лоб, и спальник отчего-то мстительно раскрыл Черную книгу. Лекарь Берлов был тут же в гостях, утешался чаркою романеи.
Читал обавную книгу карла Захарка; он притулился у ног хозяина на низенькой скамейке, покрытой тканым налавошником.
«... Вихара, ксара, гуятун, гуятун», – звонко печатал слова Захарка и вопрошающе подымал на царского спальника по-восточному печальные круглые глаза. Окольничий послушно повторял за карлой: «Вихара, ксара, гуятун, гуятун». И тут же бранился, де, сам черт ногу сломит в этой тарабарщине, оборачивался в красный угол и поспешно крестился на образа.
Лиффа, прадда, гуятун, гуятун,
Наппалим, вашиба, бухтара.
Мазитан, руахан, гуятун.
Жунжан.
Яндра, кулайнеми, яндра.
Яндра.
Лекарь Давыд Берлов встрепенулся, лицо его кисло скуксилось, будто съел жмень клюквы.
– О, майн Готт... Мой фатер и мой муттер не знали, что русиш такой пьянец и глупец. Они бы не пустил меня в Россию. Пропал бедный Давыдка, совсем пропал.
– Это не зазор, не-е, – оправдывался Хитров. – Наука из чужого ума. Ей в моей голове надо место сыскать.
– Хорошо, если найдется, – лекарь перестал ломать слова; он знал язык Московии, как свой, гамбургский. – Надо, чтоб отлетало от языка. Тогда дух будет от слова, испарение, туман. И польза... Гуту! Алегремос! Астарот! Бегемот! Аксафат, Сабабан! Тенемос! Гуту! Маяма, не, да, кагала! Сагана! – чеканул лекарь. – Вот как заучишь, Богдан Матвеевич, все ведьмы за тобою встанут и царь твой... – Лекарь Давыд Берлов засмеялся и пропустил пятую чарку романеи, с лихостью запьянцовского гуляки пристукнул серебряным донцем о стол. – Я тебе девку литовку подарю. Чародейка. Сквозь землю на сто сажен зрит, такая чертовка.
– А я чем отплачу?
– Дружбою... Докучать не буду, но и задремать не дам. – Берлов оправил кружевные манжеты на рукавах и выпрямился в кресле, будто проглотил мерный железный аршин. Был лекарь в пепелесом камзоле, в коротких штанах, перетянутых под коленями, в сиреневых чулках и башмаках рыжих с пряжками. Черный шелковый бант кустом расцвел на бритой кадыкастой шее, подпирая надменную квадратную голову. Густой волос подобран коротко, как кабанья щетина, и отливал сталью; глаза также сталистые, слегка навыкате, и жесткая щетка усов над тонкими язвительными губами, постоянно искривленными в ехидной усмешке. Статью своею, породой Давыд Берлов больше напоминал драгунского майора, чем лекаря. Богдан Матвеевич также разоделся за-ради гостя в красный камзол немецкого покроя, расшитый травами золотною ниткой, со стоячим узорным воротником, в шелковые белые чулки и башмаки из зеленого сафьяна, унизанные яхонтами. Этими дорогими каменьями и комнатными чувяками лишь и походил Хитров на русского боярина. Хитров нравился самому себе, часто поглядывая на высокое стоячее зеркало в черной резной раме, был сыт, слегка захмелен и потому миролюбив. Даже Шестокрыл на коленях карлы он принимал как за допущенную забаву и вольностью этой тоже гордился. Достакан, обвитый золотыми змеями с рубиновыми глазами (подарок Бориса Ивановича), был полон французского сладкого вина, и хозяин едва пригубил его. Хитрову льстило, что образованный лекарь из Немецкой слободы ищет с ним дружбы, и охотно принимал Берлова в своем не последнем на Москве дому. Хитров в левой руке, слегка жеманясь, держал фарфоровую ганзейскую трубочку с табаком и редко, но сладко потягивал ее, любуясь истекающим свивающимся в кольца дымом. Он скучающе обводил взглядом гостевую палату, обитую кизылбашскими дорогами, где по брусничной земле цветут золотные кусты. Эту восточную тафту Хитров сам подбирал для гостевой, чтобы особенно изысканно смотрелась мягкая и узорная, на птичьих лапах стоялая утварь, доставленная от дегов. По стенам висели четыре потешных немецких печатных листа из Библии Пискатора, купленные на Болоте в овощном ряду. Окна из веницейского стекла покрывали занавеси из астрадамской камки. Только образ Николы Можайского на полице да неугасимая лампада под ним подсказывали, что это хоромы православного человека...
– Мне Ордин-то, выскочка, каково... Ты, говорит, Бога не любишь. Это я не люблю? И Бога люблю, и все иные народы люблю, как завещал Господь наш, отвечаю. А он: что нам за дело до обычаев иноземных: их платье не по нас, а наше не по них. Это от зависти государю, чтоб сшибить меня...
– А что государь?
– Он ему отрезал: цени дерево не по цвету, но по кореню. Каково, а? Алексей Михайлович по мне без души, он меня всякому ханже не выдаст. – Богдан Матвеевич приосанился, взбил на лбу рыжий клок. – Я царю люб, он не даст мне измозгнуть понапрасну. Я заветное слово знаю. Верно, Захарка? – Хитров ловко поддел карлу со скамейки одной рукою и посадил к себе на колени, запустил пальцы в черный нарядный волос. Был карла в лазоревом немецком кафтане и зеленых сапогах.
– Батько добро помнит, – коротко сказал Захарка. Издали он вовсе походил на ребенка чистотою лица, какою-то прозрачной белизной кожи и брусничной яркостью губ, он был картинно, вызывающе красив, и лишь когда задумывался, погружаясь в себя, то в тускнеющих глазах сразу проступала тоска и возраст. Карла с хозяином были одного года.
– Тсс-с! – Хитров приложил палец к губам. – То страшная тайна.
– Я тайны твоей не решаюсь знать, – подольстился Берлов. – Ты человек верховный, не мне чета. Но знать бы хотелось.
Но Богдан Матвеевич оставил уловку без ответа: он рассеянно улыбался, покуривая трубку, и по-прежнему ворошил Захаркину голову. Да и то сказать: с тайною и сам человек иной, ему другая цена.
...А дело-то было из ряда вон. На медвежьей охоте в звенигородских лесах, когда царь брал зверя из берлоги на рогатину, подломилось вдруг ратовище, и Алексей Михайлович очутился под лесным хозяином. Подмял государя медведко и давай ворошить. И никого возле: ни ключников, ни стряпчих, ни окольничих, ни верных псарей, ни загонщиков, ни ближних бояр, ни думных дворян. Уже в памороке был государь, вовсе терял сознание, когда медведь, хрипя, вдруг отвалился на сторону. Это Богдан Матвеевич, бывший тогда в стольниках, оказался невдали, поспешил на помощь и кинжалом выпустил из медведя дух. Но странным было то, что царь на смертном поединке отчего-то остался один, без догляду и присмотру, словно бы вся челядь внезапно решилась проверить государеву судьбу. Происшествие затаили, грех свалили на случай, спасение на Господа и местночтимого святого Савву Сторожевского, но царь с тех пор баловал и тешил Хитрова, особенно приблизив к себе.
– Я тебе, Богдан Матвеевич, литовку дам во временницы. Она не только колдунья, но и целебница и утешница. Впрямь по-русски будет, ягодка красная. – Берлов поцеловал щепоть, но каменное выражение его лица не переменилось. – Аль струсишь, боярин?
– Никогда не трушивал и слово такое не ведомо, – веско упрекнул Хитров. – Трех агарян на пику брал и не пошатнулся. Ты, Берлов, дразнишься иль виды имеешь?
Давыд Берлов смутился, но тут же овладел собою.
– Ты, боярин, славный рыцарь. Этого не отнимешь. Хотя клянусь всеми чертями, что если бы десять татар поверстались в поле с тремя сотнями русских, то все ваши русские еле живы повалились бы на землю и дали бы развалить себя, как репу. – С этими словами Давыд Берлов приосанился и обвел гостиную палату таким победным взором, словно бы он-то и выиграл сражение. Вот вроде бы хозяев настрамотил, нагнал на честное русское имя напраслины, но ни капли сомнения иль смущения не мелькнуло в остром самоуверенном взгляде.
Но и хозяин-то каков, хозяин Хитров: он лишь крякнул, виноватясь за весь русский народ, и отвел глаза в глубокую оконницу, где виделся дальний краешек неприбранного апрельского подворья. И эта грустная картина неухоженности, какого-то всеобщего развала вроде бы лишь подчеркнула правдивость слов немца. Вон бредет едва челядинная баба, кажись, ключника Ерофея жена, с подоткнутым домотканым костычем, в опорках на босу ногу, и кому-то кричит озорное, и лыбится всем широким шадроватым лицом, морща нос утушкой, и показывает пальцами замысловатую фигуру, черт знает чему и рада только, дура набитая: солнцу ли хмельному, иль наводяневшему, едва живому снегу, иль близкой рыбной естве, – вчера привезли с Москвы-реки две дюжины двуаршинных щук, и вот нынче на всю дворню и челядь и самому Богдану Матвеевичу сварена ушица из живой рыбы.
У коровьего двора скотницы выкидывают навоз, готовя его под пахоту, и куры сбегаются к нему со всего двора, распугивая воробьев; желтеет гора свежих березовых поленьев; конюхи сметывают сено в лабаз, и тут же, широко расставив ноги, мощно прудит гнедая кобылица. Струя бьет со звоном в снег и прожигает его насквозь, до самой молодой травы, торопя ее наружу. И хотя из-за толстых каменных стен, из-за оконцев, больше похожих на башенные бойницы, ничего вроде бы и не слышно, но Богдан Матвеевич все дворовое, вседневное не только видит, но и слышит, и чует на запах, и даже кизылбашские мохнатые ковры, устилающие хоромы, ничуть не утешают. Все тот же надоевший вид, будто из поместья не выезжал, будто из деревни можайской да в иную, растекшуюся на семи холмах, как кисель, и никакой ложкой не собрать в кучу. Господи, скука-то!..
Так переживал Богдан Матвеевич московское окольничье сидение, хотя исполнилось ему намедни лишь двадцать восемь лет. Потому ничего и не возразил, но даже благосклонно кивнул, де, Русь не чета ни свеям, ни дегам, ни паршивым полячишкам, пожалуй, во всем мире не сыскать места похуже. Ни сварить толком, ни построить чего, ни ковра соткать, ни дорог стоящих, ни посуды, ни разговора. Зимой снег, весной грязь, летом пыль. Куда уж там равняться с немцем? лишь смиренно склони очи долу; вот и весь сказ.
Но заступился вдруг карла Захарка. Эта расписная живая кукла, будто бы слепленная из тончайшего фарфора, досель смиренно торчавшая на коленях у хозяина, встрепенулась и оборвала кощуны Давыда Берлова:
– Ты скажи еще, Давыдка, что мы скотьи дети, что у нас один глаз и тот на брюхе, а уши на заднице растут, что мы заместо курей яйца выпариваем, что мы грибы и ничтожный помет, что мы не мужики и не бабы, а дохлые собаки. Ах ты фрыга, прискочил за русским куском и лаешь... Как же это случилось, что русские по милости Божией взяли три татарских царства, разбили в пух и прах хана Мамая и твоего хваленого шведа немало гоняли, пока не запросил милостей. Вы, фрыги, от скупости даже кошачий помет жрете... Кукуй, покажи свой... – вдруг выпалил Захарка обидную для всякого немца дразнилку, подслушанную на московских улицах.
Богдан Матвеевич поначалу замешался, но не стерпел и неудержимо рассмеялся, сунул фарфоровую трубочку карле в рот; тот с отвращением сплюнул, вытер губы и закинул табачную соску в дальний угол к опечку. Хитров в назидание без сердца щелканул карлу в затылок.