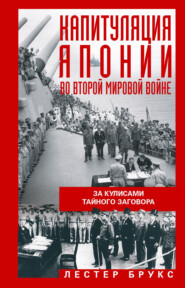скачать книгу бесплатно
Затем Анами ушел, словно растворившись в мягкой августовской ночи.
В то время как министр отошел ко сну, Такэсита и заговорщики оживленно обсуждали новость, сообщенную им Арао. Теперь, когда генерал Анами был вместе с ними, они могли двигаться дальше в осуществлении своих планов. Военный министр, несомненно, склонит генерала Умэдзу к сотрудничеству.
Но в преддверии приближавшегося заседания Кабинета министров и условного времени, назначенного на 10 часов, они должны были действовать без промедления. Им еще предстояло встретиться с командиром императорской гвардии и командующим Армией Восточного округа. Заговорщики решили вызвать этих двух офицеров и главу военной полиции в офис военного министра, чтобы свести их с генералом сразу же после его беседы с Умэдзу. Тогда Анами должен был призвать их к сотрудничеству. И конечно, если бы они проявили нерешительность, их можно было бы легко сместить, а соответствующие приказы были бы отданы их заместителям.
Заговорщики отправили приказ, якобы от имени военного министра, генералу Танаке, командующему Армией Восточного округа, генералу Мори, командиру Императорской гвардии, и генералу Окидо, начальнику военной полиции, явиться в офис генерала Анами в 7 часов 15 минут утра. А пока заговорщики занялись подготовкой приказов и инструкций войскам.
Наконец, все пришло в движение! Пройдет всего полдня, и они получат полную власть, и не надо будет и дальше терпеть напористую фракцию пацифистов. Тогда только продолжение войны! Пока противник не согласится на разумные условия – условия, выдвинутые военными.
Глава 2. Вор на пожаре
13 августа 1945 года военный министр Японии принял шестерых заговорщиков, намеревавшихся поставить под свою власть правительство и продолжить войну от его имени. Причины теплого приема и поддержки, оказанной им, многоплановы.
Они коренятся в мифологических традициях происхождения Японии, в своеобразных общественных институтах, которые появились в этой изолированной от внешнего мира стране. В разделении власти императора и правителя. В потрясающей Реставрации Мэйдзи. В доминирующем влиянии агрессивных милитаристов и в недавней истории участия Японии во Второй мировой войне. Его действия можно лучше понять, если проанализировать события предшествующих четырех дней начиная с 9 августа 1945 года.
«В настоящее время условия жизни людей просты и примитивны, а люди бесхитростны. Их манеры просты, что стало уже привычным». Это высказывание принадлежит Дзимму, первому легендарному императору и основателю Японии, и относится оно к 660 году до н. э.; сказал он это 26 столетий назад, но в таком же состоянии пребывали японцы и в августе 1945 года.
Для Японии это был восьмой год войны. В раскинувшейся на огромной площади столице Токио под палящим августовским солнцем созревал батат, посадки которого занимали те места, где раньше стояли сотни школ, магазинов, контор и жилых домов. История Токио насчитывала более пяти столетий, но будущее представлялось мрачным в этот двадцатый год эпохи Сёва, время правления императора Хирохито.
Некогда Токио был третьим по величине городом мира; теперь более половины из семи миллионов его обитателей бежали из него, были призваны в армию, убиты или искалечены в ходе массированных воздушных бомбардировок, которые привели также к пожарам, уничтожившим половину зданий древней столицы. Более того, июльский приказ об эвакуации 200 тысяч горожан мог превратить Токио в город-призрак.
В воздухе столицы чувствовался сильный запах гари, хотя утром 9 августа на город не сбрасывали зажигательные бомбы, которые во все предыдущие дни привычно выполняли свою дьявольскую работу. После последнего воздушного налета вздымавшиеся столбы дыма прибило ветром к земле, его следы лежали на земле в виде пепла. Одежда, постельное белье, пища – все пропиталось запахом дыма. От него нигде не было спасения.
Сам город был сердцем страны, находившейся в осаде. Более интенсивно и эффективно, чем при какой-либо иной осаде в истории, враг уничтожал жителей и объекты японской инфраструктуры. Находясь в кольце блокады, под прицелом авиации, в окружении сотен надводных судов и подводных лодок, минных полей, под беспрерывным обстрелом из корабельных орудий, японский народ стремительно деградировал. Из наиболее современного государства Азии Япония превращалась в страну с бессильным и расколотым обществом, откатывавшимся в каменный век.
Первыми из городов эвакуировали детей. Часто целые классы со своими учителями переселялись в «безопасные» города в провинции. Тем не менее на окраинах Токио в здании одной сельской начальной школы наблюдалась утром 9 августа 1945 года необычная активность. Сама школа была закрыта уже несколько недель, но в ее стенах был размещен отдел радиомониторинга японской государственной информационной службы Домэй. Здесь приемники были настроены на волну мировых столиц, и ранним утром в 4 часа оператор, настроившийся на частоту Москвы, был поражен неожиданным известием.
Когда ТАСС начало передавать радиосообщение, он был в полусонном состоянии, но когда оно завершилось, его уже била нервная дрожь. Оператор схватился за телефон и позвонил в отель «Империал», где занимал отдельный номер зарубежный редактор агентства Домэй. «Хасэгава, – он едва мог говорить, – русские напали на нас!»
Русские начали войну в полночь 8 августа. Их войска уже переходили границы Маньчжурии в трех разных секторах, планируя взять противника в клещи на трех направлениях.
О радиоперехвате было сообщено министру иностранных дел Сигэнори Того; с мрачным выражением лица он прослушал по телефону текст следующего содержания:
«После поражения и капитуляции гитлеровской Германии Япония остается единственной великой державой, которая выступает за продолжение войны.
Требование трех держав – США, Великобритании и Китая, выдвинутое 26 июля, о безоговорочной капитуляции японских вооруженных сил Япония отвергла, и, таким образом, предложение японского правительства Советскому Союзу о посредничестве в войне на Дальнем Востоке теряет всякий смысл.
Принимая во внимание отказ Японии капитулировать, союзные державы передали советскому правительству предложение присоединиться к ним в войне против японской агрессии и тем самым ускорить окончание войны, сократить количество жертв и способствовать быстрому восстановлению всеобщего мира.
Верное союзническому долгу советское правительство приняло предложение союзников и поддержало декларацию союзных держав от 26 июля.
Советское правительство считает, что подобный шаг – единственное средство приблизить наступление мира, избавить народ от дальнейших жертв и страданий и дать возможность народу Японии избежать тех опасностей и разрушений, которые пережила Германия после отказа от безоговорочной капитуляции.
В силу всего вышесказанного советское правительство заявляет, что с завтрашнего дня, 9 августа, советское правительство считает себя в состоянии войны с Японией».
Это заявление советской стороны, когда не прошло еще 72 часов после бомбардировки Хиросимы, было ошеломляющим. Никто не знал об этом лучше, чем Того, который через японского посла в Москве после капитуляции Германии в мае предпринимал усилия с целью убедить Советы стать посредником в переговорах о мире с союзными державами.
Американцы также знали об этом, так как США взломали японский код и внимательно следили за всеми действиями Японии. Одним из наиболее важных сообщений во время войны была телеграмма Того от 12 июля, адресованная Сато в Москву: «…это самое большое желание его величества добиться скорейшего окончания войны. В великой Восточноазиатской войне, когда Америка и Англия настаивают на нашей безоговорочной капитуляции, у нашей страны нет иной альтернативы, как пойти на это, предприняв для этого всевозможные усилия ради выживания и сохранения чести нашей родины». Это откровенное заявление о намерениях императора должно было бы заставить американских дипломатов действовать быстро, чтобы сразу же добиться окончания войны, однако не было предпринято ничего, чтобы капитализировать эту драгоценную возможность.
Русские держали Сато, японского посла, на расстоянии вытянутой руки, чтобы он не мог получить прямой ответ – «да» или «нет». Хотя он не раз заводил разговор о посредничестве. Японцы не объясняли свою просьбу. Чего они хотели? Сато заявил, что они желали получить разрешение для принца Коноэ посетить Москву со специальной миссией в качестве личного представителя императора. Советы в ответ на это задали вопрос о цели миссии, затем потребовали уточнить детали. Настоящей целью советских ответов, как Сталин сказал об этом Трумэну в Потсдаме, было усыпить японцев, заставить их поверить, что их просьба активно рассматривается. Все это должно было продолжаться до тех пор, пока Советский Союз не будет готов к нападению.
Японские политики надеялись на помощь со стороны Советов, они хватались за нее как за соломинку. Они полагали, что через их посредничество им удастся наладить контакт с союзными державами, чтобы смягчить условия безоговорочной капитуляции. И они также надеялись, что их признание возможности поражения заставит Советский Союз сохранить нейтралитет.
Эти надежды основывались на зыбучем песке советской беспринципности. Сато направил целый ряд объяснительных записок министру иностранных дел, в которых говорилось о бесполезности предпринимаемых усилий. Он умолял Того быстрее заключить мир, пока Японию не постигла судьба Германии.
В одной из нот Сато делал вывод, что Россия нападет на Японию ориентировочно после 1 августа. Эти ноты не прибавили Сато популярности ни в министерстве иностранных дел, ни в Кабинете министров. Не прибавила ему поклонников и его слава внимательного наблюдателя. Горькое пророчество не способно сорвать аплодисменты. Такова участь Кассандры.
То, чего опасались в Японии, в итоге и случилось. Впервые Советы показали себя в апреле 1945 года, когда денонсировали японо-советский пакт о нейтралитете. Теперь они предприняли второй шаг.
В то время как японские города сгорали в пламени или буквально испарялись в грибовидных облаках, Советский Союз действовал как вор на пожаре. С неизвестностью наконец было покончено. Массовые убийства продолжились.
«Перед рассветом меня известили, что Россия объявила войну Японии и вторглась в Маньчжурию, – писал впоследствии Того. – Я немедленно позвонил премьер-министру [адмиралу Кантаро Судзуки], в автомобиль которого попала бомба… Я напомнил ему, что просил его собрать членов Высшего совета по ведению войны для обсуждения атомной бомбардировки Хиросимы, и добавил, что считаю этот вопрос теперь более актуальным, чем когда-либо прежде, и что решение закончить войну должно быть принято немедленно. Премьер-министр согласился».
Достопочтенный премьер был готов согласиться со всем, что бы ему ни предложили. Это было одной из наиболее раздражающих черт его характера для всех окружающих. Теперь он обратился к молодому секретарю Кабинета министров Хисацумэ Сакомидзу и поручил ему собрать членов Высшего совета как можно быстрее.
Тогда Судзуки подумал о генерал-лейтенанте Сумихисе Икэде, главе Бюро планирования. Икэда посетил Квантунскую армию в Маньчжурии всего три недели назад и был информирован о ее способности противостоять советскому наступлению. Премьер позвонил Икэде и спросил его: «Способна ли Квантунская армия отбить наступающие советские части?»
«Положение Квантунской армии безнадежно, – ответил Икэда. – В течение двух недель Чанчунь (главный город в Центральной Маньчжурии) будет оккупирован».
Судзуки отказывался верить такому неожиданному прогнозу. Тяжело вздохнув, он произнес: «Разве Квантунская армия настолько слаба? Тогда игра окончена».
«Чем дольше мы будем затягивать принятие окончательного решения, – констатировал Икэда, – тем это будет хуже для нас».
«Абсолютно верно», – подытожил премьер.
Странно, размышлял Икэда, что премьер никогда не выражал своего личного мнения, будь то на заседаниях правительства или на императорских конференциях.
Подполковник Масахико Такэсита находился в казарме, расположенной к юго-востоку от дворца; он дремал, когда его окончательно разбудил и поднял с койки настойчивый звонок телефона. Такэсита был красив, горяч и полон энергии.
Звонили из военного министерства. Было получено донесение из Квантунской армии (самой мощной японской армии в Китае и Маньчжурии): русские перешли в наступление. Подполковника немедленно вызывали в министерство.
Такэсита быстро надел мундир, сел за руль штабного автомобиля, работающего на угольном газе, и поехал в министерство. Он прибыл в самый разгар спора. Речь шла о русском вторжении, о предательском поведении Советов, нанесших неожиданный удар; о возможности Квантунской армии оказать сопротивление, и ее командном составе; о судьбе императора и империи.
Несмотря на то что нападения русских ожидали уже давно, Япония оказалась неподготовленной к нему. Как сказал генерал-лейтенант Кавабэ, заместитель начштаба армии: «Вступление в войну русских было настоящим потрясением, в то время как последствия ядерного удара были не столь очевидны. Поскольку Токио непосредственно не подвергся бомбардировке, вся тяжесть удара еще не была прочувствована…Однако донесения, поступавшие в столицу, говорили о „толпах наступавших русских“. Мы испытали еще больший шок и чувство тревоги, потому что мы постоянно опасались нападения, живо представляя себе, что несметные вооруженные силы Красной армии в Европе теперь будут задействованы против нас».
Советское нападение не должно было стать неожиданностью для Японии. Японская разведка сообщала, что русские войска, артиллерия, танки и другое военное снаряжение начали перебрасывать в Сибирь с февраля 1945 года. Даже объем перевозившейся техники был известен: 30 грузовиков в день. Согласно данным разведки, к концу мая было перевезено 870 орудий, 1200 танков, 1300 самолетов и более чем 160 тысяч личного состава. Конечно, объемы перевозок резко выросли после поражения Германии в мае. Поступило важное сообщение, что войска не получили зимней экипировки. Было очевидным, что планировалась короткая и легкая кампания в самое ближайшее время.
Русские могли припомнить их военные конфликты с Японией, это касалось и самой Японии. В памяти русских еще живы были воспоминания, когда Россия пострадала от японцев в трех предыдущих случаях. И трения между ними продолжались.
Япония предъявила требования на Курильские острова в 1875 году. Двадцать лет спустя Россия вмешалась, когда Япония разгромила Китай и, казалось, была готова присоединить к своей империи земли на континенте. В этот же самый год Япония в результате интервенции трех держав – России, Франции и Германии – была вынуждена отказаться от своих требований на владение Порт-Артуром и эвакуировать свои войска из этого города в обмен на денежные суммы, выплаченные серебром. Чувствительных японцев ранило, что всего лишь три года спустя Россия взяла себе Порт-Артур (в аренду у китайцев).
Это стало одной из причин, приведших в 1904 году к Русско-японской войне. Япония напала на Россию неожиданно и смогла быстро потопить российский флот и разгромить сибирскую армию. Ресурсы Японии сильно истощились в ходе войны, и она приветствовала решение Теодора Рузвельта выступить в качестве мирного посредника. Согласно Портсмутскому мирному договору, Япония получила половину Сахалина, ей перешли от России арендные права на Порт-Артур и Квантунский полуостров (или Гуаньдун), Россия уходила из Маньчжурии и признала сферу влияния Японии в Корее.
Когда в 1917 году произошла русская революция, британцы и американцы предложили Японии послать войска в Сибирь для «поддержания статус-кво». Каждая союзная держава должна была выделить по 7 тысяч солдат для этой цели. Японцы начали сотрудничать с энтузиазмом; кроме первых 7 тысяч солдат, в Сибирь были направлены дополнительные войска. И в итоге они потеряли счет времени.
Когда другие союзные державы вывели свои войска, японцы остались, и продолжали оставаться долго. Только после вежливого, но настойчивого дипломатического давления со стороны Британии и США японские войска были выведены из Сибири спустя два года после того, как союзники вывели свои последние части. И Японии понадобилось еще два года для вывода своих войск с русского Сахалина. Японские части доходили даже до важного сибирского города Иркутска, расположенного почти в 1400 милях от побережья Японского моря.
Конфликты на границе между Японией и Россией случались довольно часто после того, как Япония захватила Корею, образовала марионеточное государство Маньчжоу-Го на оккупированной территории Маньчжурии в 1932 году и, сломив сопротивление китайцев, вторглась во Внутреннюю Монголию. Япония также добилась от России концессий на добычу нефти и вылов рыбы.
К середине 1938 года японский генералитет в Маньчжурии решил, что настало время испытать Россию на прочность. Они развязали боевые действия в районе озера Хасан, там, где сходятся границы Кореи, Маньчжурии и Сибири. Советские войска нанесли им серьезное поражение. Следующей весной японцы предприняли еще одну провокацию на границе. Квантунская армия атаковала советские позиции во Внешней Монголии в Номонгане (или на Халхин-Голе, как называют его русские). Этот инцидент быстро перерос в небольшую войну; в ней приняли участие 300 тысяч войск. Это стало самым большим столкновением механизированных армий на это время в мировой истории. После понесенных потерь в 50 тысяч человек японцы решили отступить.
Принимая во внимание конфликтную историю непростых русско-японских отношений, японские офицеры в это душное утро 9 августа 1945 года вряд ли сомневались в том, что Советы были намерены захватить все, до чего только могли дотянуться их руки. И японские офицеры в Генштабе знали о том, о чем мир подозревал, но японский народ не имел никакого понятия. Квантунская армия была значительно ослаблена, потому что отсюда японское командование забирало войска и различное вооружение для ведения военных кампаний на других фронтах, так что от ее былой мощи вряд ли что-то осталось. Сообщали даже о том, что на трех солдат приходилась всего одна винтовка. Внешне армия выглядела вполне боеспособной, но под такой ее оболочкой была пустота.
Наиболее пугающей была перспектива, что русские смогут повлиять на мирные переговоры.
В обстановке, когда Советы вели войну и одновременно подписывали Потсдамскую декларацию, все намечаемые в ней сроки оккупации и проведения свободных выборов были абсолютно непредставимы. Ни один японец не мог чувствовать себя в безопасности, если бы контроль над страной отчасти осуществляли Советы. Это означало, что русские стали бы развивать и поддерживать коммунистическое движение в Японии, что красные попытались бы захватить власть, и, с советской помощью, однажды им бы это удалось. Тогда не представляло бы труда аннексировать Японию и сделать ее частью СССР.
Несомненно, Советы в роли оккупантов предприняли бы все возможное в их силах, чтобы полностью подчинить себе японцев. Наиболее тревожным фактором среди множества других была угроза ареста самого императора, так как русские оккупанты имели право арестовать любого человека в любое время. Таким образом, они могли бы расправиться со всей императорской семьей. За одно мгновение они вычеркнули бы из истории 2600 лет «непрерывного» правления, и с уникальной государственностью Японии было бы покончено. Об ином пути, кроме как выполнить условия Потсдама и допустить войска союзников и Советов на территорию Японии, не было и речи.
По мнению армейских офицеров в Генштабе и в военном министерстве выбора не было; оставалось только удвоить усилия, чтобы предотвратить ужасы оккупации. Итак, война до победного конца, применение тактики выжженной земли и партизанская борьба в горах. Это был единственный путь. Многие офицеры служили в Китае, и потому они знали, что, хотя Япония сражалась там восемь лет, она контролировала только крупные города и линии коммуникаций, но не всю страну. То же самое будет и в Японии, когда во власти врага будут только ключевые города, порты и железнодорожные линии. Но никакие оккупационные войска не смогут патрулировать все побережье и удерживать под контролем 80 миллионов японцев, настроенных решительно и хранящих в себе непобедимый дух народа Ямато. Союзники никогда не смогут покорить Японию.
В краснокирпичном здании военно-морского министерства утром 9 августа также шла оживленная дискуссия. Вице-адмирал Дзенсиро Хосина, глава Бюро военных дел министерства, опоры военно-морского флота, узнав о наступлении русских, пришел к выводу, что развитие событий требует сделать окончательный выбор – мир или война. Хосина предоставил слово вице-адмиралу Такадзиро Ониси, заместителю начальника штаба флота.
Ониси был офицером-фанатиком, в заслугу которому ставилась организация «специальных атак» и подготовка летчиков-камикадзе («божественный ветер»), ставших важным фактором войны. Во время боев на Окинаве применяемая Ониси тактика самоубийств стоила американцам жизней многих морских пехотинцев и поврежденных кораблей; ничего похожего до этого в боевой истории американского флота не было.
Начиная со сражений на Филиппинах в конце 1944 года страшное детище Ониси – корпус специальных атак – бросило в бой 665 морских офицеров и 1400 рядовых. Ониси был одним из активных лидеров офицеров флота, не признававших никаких компромиссов.
Хосина, прекрасно осведомленный о взглядах Ониси, хотел знать, как он теперь относится к вступлению русских в войну. «Контролирует ли главное командование военную ситуацию? В зависимости от ответа на этот вопрос мы должны принимать политическое решение. Если командование не уверено в этом, то для Японии нет иного выхода, как только принять Потсдамскую декларацию и закончить войну. Что Вы думаете об этом?»
Ониси отвечал довольно пространно. Он не придал большого значения атомной бомбе и участию русских в войне, обошел вопрос постоянно сокращавшихся морских поставок нефти и бензина. Он только подчеркнул эффективность специальных атак и роль самоубийц как надежного оружия. С убежденностью в своей правоте и самоуверенностью фанатика он сделал вывод, что существовали «большие возможности для победы Японии».
Хосина затем отправился в офис министра флота адмирала Мицумасы Ёнаи. Адмирал сидел, сгорбившись, за рабочим столом. Прежде чем Хосина успел произнести хотя бы слово, Ёнаи поднялся со стула и сказал: «Я прекращаю войну».
Так впервые наметился явный раскол. Некоторые высшие офицеры главного командования флота предпочитали сражаться до конца; министр флота хотел положить конец войне. Это было ярким контрастом шовинистическим настроениям армейской массы. Если бы военный министр сделал заявление, подобно Ёнаи, несомненно, он был бы убит в результате покушения.
Глава 3. Старый новый вождь
Во главе Японии в этот решающий час встал человек честный и, вне всякого сомнения, преданный императору – 77-летний адмирал барон Кантаро Судзуки. Невозможно было сделать более верный выбор в условиях, когда стране предстояло пройти через самые суровые испытания.
Ко времени начала русского наступления Судзуки исполнял обязанности премьер-министра Японии уже в течение четырех месяцев, которые были отмечены катастрофическим падением уровня жизни. Все же правительство еще не признало официально этот факт, и премьера Судзуки часто заставали за чтением Лао-цзы в его кабинете, в то время как его министр иностранных дел упорно пытался поднять флаг перемирия.
1 апреля 1945 года, спустя неделю после падения Иводзимы, союзники начали полномасштабную высадку своих войск на Окинаве. К 5 апреля, сломив слабое сопротивление японцев, был отвоеван надежный плацдарм. В этот день Советский Союз расторг японо-советский пакт о нейтралитете. Также 5 апреля японский премьер генерал Куниаки Койсо подал в отставку.
Вечером этого дня Коити Кидо, лорд-хранитель печати, собрал вместе дзюсинов, то есть высших государственных мужей – бывших премьер-министров и председателя Тайного совета Японии.
Все они, за исключением одного, занимали в прошлом пост премьер-министра, и все, в известном смысле, были неудачниками. Генералу Тодзё, например, не удалось выиграть войну; принц Коноэ был бессилен предотвратить ее. Усилия барона Хиранумы заключить пакт между Японией и Германией потерпели крах; адмирал Окада не мог предотвратить военный мятеж 1936 года; Коки Хирота был неспособен контролировать армию; Рэйдзиро Вакацуки, как он ни старался, не смог ни предотвратить, ни остановить вторжение японской армии в Маньчжурию. Единственным неполитиком среди собравшихся и единственным, кто не занимал в прошлом пост премьера, был возглавлявший Тайный совет барон Судзуки.
Собрав всех этих разных людей, Кидо намеревался получить у них ответ на вопрос, какого кандидата следует назначить премьером вместо только что ушедшего в отставку. Как обычно, Кидо навел необходимые справки, чтобы результаты встречи не стали неожиданностью. Если он не сможет заранее добиться нужного результата игры, то хотя бы надо выложить выигрышную карту.
Лорд-хранитель печати задействовал все свои умения, чтобы адмирал Судзуки стал премьером. Вначале Кидо послал к нему своего секретаря, чтобы выяснить, каких взглядов придерживается адмирал. Затем он обратился к императору и сказал ему, что у него нет никаких возражений против кандидатуры Судзуки. Он также обсудил этот вопрос с тремя из семи дзюсинов, и они рекомендовали на важный пост этого престарелого человека.
Когда пришло время для окончательного утверждения требований, предъявляемых новому премьеру, Тодзё сказал, что новый кабинет должен стать последним. Судзуки поддержал этот тезис, он утверждал, что новое правительство должно выстоять в этой войне, чего бы это ни стоило. «Будущего главу кабинета, – говорил он, – будут считать некомпетентным государственным деятелем, если у него не будет этой решимости».
Во время чайной церемонии государственные деятели обсуждали вопрос, должен ли следующий премьер быть военным на действительной службе, подобно Тодзё и Койсо. Тодзё придерживался мнения, что только военный человек мог одновременно управлять страной и вести войну. Судзуки напомнил, что принц Ито, премьер во время китайско-японской войны в 1894 году, не был военнослужащим и полагал, что военный в данной ситуации не требовался.
Принц Коноэ выдвинул два требования: новый премьер-министр должен пользоваться доверием; он должен иметь незапятнанную репутацию. Его руки должны быть чисты, и его имя не должно ассоциироваться с прошлыми неудачами. Эти принципиальные требования получили поддержку всех собравшихся.
Судзуки утверждал, что дзюсины должны рассматривать управление правительством как общее дело. «Мы должны быть готовы принести себя в жертву государству, принять ответственность на себя и умереть за его величество. Что же касается поста премьер-министра, мне хотелось бы просить принца Коноэ, самого молодого среди нас, занять этот пост, так как работа премьера требует больших физических сил. Кроме того, мы окажем поддержку. Что, если четверо из нас решатся на первое усилие?»
Подобное предложение не приняли Коноэ и Хиранума, которые заявили, что это прямо противоречит только что одобренным принципам. Хиранума высказался в поддержку кандидатуры Судзуки, и его поддержали Коноэ и Вакацуки. Судзуки был потрясен: «Мне всегда представлялось, что участие военных людей в политике обычно приводило к краху страны. Так было с Римской империей, с немецким кайзером, и так закончилась династия Романовых. Для меня просто невозможно участвовать в делах политики. Поэтому прошу меня извинить».
Судзуки знал за собой много других недостатков. Ему было около восьмидесяти, он питал отвращение к политике, был простодушным; он исповедовал даосизм, который проповедовал принцип неделания. Однако если старый моряк думал, что может отказаться от поста, то он ошибался. Все дзюсины во главе с Кидо потребовали от него принять эту должность. Один лишь Тодзё прямо предупредил его: «Если вы не будете достаточно осторожны, весьма возможно, что армия отвернется от вас. Если это произойдет, то кабинет следует немедленно распустить».
«Это крайне серьезно, если в такое время не будет поддержки армии, – ответил Кидо. – Но разве имеются хоть какие-то признаки этого?»
«Я сказал бы, что есть», – отрезал Тодзё. Это была явная угроза, что военные могут выйти из любого правительства, если не смогут его контролировать. Пожалуй, лишь только то правительство, которое было бы представлено как армейскими, так и морскими офицерами, могло удовлетворить военных. Возможно, они предпочли бы военный переворот и введение военного положения.
Лорд-хранитель печати отозвал Судзуки в сторону, в то время как другие дзюсины пошли обедать. «Некоторое время назад вы были настроены решительно против, однако ввиду сложившейся ситуации я призываю вас сформировать кабинет во что бы то ни стало. Извините, что беспокою вас, но вы согласны?»
Судзуки, чувствуя себя как в ловушке, сказал: «Я хотел бы отказаться, поскольку не чувствую в себе уверенности, что выполню эту работу».
Кидо, зная, что Судзуки не поддавался на уговоры и высказывался иногда двусмысленно, продолжал упорно настаивать на своем: «Настоящее положение столь критическое, что я умоляю вас принять великое решение и спасти нацию».
В чем Япония действительно нуждалась в этот отчаянный момент ее истории, так это в современном военном и политическом гении, который смог бы обратить все неудачи в преимущества, можно сказать, в Александре Востока. Вместо этого она поставила у государственного штурвала престарелого моряка, героя войн 1894 и 1904 годов, почетного старца, который уже десять лет был управляющим императорского двора и обер-камергером императора.
Почему был сделан этот выбор? Внутри страны назначение Судзуки было гениальным ходом во многих отношениях. Судзуки уважали в народе как подлинного военного героя.
Престарелый моряк пользовался полным доверием императора. «Судзуки, – говорил Хирохито, – я могу раскрыть свое сердце». Его величество обращался к нему неформально, называя его одзи – дядя.
Были и другие, не столь явные, причины избрания его премьером. Понятно, что он не принадлежал к армейской клике. Тем самым стране и миру посылался сигнал, что сторонники войны до победного конца потерпели поражение. Судзуки был настолько далек от политической борьбы, что твердолобые ура-патриоты и пацифисты были уверены, что у них есть место для маневра. Не имея собственного политического курса, Судзуки, как они полагали, непременно будет колебаться и попадет в зависимость от чужих решений.
Престарелый адмирал не вызывал антагонизма и отторжения, как премьеры генерал Тодзё и генерал Койсо. Тодзё вообще не пользовался популярностью из-за своих авторитарных методов правления. Койсо раздражал армию, двор и народ своими топорными решениями. О Судзуки было известно, что он ведет скромный образ жизни, верен правилам даосизма и что он чужд честолюбия и эгоизма.
Тем не менее существовали и те, кто имел к нему претензии.
«В армейских кругах сомневаются, что в его возрасте он сможет принимать соответствующие эффективные меры в данной ситуации как внутри страны, так и за рубежом, – заявлял важный представитель военного министерства. – Но в настоящее время армия не возражает против его назначения, поскольку известно, что Судзуки пользуется особым доверием императора, и тем самым его премьерство будет благоприятно для армии, если он примет ее предложения. Кроме того, он брат генерала Такао Судзуки, кому армия доверяет».
Одним из первых действий вновь назначенного премьер-министра был телефонный звонок своему другу, бывшему премьеру адмиралу Окаде, который был вне политики вот уже 19 лет и ушел в отставку с флота семь лет назад. Судзуки просил его принять должность военно-морского министра. Окада был озадачен и колебался, и он немедленно отправился в резиденцию премьер-министра, чтобы переговорить с Судзуки.
Нелепость предложения Судзуки была понятна всем. Окада, в бытность свою премьером, вызывал к себе такую ненависть среди крайне правых военных, что в 1936 году они попытались его убить. Он был адмиралом в отставке. На должности военного министра и министра флота могли быть назначены только военные на действительной службе. Явно, что Судзуки не проконсультировался с серыми кардиналами во флоте по этому вопросу (они выступили бы против Окады). Но это было обязательным предварительным условием, если бы он хотел получить их поддержку.
Когда Окада приехал к премьер-министру, его опасения подтвердились. Он обнаружил группу людей, «которые не привыкли делать телефонные звонки», не говоря уже о том, чтобы они имели способность находить свой путь в джунглях политики.
Окада сел и начал говорить с Судзуки как законченный моралист. Было понятно, что старик нуждался в человеке, обладавшем политическим опытом, на которого он мог положиться. Окада порекомендовал молодого человека, который был достаточно компетентен, – Хисацунэ Сакомидзу. Ему было сорок три; он работал секретарем Окады, когда тот был премьером. Сейчас он был начальником отдела банковского страхования в министерстве финансов. Окада мог ручаться за него. И так случилось, что он был его зятем. Судзуки назначил Сакомидзу на должность главного секретаря Кабинета министров – рабочей лошадки.
Окада и Сакомидзу рассказали адмиралу о политических хитростях в деле формирования кабинета, и старик прислушался к их совету. Первым препятствием в этом деле была армия.
Судзуки, формируя свой кабинет, позвонил, как было принято, уходящему военному министру маршалу Сугияме. Он хотел узнать, кого армия может рекомендовать на пост военного министра в новом правительстве. Сам Судзуки предпочитал генерала Корэтику Анами, который был ординарцем императора в то время, когда премьер был камергером его величества. Он близко знал Анами в те дни пятнадцать лет назад, уважал и доверял генералу. Но согласно официальной процедуре было необходимо обратиться к армии с просьбой «назвать» кандидата.
В ожидании этого верхушка армии не только выбрала министра, но и, как обычно, подготовила список условий. До тех пор, пока новый премьер не одобрит условия, выдвинутые генералитетом, назначение военного министра не могло состояться. И конечно же, кабинет без военного министра не мог существовать.
Маршал Сугияма вручил Судзуки список условий, выдвинутых армией:
1. Продолжить войну до конца.
2. Обеспечить унификацию армии и флота.
3. Сплотить нацию для решающей битвы за отечество.