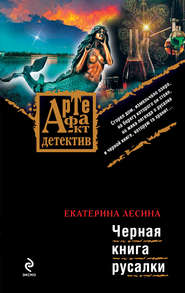скачать книгу бесплатно
В общем, сообразила Ольга не сразу и даже машинально ответила заготовленную и многожды использованную фразу:
– Ты снова все преувеличиваешь.
– Я?! – возмущенно взревела Юлька. – Я преувеличиваю? Что тут можно преувеличить! Беременная она! Шалава малолетняя! Представляешь?
Вот тут Ольга поняла. И замерла с протянутой к вентелю рукой. Как это беременна? Ксюша ведь маленькая еще. Ей же... ей же и шестнадцати нет? Ну да, через неделю только.
– И сама не знает, от кого, – мстительно добавила Юлька, напрочь игнорируя возмущенный стук снизу. – Олька, спасай!
– К-как?
– Обыкновенно. Смотри, если она родит, прикинь, что со мной будет? Да меня газетчики на части порвут: Юлия Соловьева – и бабушка. Ну какая из меня бабушка?
И вправду никакая. Бабушки такими не бывают. Только полбеды, что Юльке с виду лет двадцать пять. Но ведь характер...
– Меня ж с дерьмом смешают. – Юлька кинула окурок в чашку с недопитым кофе. – Оленок, я тебя как человека прошу: помоги.
– В-врача, что ли, посоветовать? – спросила Ольга первое, что пришло в голову. Сама ужаснулась собственному предложению, но тут же решительно возразила себе: в данной ситуации это решение оправданно.
– Врача? Ну врача я и без тебя нашла бы. Тут серьезнее все. Эта ж дура Горгоне моей протрепалась, и теперь та, если что, точно со свету сживет. Убийство, видите ли... нет, скажи, за что мне все это?
Ольга не знала. Более того, очень часто она ловила себя на мысли, что стенания сестры вызывают лишь раздражение, и тогда начинала испытывать чувство стыда, пенять себе за то, что не может сопереживать, и понимать, что завидует.
Да, откровенно завидует. И тому, как Юлька выглядит – метр восемьдесят роста против Ольгиных полутора с хвостиком, пятьдесят килограммов веса вместо шестидесяти трех, роскошная смоляная грива, черно-цыганские, бесовские глаза. Завидовала Ольга и одежде, дорогой и эксклюзивной, яркой и смелой, такой, какую она в жизни не решилась бы надеть, и жизни, где было место и гастролям, и концертам, и поклонникам. И бурным романам, каковые часто заканчивались скандалами, и статейкам, возникавшим после скандалов...
Юлькина жизнь кипела и бурлила, стреляла искрами и брызгала кипятком, а Ольгина только слабо булькала, время от времени выпуская на поверхность пузыри событий, мелких и не интересных никому, кроме самой Ольги.
Подумаешь, обошли повышением... подумаешь, Маринка из бухгалтерии отпускные неправильно посчитала... подумаешь, начавшийся в прошлом месяце роман, вяленький, но за неимением альтернативы зачисленный в графу «перспективные отношения», увял... подумаешь...
– Вот как подумаю, так прям с души и воротит, – призналась Юлька, подвигая к себе и Ольгин кофе. – В общем, так, Горгону мою ты знаешь, мне с ней по-серьезному зарубаться не с руки, поэтому план такой. Ксюха заканчивает десятый класс, потом ты с ней отправляешься на дачу.
– На какую дачу?
– Обыкновенную. Горгона в каком-то там поселке домик выкупила, к природе ее потянуло... там поживете пару-тройку месяцев, а потом, где-нибудь в сентябре, мы с Ксюхой свалим.
– Куда?
– Да какая тебе разница! Тебя уже это касаться не будет. Мы свалим, а потом появимся и объявим, что это я родила.
– Ты?
– Олька, соображай быстрее. Сколько можно! Я ей русским языком объясняю, а она понять не хочет. Какого черта? Не хочешь помогать, так и скажи. Я к ней как к родному человеку, к единственно близкому, к тому, которому доверяю, можно сказать, почти как себе, а она в отказку. Сложно на природе пару месяцев пожить? Так и скажи, мол, сложно, иди ты, сестричка...
– Юля, успокойся. Я же... я же не отказываюсь. Я просто уточняю, – Ольга запахнула полы халатика, в очередной раз сделав заметку, что надо бы найти пояс. А лучше новый халатик купить, чтобы из индийского шелка и с драконом, такой, как Юлька в прошлый раз привезла, в подарок. Только тот Ольге по размеру не подошел, а жаль, красивый...
– Уточняет она. Ты мне просто скажи, да или нет.
– А работа? Я ведь работаю. Мне нельзя на несколько месяцев...
– Уволишься. Я тебе, как это... – Юлька щелкнула пальцами. – Компенсирую, во. И вообще... мы сестры или нет? Ты мне поможешь, я – тебе.
Она брезгливо огляделась и, подняв локти со стола, стряхнула прилипшие к рукавам белой блузы крошки.
– Ты за Ксюхой присмотришь, а я тебе денег на ремонт дам. Как тебе вариант?
– А твоя...
– Горгона? Договорюсь.
И договорилась же. И как-то даже легко, чему сама несказанно удивилась: отношения с бывшей свекровью у Юльки сложились непростые, отягощенные прошлыми обидами, резким расхождением во взглядах на жизнь и некоторой путаницей в финансовых вопросах.
Впрочем, в детали Ольгу не посвящали, а сама она не уточняла.
В результате дело закончилось тем, что первого июня у подъезда Ольгиного дома, вызвав нездоровый ажиотаж со стороны соседей, возник черный «Мерседес» Георгины Витольдовны, по прозвищу Горгона, в который, собственно, и погрузили Ольгин багаж (всего-то и вышло, что спортивная сумка), а потом и саму Ольгу.
Через пару часов она оказалась в дачном поселке «Чистое небо» в компании раздраженной и обиженной на весь свет Ксюхи, неразговорчивого Вадика, личности неясного рода занятий, и собственных сомнений.
С каждым днем сомнения крепли. Не выдержит она до августа...
– Теть Оль, ты чего, заснула? В дом пошли, а то сгоришь. И вообще затея дурацкая была...
Ольга послушно поднялась. Нельзя на Ксюху злиться, она же ребенок еще... подросток... обиженный...
День у Микитки с самого ранья не задался, это он сразу понял, и хотя ж перекрестился трижды, и молитву Никите-великомученику, заступнику своему, пробормотал скоренько; а следом, слезы да сопли по лицу размазывая, и Богоматери с просьбою робкой заступиться за сиротинушку. Не помогло. Да и как-то на святых надеяться, когда грешен сам, лжив да ленив? И вчерась без молитвы заснул, только-только упал на солому, а глаза-то сами возьми да захлопнись, так и пролежал, пока Фимка в бок не пнула, велев скотину выгонять. Микитка и поднялся, но не сказать, чтоб вовсе ото сна отошел, ступал, будто бы и в разуме, а будто и нет, вот и вышло, что в дверях столкнулся с Нюркой. А у той в руках подойник, молока полный, то ж баба преглупая, заверещала впотьмах да ведро из рук выпустила. Ох и полились по крылечку реки молочные Чернышу на радость, Сторожку на зависть – он-то на цепи своей не дотягивается, только глядит да лаем заходится, пугает кошака. Тот же, на ступенечке примостившись, знай хлебает горячее парное молочко да на Микитку с насмешкой зыркает: дескать, спасибо тебе за старание, но как бы не вышло чего.
А и вышло: Фимка, баба тощая, лядащая, на крики Нюркины возьми да и выскочи, увидала молоко разлитое, подойник на землю брошенный, Нюрку голосящую да Микитку, который тихо стоял, к косяку прижавшись, тут-то и сообразила все. Ох и вопила она! Ох и кляла, и по батюшке, и по матушке, и вообще по-всякому, иных слов Микитка-то и не понял. А после подскочила да, ухватившись за космы, принялась по щекам стегать, головою о стенку бить и приговаривать:
– Тебя, ирода этакого, из милости взяли, пригрели, пожалели... – А сама на каждое словечко о стенку ударяет. Стук-стук-стук – пустой из Микиткиной головы звук, громкий, даже через лай Сторожкин слышен. – Кормят, одевают, а ты вона чего учинил!
Нюрка-то уже приуспокоилась, Нюрка-то жалостливая, ежели б раньше встал да в сарае застал, когда она Пёстру выдаивала, глядишь, и дала б с ведра отхлебнуть. Или кружку б нацедила. Молочко-то из-под коровы горячее, теплое, пахнет живым и силы дает. Нынче ж нет у Микитки никаких сил, даже на то, чтоб вырваться от Фимки, вывернуться и удрать.
А она все говорит и говорит... бьет и бьет... потом в поруб посадит, в темень и страх, к крысам да душе Киштана-пьяницы, которого лет пять назад в канун Пасхи засекли, почитай что насмерть, и домой отправили, да поп отходную отчитать не успел, занят был, вот душенька-то и обиделась на живых.
Мокрое что-то из носу потекло, а внутри вот как-то так стало... ну никак. Прям хоть помирай, а ни жилочка не дрогнет, и не от страха, а оттого, что все равно Микитке жизни никакой на дядькином подворье нету: чужой он тут и чужим вовек останется.
– Иди отсюдова. – Наконец-то Фимка отпустила волосы и в спину пихнула. – Глаза б мои тебя не видели, свалился на голову... коров выгони, птицу выпусти да насыпь, яйца выбери, потом свиням дай.
Микитка слушал, кивал, а думал все о том, что хоть и богат дядькин двор, и коров у него аж три, и конь какой-никакой, а свой, и свиней, и гусей, и кур немерено, а все одно, лучше б оно по-прежнему было.
Но думать – одно, а Фимке перечить – другое. Вытер Микитка юшку, стараясь рукав не извазюкать, и побрел к воротам. Там за добротным забором была воля. Наезженная дорога с серой жесткой травой по обочинам да двумя колеинами, которые по весне и осени набирали воду, размокали, расползались грязью до самого забора, а ныне, по лету, были твердыми, сухими, точно в камне вырубленными. За дорогой – поле. Отливает желтизной, клонится по ветру, день ото дня зерном тяжелея. За ним – березовая рощица и пруд, куда Егорка, Нюркин младший, гусей гоняет, а вечером, возвращаясь приносит рыбью мелочь: и ершиков колючих, и окуньков с красными плавничками, и шустрых плотвичек, а случалось, что и щукарят, длинных, зелено-полосатых, с вытянутыми мордами и костяными зубьями. Егорка врет, что будто бы щукарята эти в пруд из озера попадают, а родит их царь-щука, которая стара да толста, ленива и мудра, на любой вопрос ответить может, но только если по-ейному, по-щучьи разумеешь. А еще у нее во рту перстенек с камнем, каковой сияет ярко-преярко, ажно слепит. И будто бы Егорка сам видел. Врал небось, нельзя ему к озеру-то.
С этими мыслями Микитка открывал дверь сарая да коров выгонял. Те ступали медленно, важно, первою Пёстра – ни дать ни взять старостиха, толстобока, крива на один глаз, и вымя едва ль не до земли свисает, сосками песок скребет. За нею Гулена, черная, будто в смоле выкупанная, задом виляет, хвостом машет, норовя по роже заехать.
– Пошла! – прикрикнул Микитка и по земле хворостиной перетянул и к забору прижался. С третьей, с Забавою, не забалуешь, это тварь хитрющая, чуть заминешься – или боднет, или лягнет, или просто придавит весом своим немалым. Точно чует, что никто за Микитку не заступится.
Гнать надо за поле, на Тюшкин луг, там небось Малашка уже собрала колейку... эх, с нею бы остаться, хоть и старая, и говорит много, непонятно, но зато не обижает. Правда, Егорка твердит, что будто бы Малашка – ведьма, что была она прежде мельничихою, жила королевною, каждый день наряды меняла и рук работой вовсе не марала. А все потому, что богатства ради спуталась она с нечистой силой. Вот Господь ее и покарал: сгорел в грозу дом Малашкин, и муж в нем, и дети, а сама хоть и жива осталась, но умом двинулась. Только и способна, что коров пасти.
Попервости-то Микитка поверил, оно и понятно – страшная она с виду: горбунья, хромая на левую ногу, голова седая вся, а лицо гладенькое, румяное. Вот и поди разберись, сколько ей годков.
– Ох ты, Господи, – сказала Малашка, кнут отбросив. – Ну Ефимия, ну совсем страх божий потеряла!
Погрозила кулаком в небо, вздохнула, прижала к себе да заплакала. И так Микитке от тех ее слез горько стало, что и он сам не выдержал, хотя ж слово давал самому себе да крест на земле чертил и кровью кропил, клятву скрепляя: не будет он плакать. Пусть бы и били, пусть бы и голодом морили, пусть бы даже на ночь в порубе заперли – не будет и все.
И держался, даже когда дядька с Фимкиных наговоров розги брал, а тут вот... вот пахло от Малашки молоком да навозом, цветочками какими-то и хлебом свежим. И ласковая она, пусть себе и ведьма, ну так не злая же, не из тех, что детей малых крадет... а вот бы и украла, унесла за леса да за горы, за железные заборы, заточила в горе под Змея приглядом, он бы на все согласился, лишь бы отсюдова сбежать.
– Забери меня, тетечка ведьма... – взвыл Микитка. – Я все тебе делать буду. Я умею. Я не ленивый вовсе, и...
– Некуда забирать, – ответила Малашка, как-то вдруг рассердившись. Отпихнула и строго велела: – Назад иди. Не гневи Бога, ибо есть у тебя родня, с нею и жить. Дядьки держись, а Фимка... найдется и на нее управа.
Спорить Микитка не стал, непривыкши был, вытер глаза, носом хлюпнул да побрел назад. Ох, летит дорога, то ли лентой на землю ложится, то ли рекою пыльною стелется, к небу тянется, того и гляди, вольется, подымет Микитку далеко-далеко, высоко-высоко по-над землею. И к облакам прямо, где и тятька, и мамка, и Сергунька, младший Микиткин братец, ждут небось, дивятся, что медлит старшенький, да обиды его собирают, им-то сверху все видно.
День шел почти обыкновенно. Куры, гуси, рыжий, драчливый петух, таки клюнувший Микитку в лоб, пустые щи на обед да ломоть хлеба, но вот странность – не лез он в горло, а голод, с которым Микитка уже свыкся, сжился, вдруг отступил, сменившись непонятной слабостью. Спать охота была... но разве ж дадут? То одно сделать, то другое, то третье...
Он и не понял, как оказался в овине. Тихо тут, стоят пустые лари, готовые принять и тяжелое зерно нового урожая, и мешки с белой, легкой мукой, каковую привезут с мельницы чуть позже, высятся загородки для репы, сохнут бочки для капусты и огурцов... Пахло едой и покоем. Что-то шуршало в соломе, похрустывало, поскрипывало, витали в воздухи былинки, вилась мошкара.
Микитка устроился в дальнем углу, на разворошенном тюке соломы и, стянув рубаху, кое-как скомкал, сунул под голову и глаза закрыл. Он всего-то на минуточку... на одну минуточку... Фимка и не заметит, Фимка Нюрку распекает за... а какое ему дело, за что? Фимка невестку на дух не переносит, только ко внуку и ласковая...
А дорога-то и вправду в небо тянется. Идет Микитка по ней, горячий камень ноги жжет, пыль подымается, солнце сверху припекает; но хорошо ему, легко, охота и вовсе в бег сорваться. Только негоже бегать, ему уже десять почти, не постреленок... а дорога выше и выше, уходит вниз обочина с серой травой, и поле, и луг, и рощица березовая уже будто бы не со стороны, а сверху видится, и пруд за ней точно зеркальце отсверкивает, отливает синевой. И колейка Малашкина вон, вытянулась вдоль пруда, глядится рыже-черно-бурыми коровьими спинами. И сама Малашка с муравейчика величиною, но лицо-то видно, светлое, счастливое, радуется она за Микитку, руками машет. И он бы ей помахал, да только знает – нельзя ему останавливаться, дальше идти надо.
Вот по-над рекой дорога протянулась, плывет, вихляет, повторяет каждый поворот. Озеро... огромное какое. Просто-таки неоглядное, а может, и не озеро вовсе, а море-окиян, за которым страны неизведанные, про каковые Егорке еврей, грамоте обучать нанятый, сказывает. Неужто туда путь? Страшно-то как...
Бегут по-над озером волны, накатывают друг на друга, глубину несказанную скрывая ото всех, но не от Микитки. И видит он, что там, где зелено, там мелко; где синевой вода рядится, там глубже – ходит косяками рыба, дремлют в сплетениях водорослей щуки, спят в омутах сомы. А вот там, где и вовсе озеро черно, – яма глубокая, что твой колодец, и свет солнышка вовнутрь не проникает. Но все одно, видно Микитке и без света, что сидит в ямине, к самому дну прильнув, зверь невиданный. Не щука, не рыба вовсе, а словно бы человек, баба, телом сдобная, богатая, волосом длинная. Да не просто сидит, а гребнем резным, ракушками да жемчугами украшенным, космы чешет. А как счешет волосья, так комкает да в стороночку кидает; те же вверх подымаются, расползаются водой черной, ядовитою. И бледнеют в ней травы, и грязью песочек речной оборачивается, и рыба, ежели хоть бы плавничком коснется, тотчас брюхом кверху кувыркается, а уж если человек попадется, то недолго ему век коротать – сгинет от хвори неведомой.
А баба водяная знай себе чешет...
Ох и страшно стало Микитке, аж дух перехватило, что сейчас заметит его, руку протянет да и стащит с дороги в омут. А там холодно да темно, и ни жизни, ни смерти, ни душеньки. Взмолился тогда Микитка к святым угодникам и Богородице пречистой и за крестик нательный рукой цап – а нету крестика. Снял кто-то, когда Микитка заснувши был.
Фимка! Как есть она! Сироту погубить решилась!
И только понял – поплыла дорога под ногами, исчезая. Полетел Микитка с высей поднебесных в самый русалочий омут, только и успел, что в последний раз перекреститься. Зазвенело вокруг, точно не в воду – в колокол медный рухнул, хлынуло в рот, в нос, дыхание перебивая, и забился Микитка, норовя выплыть, – да тщетно, тянет ко дну, одежа тяжелая, тело чужое, руки и ноги не шевелятся.
Утоп.
Только и не утоп. Дышать не дышит, сердце в грудях не колотится, и холод такой, что прям хоть второй раз помирай. А под ногами дно, и ил ковром персидским, и раковины розовые узорами по нему, и рыбок серебро живое, и солнышка вдосталь, правда, не греет нисколечки, зато радугой разноцветною разливается.
Иначе все, чем сверху, только вот баба та же. Нет, не баба – девка, вроде Шурки соседской, к которой уже трое сватались, такая красавица. И эта не хуже, а то и получше. Вон личико-то круглое, чистое, брови соболиные, точно угольками вычерченные, губы маками цветут, глаза бирюзой отливают.
Про бирюзу Микитка слышал от того же еврея, что Егорку грамоте обучать нанят, и вот сразу понял, какая она есть.
А волос, волос у девки водяной – чисто из лучей солнечных сплетен, и длинен, и тяжел, и удержу нет, до того потрогать охота. Может, разрешит? Ведь не злая же, улыбается, глядит ласково, гребешок к груди прижавши.
– Кто ты, мальчик? – Голос качнул воду, рассыпался золотыми искорками, а те в раковинки упали, прорастут потом жемчужинами.
– Микитка я, – ответил Микитка, шапку стягивая, поклонился степенно и рукой по илу мазанул, видел, как дядька так барина приветствует. Хорошо вышло, рассмеялась девица.
– Как ты сюда попал? Неужели утонул? Но нет... утопленники ко мне не доходят, утопленников ваши забирают... – помянула и нахмурилась, вроде только бровки сошлись над переносицей, а Микитку такой страх обуял – словами и не передать. – С крестом пришел?
– Н-нет. Фимка украла!
– Повезло тебе. Я тех, кто с крестом в царство мое является, не люблю. Многие беды от них...
– Какие? – Микитка осмелел и уже не одним глазком, а обоими на девку пялился. И срамна она – нагишом сидит, только сеткою из волос да зеленой травы водяной прикрытая – и хороша, и томление вызывает, и стыдно, и глаз отвесть никак невозможно.
– Всякие. Что, нравлюсь?
– Нравишься.
– Мал ты еще на женщин смотреть. – Поднялась, гребень отложила, подошла к Микитке и, в глаза заглянув, сказала: – Крещен, но без креста... не утонул, но пришел... редкий дар тебе даден.
Ледяные пальцы ее коснулись подбородка, обожгли до самого Микиткиного нутра, но ни словечка он не вымолвил, закоченел весь под строгим русалочьим взглядом.
– Смотри не прогадай, на пустяки не изведи, зла не твори, добра не забывай. Всего в тебе поровну, что белого, что черного... кривым ли вырастешь, прямым ли... отпускать ли тебя? Иль тут оставить?
– Отпусти, хозяюшка.
– Это верно, хозяйка я Кирмень-озеру, как решу, так и будет. Значит, хочешь наверх, на волю? К тем, кто тебя сюда отправил? Не боишься?
– Не боюсь, – понял вдруг Микитка, что и вправду не боится, потому как силу в себе ощутил такую, которой и названия-то нету. Не страшна ему теперь ни Фимка, ни петух ее лядащий, ни Забава рыжая, ни вообще кто из людей. Слабы они, а Микитка силен.
Вот только водяница посильнее будет, оттого как не людского она племени, а того, о котором ныне только в сказках и услышишь.
Поняла, подслушала мысли, покачала головой и, руку убрав, вздохнула:
– Рано ты силушку-то почуял, как бы не испортила она тебя. Останься тут, разве плохо?
Хорошо. Как в палатах царевны-лебеди, как в горе стеклянной, где змей трехглавый сокровище да чудо-девицу стережет, как нигде на земле хорошо, но Микитке красота эта в тягость. Наверх его тянет, манит, зовет.
– Да, неуютно человеку во владениях моих. Что ж, не знаю, как должно быть бы, но силком тебя держать не стану. Запомни волю мою добрую, а лучше службу сослужи.
– Все, что скажешь! – пообещал Микитка, обрадовавшись.
– Не торопись словами-то кидаться, – укорила водяница, снова на лавочку жемчужную усаживаясь. – За каждое данное после ответ держать придется. Ну да я о многом не попрошу. Найди человека одного, Яковом Брюсом кличут. Вот так выглядит.
Повела рукой, и сгустилась вода, слиплась серебряным зеркалом, а в нем – отражение. И снова дивно – вроде как Микитка и каждую черточку видит, но вроде и неважны они, иное запоминается. Белое вот, самая малость, одуванчиково-желтое, травяно-зеленое, и темно-синее, грозовое...
– Правильно смотришь, – похвалила водяница, зеркало свое убирая. – Тебе теперь только так людей видеть, зато не ошибешься.
И понятно все: синее – значит, смелый человек, холодный разумом и крепкий волей, белизна – это от чистоты помыслов, желтое – значит, гневлив и вспыльчив. Много цветов, много оттенков, и каждый что-то да означает.
– Найдешь и спросишь: крепок ли уговор? И готов ли он вернуть то, что в долг взял?
– И тебе принести?
– Нет. Если готов, пусть сам и приходит, скажи, что не обижу. Ну а заупрямится – передай, что во многих знаниях многие же беды.
– А как я его найду? И если не быстро? Быстро меня из дому не отпустят.
– Найдешь, – пообещала она. – Когда-нибудь да найдешь. Я время иначе слышу, чем вы, люди... он тоже. Все, Никита, ступай теперь.