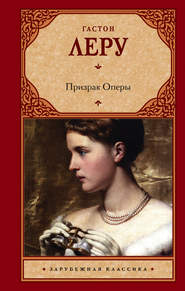скачать книгу бесплатно
– А почему твоя мама так считает?
– Тише! Мама говорит, что Призрак не любит, когда ему досаждают!
– А почему твоя мама говорит это?
– Да потому что. Потому что ничего особенного…
Такая искусная уклончивость разожгла любопытство девиц, и они, окружив крошку Жири плотным кольцом, обуреваемые ужасом, склонились в едином порыве, умоляя ее объясниться. Заражая друг друга страхом, они получали острое удовольствие, от которого кровь стыла в жилах.
– Я поклялась ничего не рассказывать! – еле слышно пролепетала Мег.
Но они не оставляли ее в покое, истово пообещав хранить секрет, и Мег, горевшая желанием поведать то, что знала, начала в конце концов, не спуская глаз с двери:
– Так вот, это все из-за ложи…
– Какой ложи?
– Ложи Призрака!
– У Призрака есть ложа?
При мысли, что Призрак имеет собственную ложу, танцовщицы не могли сдержать охватившего их жуткого восторга, удивлению их не было предела. Они только вздыхали, повторяя: «Ах, боже мой! Рассказывай… Рассказывай…»
– Потише! – приказала Мег. – Это ложа первого яруса, да вы знаете, ложа номер пять на первом ярусе, у самой сцены с левой стороны.
– Не может быть!
– Точно вам говорю. А билетершей там – моя мама… Но вы клянетесь ничего не рассказывать?
– Ну конечно! Дальше!..
– Так вот, это и есть ложа Призрака… Туда больше месяца никто не приходил, кроме Призрака, разумеется, и в администрацию отдали распоряжение никому ее не сдавать…
– И Призрак действительно туда приходит?
– Ну конечно…
– Стало быть, кто-то все-таки приходит?
– Да нет же!.. Приходит Призрак, но там никого нет.
Крошки-танцовщицы переглянулись. Если Призрак являлся в ложу, его должны были видеть, раз на нем был черный фрак, а вместо головы – череп. Они попытались втолковать это Мег, но та возразила:
– В том-то и дело! Призрака не видно! У него нет ни фрака, ни головы!.. Все, что рассказывали о черепе и огненной голове, выдумки! Ничего такого у него нет… Его только можно слышать, когда он в ложе. Мама никогда его не видела, но зато слышала. Уж мама-то знает, ведь это она приносит ему программу.
Сорелли сочла своим долгом вмешаться:
– Жири, ты смеешься над нами?
Тут крошка Жири заплакала.
– Лучше бы я молчала. Если мама когда-нибудь узнает!.. И все-таки Жозеф Бюке напрасно лезет не в свое дело, что верно, то верно. Ему это принесет несчастье… Мама еще вчера вечером говорила…
В эту минуту в коридоре послышались тяжелые торопливые шаги и громкий голос:
– Сесиль! Сесиль! Ты здесь?
– Это мамин голос! – сказала Жамм. – Что случилось? – И она открыла дверь.
Почтенная дама, скроенная наподобие померанского гренадера, ринулась в гримерную и со стоном упала в кресло. Она в страхе таращила глаза, придававшие мрачное выражение ее лицу цвета обожженного кирпича.
– Какое несчастье! – проговорила она. – Какое несчастье!
– В чем дело? В чем дело?
– Жозеф Бюке…
– Ну что там с Жозефом Бюке?
– Жозеф Бюке умер!
Гримерная наполнилась удивленными возгласами, испуганными требованиями разъяснения…
– Да. Его только что нашли повешенным в третьем подвале!.. Но самое ужасное, – задыхаясь, продолжала несчастная почтенная дама, – самое ужасное то, что машинисты сцены, которые обнаружили его тело, уверяют, будто возле трупа слышны были какие-то звуки, похожие на погребальное пение!
– Это Призрак! – невольно вырвалось у крошки Жири, однако она тут же опомнилась и закрыла рот руками: – Нет!.. Нет!.. Я ничего не сказала!.. Я ничего не сказала!..
Вокруг нее все подружки тихонько повторяли в ужасе:
– Так и есть! Это Призрак!..
Сорелли побледнела…
– Ни за что я не сумею произнести приветственную речь, – молвила она.
Мамаша Жамм, осушив забытую на столе рюмку ликера, тоже высказала свое мнение: тут наверняка замешан Призрак…
Истина же заключается в том, что никто так никогда и не узнал, как умер Жозеф Бюке. Расследование, довольно поверхностное, не дало никаких результатов, если не считать вывода о естественном самоубийстве. В «Мемуарах одного директора» господин Моншармен, один из двух директоров, сменивших господина Дебьенна и господина Полиньи, так описывает случай с повешенным:
«Прискорбный инцидент нарушил небольшое торжество, устроенное господином Дебьенном и господином Полиньи по случаю их ухода. Я находился в директорском кабинете, когда туда внезапно вошел Мерсье – администратор. Он в панике сообщил мне, что в третьем подвальном этаже под сценой, между стропильной фермой и декорациями «Короля Лагорского», обнаружено тело одного машиниста сцены.
«Надо пойти снять его!» – воскликнул я.
Но пока я бегом спустился по ступенькам, а потом по приставной лестнице, у повесившегося уже не оказалось веревки!»
Вот, стало быть, какое событие господин Моншармен считает естественным. Человек висит на веревке, его собираются снять, а веревка исчезает. О! Господин Моншармен нашел тому весьма простое объяснение. Послушайте его:
«Тут как раз закончился танец, и корифеи с мышками поспешили принять меры предосторожности от сглаза». Небольшой штрих, и только. Вы представляете себе девочек кордебалета, которые спускаются по приставной лестнице и делят между собой веревку повесившегося быстрее, чем это можно описать? Несерьезно! Зато когда я обдумываю, в каком точно месте было найдено тело – в третьем подвальном этаже под сценой, – на ум мне приходит, что, возможно, у кого-то был интерес, чтобы эта веревка, сделав свое дело, исчезла. И позже мы увидим, прав ли я был, предположив такое…
Мрачная новость быстро распространилась по всему зданию Оперы, сверху донизу: ведь Жозефа Бюке здесь очень любили. Гримерные опустели, и молоденькие танцовщицы, собравшись вокруг Сорелли, словно испуганные овцы вокруг пастуха, направились в фойе по плохо освещенным лестницам и коридорам, торопливо семеня своими розовыми лапками.
Глава II
Новая Маргарита
На первой площадке Сорелли столкнулась с поднимавшимся графом де Шаньи. Граф, обычно такой сдержанный, не скрывал своего восторженного волнения.
– Я шел к вам, – сказал граф, весьма галантно приветствуя молодую женщину. – Ах, Сорелли! Какой прекрасный вечер! А Кристина Дое… Какой триумф!
– Не может быть! – возмутилась Мег Жири. – Всего полгода назад она пела так, что уши вяли! Однако позвольте нам пройти, дорогой граф, – сказала девочка с шаловливым реверансом, – мы хотим узнать новости о несчастном человеке, которого нашли повесившимся.
Услыхав ее слова, проходивший мимо озабоченный администратор внезапно остановился.
– Как! Вам уже об этом известно, мадемуазель? – спросил он довольно резким тоном. – Ну что ж, только никому не говорите, в особенности господину Дебьенну и господину Полиньи, они ничего не должны знать! Их это сильно расстроит – в последний-то день!
Все направились к танцевальному фойе, уже заполненному людьми.
Граф де Шаньи оказался прав: ни одно торжество нельзя было сравнить с этим. Те, кому посчастливилось присутствовать на нем, до сих пор с волнением рассказывают о своих впечатлениях детям и внукам. Еще бы: Гуно, Рейер, Сен-Санс, Массне, Гиро, Делиб по очереди вставали за пульт и самолично дирижировали своими произведениями. Среди прочих звезд следует назвать Фора и Краусс, а кроме того, именно в тот вечер удивленному и очарованному всему Парижу явила себя в полном блеске та самая Кристина Дое, о таинственной судьбе которой я хочу поведать в этом произведении.
Гуно исполнил «Траурный марш»; Рейер – свою прекрасную увертюру к «Сигурду»; Сен-Санс – «Танец смерти» и «Восточные грезы»; Массне – никогда не звучавший раньше «Венгерский вальс»; Гиро – свой «Карнавал»; Делиб – «Медленный вальс Сильвии» и пиццикато из «Коппелии». Пели мадемуазель Краусс и Дениза Блох, первая – болеро из «Сицилийской вечерни», вторая – застольную из «Лукреции Борджиа».
Но истинный триумф выпал на долю Кристины Дое, исполнившей сначала несколько отрывков из «Ромео и Джульетты». Молодая артистка впервые пела это произведение Гуно, которое, впрочем, еще не было перенесено на сцену Оперы, а лишь восстановлено в «Опера комик» спустя долгое время после того, как было поставлено госпожой Карвало в бывшем «Театре лирик». Ах! Остается лишь пожалеть тех, кто не слышал Кристину Дое в роли Джульетты, не видел ее наивной грации, не содрогался при звуках ее ангельского голоса, не ощущал, как собственная душа вместе с ее душой устремляется ввысь над могилами веронских любовников:
«Господь, прости меня!»
Но все это ничто по сравнению с неземными интонациями, зазвучавшими в сцене тюрьмы и финального трио «Фауста», где она пела, заменив почувствовавшую недомогание Карлотту. Никто никогда не слыхивал и не видывал ничего подобного!
То была «новая Маргарита», которую раскрыла Дое, Маргарита небывалого великолепия и блеска.
Весь зал целиком, охваченный необычайным волнением, восторженными криками приветствовал рыдавшую Кристину, без сил упавшую на руки своих товарищей. Пришлось отнести ее в гримерную. Казалось, она отдала богу душу. Известный критик П. де Ст.-В. запечатлел незабываемое воспоминание об этой чудесной минуте в статье, которую так и назвал – «Новая Маргарита». Будучи сам великим артистом, он просто-напросто поделился своим открытием: это прекрасное и нежное дитя подарило в тот вечер зрителям не только свое искусство, но и сердце. А любому из приверженцев Оперы было известно, что сердце Кристины оставалось столь же чистым, как в пятнадцать лет, и П. де Ст.-В. заявлял:
«Дабы понять, что же произошло с Дое, приходится сделать вывод, что она впервые полюбила! Возможно, я проявляю нескромность, – добавлял он, – но лишь любовь способна сотворить подобное чудо, совершив ошеломляющее преображение. Два года назад мы слышали Кристину Дое на конкурсном экзамене в консерватории, она вселила в нас надежду. Но откуда сегодня взялось это возвышенное величие? Если оно не снизошло с небес на крыльях любви, мне остается думать, что оно послано адом и что Кристина, вроде мошенника Офтердингена, заключила договор с самим дьяволом! Тот, кто не слышал Кристину в финальном трио «Фауста», понятия не имеет о «Фаусте»: только восторженный голос и священное упоение чистой души не смогли бы достигнуть таких высот!»
Между тем некоторые зрители возмущались. Как могли скрывать от них подобное сокровище? До сих пор Кристина Дое была всего лишь приемлемым Зибелем рядом с чересчур заземленной блистательной Маргаритой Карлотты. И понадобилось непонятное, необъяснимое отсутствие Карлотты на праздничном гала-концерте, чтобы в той части программы, которая отводилась для испанской дивы, малютка Дое без всякой подготовки показала, на что она способна. И почему, лишившись Карлотты, господин Дебьенн и господин Полиньи обратились к Дое? Стало быть, они знали о ее скрытом даровании? А если знали, почему таили его? А она, почему она таила его? Вещь странная, но в настоящий момент у нее, как известно, не было учителя. Она не раз заявляла, что отныне будет работать одна. Все это было непостижимо.
Граф де Шаньи присутствовал при восторженном исступлении зала и, стоя в своей ложе, присоединял оглушительные браво к общим аплодисментам.
Графу де Шаньи (Филиппу Жоржу Мария) исполнился сорок один год. Это был настоящий вельможа и статный мужчина. Ростом выше среднего, с приятным, несмотря на суровое выражение и несколько холодный взгляд, лицом, он был изысканно любезен с женщинами и немного высокомерен с мужчинами, не всегда прощавшими ему успехи в светском обществе. Сердце у него было прекрасное и совесть чиста. После смерти старого графа Филибера он стал главой одного из самых прославленных и старинных семейств Франции, чья родословная восходит к Людовику Сварливому.
Состояние де Шаньи было немалым, и когда старый граф, оставшийся вдовцом, умер, на долю Филиппа выпала нелегкая задача: ему пришлось согласиться взять на себя ответственность распоряжаться столь значительным наследством. Две его сестры и брат Рауль и слышать не хотели о разделе имущества, во всем полагаясь на Филиппа, словно право первородства не переставало существовать. Когда обе сестры вышли замуж – в один и тот же день, – то получили свою долю из рук брата не как что-то причитающееся им по праву, а как приданое, за которое они выразили ему свою признательность.
Графиня де Шаньи – урожденная де Мерожи де ла Мартиньер – умерла, произведя на свет Рауля, родившегося на двадцать лет позже своего брата. Когда старый граф умер, Раулю было двенадцать лет. Филипп активно занимался воспитанием мальчика. В этой задаче ему старательно помогали сначала сестры, а потом старая тетка, вдова моряка, жившая в Бресте; она-то и привила Раулю вкус ко всему, что связано с морем.
Он поступил в морское училище, закончил его в числе лучших выпускников и преспокойно совершил кругосветное плавание. Благодаря могущественной поддержке его включили в состав официальной экспедиции, отправлявшейся на борту «Акулы» на поиски в полярных льдах оставшихся в живых членов экспедиции с «Артуа», о которой не было известий вот уже три года. А пока он предавался радостям длительного отпуска, заканчивавшегося лишь через шесть месяцев, и при виде этого красивого мальчика, казавшегося таким хрупким, престарелые дамы благородного предместья уже жалели его ввиду предстоящих суровых испытаний.
Робость этого моряка и, я бы даже сказал, его невинность бросались в глаза. Казалось, будто он лишь накануне вышел из-под женской опеки. И в самом деле, взлелеянный сестрами и старой теткой, он сохранил неизгладимый след чисто женского воспитания – чуть ли не наивные манеры, безусловно исполненные очарования, которое ничто до сих пор не в силах было заставить потускнеть.
В ту пору ему минул двадцать один год, но выглядел он не старше восемнадцати. У него были светлые усики, прекрасные голубые глаза и девичий цвет лица.
Филипп баловал Рауля, ни в чем ему не отказывая. Прежде всего он гордился им и с радостью предвкушал для младшего брата славную карьеру на флоте, где один из их предков, знаменитый Шаньи де ла Рош, состоял в ранге адмирала. Воспользовавшись отпуском молодого человека, Филипп хотел показать ему Париж, которого тот практически не знал, не имея представления о роскошных радостях и артистических удовольствиях, какие можно было там найти.
Граф полагал, что в возрасте Рауля неразумно быть чересчур благоразумным. Филипп отличался весьма уравновешенным нравом, соблюдая умеренность и в работе и в удовольствиях, он всегда держался безупречно и неспособен был подать брату дурной пример. Он всюду брал его с собой. И привел даже в танцевальное фойе.
Я прекрасно знаю, что все говорили, будто граф состоял «в самых коротких отношениях» с Сорелли. Ну и что! Можно ли вменить в вину этому дворянину, оставшемуся холостым и, следовательно, располагавшему свободным временем, в особенности с тех пор, как сестры его были устроены, что после ужина он проводил час или два в обществе танцовщицы, которая не отличалась, разумеется, умом, но зато имела самые красивые глаза на свете? К тому же существуют места, где истинный парижанин, занимающий положение графа де Шаньи, просто обязан показываться, а в ту пору танцевальное фойе Оперы было одним из таких мест.
Хотя Филипп, возможно, и не повел бы своего брата за кулисы Академии национальной музыки, если бы тот сам несколько раз не просил его об этом с мягкой настойчивостью, о чем графу придется вспомнить впоследствии.
В этот вечер Филипп, поаплодировав Дое, повернулся к Раулю и, заметив его бледность, даже испугался.
– Разве вы не видите, – сказал Рауль, – что этой женщине плохо?
В самом деле, Кристину на сцене пришлось поддерживать.
– Ты и сам, того гляди, лишишься чувств, – заметил граф, наклоняясь к Раулю. – Что с тобой?
Но Рауль уже был на ногах.
– Пойдем, – молвил он дрожащим голосом.
– Куда ты хочешь идти, Рауль? – спросил граф, удивляясь волнению младшего брата.
– Пойдем посмотрим! Ведь она впервые так поет!
Граф с интересом взглянул на брата, и на губах его появилась едва заметная улыбка.
– Вот как! – И он поспешил добавить: – Пойдем! Пойдем!
Вскоре они очутились у входа для абонированных зрителей, где было очень людно. Дожидаясь, когда можно будет проникнуть на сцену, Рауль, не сознавая, что делает, разрывал свои перчатки. Филипп, отличаясь добротой, вовсе не думал смеяться над его нетерпением. Теперь он был осведомлен. Он понял, почему Рауль бывал рассеян, разговаривая с ним, и почему с таким нескрываемым удовольствием всякий раз переводил беседу на оперу.
Они вышли на сцену.
Черные фраки устремлялись к танцевальному фойе либо направлялись к артистическим гримерным. Крики машинистов сцены смешиваются с яростными нареканиями руководителей различных служб. Расходятся статисты из последней картины, безмолвные «фигурантки» толкают вас, кто-то несет штатив, с колосников спускается задник, декорации укрепляют оглушительными ударами молотка, вечное «дорогу театру» звучит у вас в ушах, словно предвестие некой катастрофы, грозящей вашему цилиндру, либо крепкого удара в спину, – такова обычная суматоха, сопутствующая антрактам. Она не может не вызвать волнения у новичка вроде молодого человека со светлыми усиками, голубыми глазами и девичьим цветом лица, торопливо, насколько позволяла ему теснота, пересекавшего ту самую сцену, на которой только что с триумфом выступала Кристина Дое и под которой скончался Жозеф Бюке.
Никогда еще не наблюдалось такого смятения, как в тот вечер, но и Рауль утратил свою привычную робость. Крепким плечом он отстранял любое препятствие, встававшее на его пути, не обращая ни малейшего внимания на то, что говорилось вокруг него, и не пытаясь понять растерянные толки машинистов сцены. Им владело одно-единственное желание: увидеть ту, чей волшебный голос отнял у него сердце. Да, он прекрасно сознавал, что его бедное сердце больше не принадлежит ему. Хотя он всеми силами пытался защитить его с того самого дня, когда перед ним вновь предстала Кристина, которую он знал еще совсем маленькой. При виде ее Рауля охватило сладостное волнение, от которого он по зрелом размышлении хотел было избавиться, ибо, испытывая уважение к себе и своей вере, поклялся, что будет любить лишь ту, кто станет его женой, и, разумеется, ни на мгновение не мог подумать, что женится на певице; однако на смену сладостному волнению пришло ужасное ощущение. Ощущение? Чувство? Трудно сказать: было тут что-то и физическое, и нравственное. Он испытывал боль в груди, словно ее раскрыли, чтобы забрать у него сердце. Ощущал там страшную пустоту, самую настоящую, заполнить которую могло только другое сердце! Таковы симптомы совершенно особого психологического состояния, которые, похоже, могут понять лишь те, кого любовь сразила наповал, нанесла неожиданный удар, именуемый в обыденной жизни «любовь с первого взгляда».
Граф Филипп, по-прежнему улыбаясь, с трудом поспевал за ним.
Миновав в глубине сцены сдвоенную дверь, которая открывается на ступени, ведущие в фойе, и на те, что ведут к гримерным в левом крыле первого этажа, Рауль вынужден был остановиться перед маленькой группой мышек, которые, спустившись в эту минуту со своего чердака, загородили проход, куда он намеревался ринуться. Немало приятных слов было сказано в его адрес накрашенными губками, но он и не думал отвечать. Наконец ему удалось пройти, и он углубился в полумрак коридора, гудевшего от восхищенных возгласов восторженных почитателей. Одно имя перекрывало все шумы: «Дое! Дое!»
Следовавший за Раулем граф говорил себе: «Проказник знает дорогу!» – и задавался вопросом, каким образом он ее узнал. Сам он ни разу не приводил Рауля к Кристине. Тот, надо полагать, приходил сюда один, пока граф, по своему обыкновению, оставался поболтать в фойе с Сорелли, часто просившей его побыть с ней до ее выхода на сцену, а иногда, из пристрастия к тиранству, отдававшей ему на хранение маленькие гетры, в которых она спускалась из гримерной, дабы обеспечить блеск своих атласных туфелек и безупречную чистоту трико. У Сорелли было извинение: она потеряла мать.
Итак, граф, отложив на несколько минут визит к Сорелли, следовал по коридору, который вел к Дое, отметив, что никогда еще не толпилось там столько посетителей, как в тот вечер, когда весь театр, казалось, был потрясен успехом артистки и ее обмороком. Ибо прелестное дитя все еще не приходило в сознание, и потому послали за доктором театра, который наконец прибыл, пробравшись сквозь взволнованные группы. За ним, не отставая ни на шаг, шел Рауль.
Таким образом, врач и влюбленный одновременно оказались рядом с Кристиной, от одного получившей первую помощь и открывшей глаза на руках у другого. Граф вместе со всеми остальными остался в дверях, где началась давка.
– Вам не кажется, доктор, что этим господам следует освободить гримерную? – спросил Рауль с невероятной смелостью. – Здесь нечем дышать.
– Вы совершенно правы, – согласился доктор и выставил за дверь всех, за исключением Рауля и горничной.