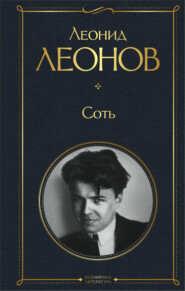скачать книгу бесплатно
– Я бы и рад, денег нету.
– У нас по этой части тоже гайка слаба. А подписку зачем же сокращать! На газету найдется…
И опять он бегло просматривал проект, хотя знал его до последней точки. Потемкину показалось даже, что мнение Жеглова склоняется в его сторону; собравшись с силами, он метнулся к карте, и сперва все замутилось в его глазах, а потом голос приобрел тот чрезвычайный оттенок, достаточный, чтобы убедить и дерево, что если отказаться от потемкинской затеи, то не стоило и революции устраивать на Соти. Жеглов тускло взглянул на гостя, и ораторское вдохновение Потемкина мгновенно иссякло.
– Ты меня не агитируй, а вот: у тебя там на Нерчьме фабричка… мы с ним и сами оттуда, – кивнул он на глыбообразного своего соседа. – Что, ежели бы расширить ее, машин подкупить, а? – Он знал и сам, что нерчемская руина движется единственно по разбегу времени; он вспомнил старомодный тамошний дефибрер, который, хрипя и кашляя, оплевал его однажды перемолотой древесиной, и со вздохом закрыл папку. – Может, цепи там переменить, камень выписать новый… – Ему никто не ответил. – В Цека был?
– Часа два назад.
– С кем говорил?
Потемкин назвал фамилию секретаря, и тогда в действие вступил третий, молчавший с самого начала.
– Садись сюда. Меня зовут Увадьев, я из Бумдрева. Бисерного твоего шитья я так и не успел прочесть: ругаться меня в одно место посылали. Вот ты на какую производительность рассчитывал?
Тот замялся: было страшно пугать раньше времени этого непредвиденного друга.
– …тысяч сорок тонн в год.
– А через год новые корпуса пристраивать?
– Так можно и круче взять, – взыграл Потемкин, томясь неопределенностью минуты. – Там разъезд придется перенести да еще ветку… я бы и на себя взял! – Лавина сдвинулась с места, и нужно было лишь подтолкнуть ее в начале пути.
В продолжение двух месяцев они не раз еще встречались у Жеглова в Бумаге, и бронзовая бесстыдница на пепельнице перестала сердить потемкинское целомудрие. Непостижимым образом дробя свой день, он ухитрялся ежедневно ходить на штурм и не всегда возвращался с поражением, но всегда израненный в лучших своих чувствах; твердя о социализме, все называли этим словом что-то расплывчатое и как будто удаленное на века.
Всюду – в редакциях крупнейших газет, в правлениях банков, в кооперативных конторах – его знали в лицо, и кое-где он стал уже надоедать. Он осунулся, оброс волосами и напоминал того чудака, который обходит весь свет в поисках волшебного напитка, необходимого для оживления любимой…
Здесь, на полпути, к нему примкнул Увадьев, действовавший как таран. Это случилось вовремя: Потемкин изнемогал. Папка первоначального проекта разбухла и затрепалась. Ученые эксперты трех высоких учреждений качали это невозросшее детище в глубоком уединении кабинетов; сановитые бюрократы закутывали его в бумагу обширной переписки; дитя хирело, и тогда Увадьев кинулся за помощью к газетам; но там напутали, и, еще прежде чем дело приблизилось к экономическому совещанию, пошли слухи, что именно Увадьев встанет во главе Сотьстроя. Более того, распространились сбивчивые известия, что комбинат уже разрешен и остановка только за выбором технического оборудования. Какой-то ретивый журналист начал свою статью барабанной дробью: «Еще один раз Соть, и мы станем вывозить целлюлозу!» Некоторые полагали, что Соть уже построена, и газетная трескотня носит полуюбилейный характер… А там, на Соти, пока еще качалась и зрела тощая мужицкая ржица да кричали лягвы в приречных низинках.
Все же потемкинское войско умножалось, и в жегловском кабинете, под редкий благовест соседней церквухи, обсуждалась уже финансовая часть предприятия; имели в виду взять процентов восемьдесят годовой прибыли треста плюс тридцатилетний кредит из банка, возглавленного Жегловым… Кстати сказать, людской материал стал скапливаться задолго до того, как явилась нужда в материале строительном. И первая встреча произошла в одном из тех доходных и безвкусных домов где-то на косогоре возле Сретенки, каких уйму настроила Москва в пору своего торгово-промышленного роста. Причины, которые привели туда Жеглова, относятся к тем отдаленным дням, когда мальчик Жеглов и не помышлял еще о роли, какую ему навяжет жизнь.
II
Не разукрашенная ничем – разве только красные флаги вспыхнули однажды и погасли надолго, да еще покойному дядьке руку оторвало в каландрах машины – протекла его юность. Нерчьма в этом месте падала в Соленгу, а при слиянье, обок богатому селу, ютилось бумажное заведеньице купца Рыбина с сыновьями; они тут же и бегали по двору, норовя подстрелить зазевавшуюся ворону из рогатки, эти помянутые на вывеске сыновья. Содержа семью в азиатской строгости, оный бородатый хозяин все землю скупал и, по фабрике сказывали, до тридцати тысяч десятин накопил, но помер в холерный год, и в ту же дверь, в которую вынесли запаянный гроб старика, хлынуло, как в прорву, накопленное добро. У забитой его супруги тотчас объявились незаменимые молодые люди, а у них пожилые родственницы, а у этих духовные пастыри, и все кормились, а перезаложенная фабричка хирела, портились машины, падал кредит. Кстати, и сыновья, матушкина беспутства наглядевшись, мотали даровую деньгу: все хотелось дворянским пером украсить вчерашнее холуйство. Через год уже не давало молока истощенное вымя, и тогда продали наследники и всю корову на зарез. Новый хозяин Фаворов бороденку уже стриг, над дворянством посмеивался и европейскую свою науку с российским навыком сочетал. Прибрав фабричку к рукам, он управителей разогнал, машины починил и сам сел за управленье, а через два месяца случилась первая забастовка, сопровождавшаяся бунтом, поджогом и убиением урядника. Однако этот первый свой экзамен он успешно выдержал, иных рассчитал, иных под суд упрятал, и вот снова из продырявленного вымени заструился живительный сок.
В партию бумажников, ушедших на поселенье, попал и молодой Жеглов; безрукий дядька пропал где-то в поисках своего безрукого счастья, и так как в домике никого не оставалось, то и домик их скоро сгорел; так и потерялся жегловский след. Преступников судили в окружном суде, и сперва присяжные пожалели этого тихого и сияющего парня, но прокурор заартачился, перенес дело в палату, где сразу и обнаружилась сугубая жегловская вредность. Год был мятежный, суд происходил при закрытых дверях, и Наташа, единственный друг жегловского детства, до поздней ночи простаивала у ворот. Когда осужденного Жеглова уводили под конвоем, – Наташе запомнилась навсегда молодцеватая бескозырка одного из конвойных, – они встретились глазами. «Зубы болят!» – только и крикнул Жеглов, комично держась за подвязанную щеку, и они расстались надолго.
Письма и в первый-то год приходили редко. Потом Наташа вышла за Увадьева, молодого и сытого мастера с той же фабрички, где сортировщицей работала и сама. Детство и память о дружбе затмевались мелочами новой жизни, и вдруг она забыла, как звали того смешного сторожа в поповском саду, куда они детьми пробирались за падалками. Птицы клевали яблоки, старичок привязывал веревочки к вершинкам и, дремля у бани, подергивал то за одну, то за другую; птицы не унимались, а яблоки все падали, пока не прогнал поп домодельного сего изобретателя. Потом ей стало это нелюбопытно. Через год она забеременела, но поскользнулась однажды в гололедицу, возвращаясь из церкви, и это несчастье наложило свой отпечаток на Наталью; она сжалась и точно озябла навеки. По-прежнему она ни в чем не упрекнула бы мужа, которого хоть и мало кто любил, но уважали все, не исключая хозяина; ей бывало холодно в его присутствии, точно дули из глаз его пронзительные сквозняки.
К тому времени уже собиралась у него по праздникам фабричная молодежь почитать запретные книжки. Из карманов у всех откровенно торчали головки винных бутылок; снабженные гербом империи, они не хуже паспорта удостоверяли благонадежность потребителя. Бесскандально пошумев песню на крыльце, приятели уединялись в материну каморку, и всякий раз, когда Наталья вносила им чай, делали вид, будто спьяну забавляются анекдотцем неосторожного содержания. Изредка приходил дьяконов сын, земский статистик, и сразу в увадьевском домике становилось беззаботно, точно в снега декабрьские ворвался гремучий ручей. С Варварой, матерью, он вел разговоры о лечении застарелых недугов обыкновенным луком, а с Натальей – о пользе детей в домашнем обиходе; никто рассуждений его всерьез не принимал, но и не обижался. Он всегда пил сырую воду, и Варвара шутливо грозила, что он издохнет когда-нибудь от сырой воды. Однажды его арестовали, но сбираться продолжали и без него.
Тоскуя о дьяконовом Ваське, Варвара насоветовала как-то Наталье одернуть мужа:
– В Сибирской-то губернии, сказывают, все дороги умниками вымощены. Напиши-ка Щеглу своему, спроси, ладная ли дорожка выходит, не тряска ли… – Под Щеглом она разумела сосланного в каторгу Жеглова.
Ввечеру той же субботы Наталья собралась переговорить с Иваном; не упрекать его собиралась, а лишь расспросить и, если потребуется, помочь в его потайном и опасном деле. Муж вернулся поздно и, как сразу поняла жена, пьяный; это случилось впервые за все время их совместного существования. Держась рукой за притолоку, он стоял на пороге с закрытыми глазами.
– Лампадки зажги, пустельга! – раздельно и сипло сказал он потом. – Дай ему огня и масла, волосатому…
Шатко пройдя к нарядной кровати, он с сапогами завалился на тканьевое одеяло и так лежал распластанный, дико глядя в потолок. В его распоротой, может быть, о раздавленный стакан ладони запеклась кровь. Тикали часы, и доносилось тестяное чваканье из-за перегородки: мать месила пироги к празднику. Полыхали лампады, и одна струила тоненькую горелую вонь. Вдруг он поднялся на локте, голос его звучал почти трезво:
– Ваську повесили, кувык… – и показал рукою место, где сомкнулась веревка.
…Не помогли конспиративные лампадки: утром взяли и Увадьева. Судили его не за ту большую вину, в которой был повинен не меньше Васьки, а за шальное слово об империи, – так объяснил он сам Варваре. Он вернулся через год и еще три дня, потребных на то, чтоб добраться до фабрички в распутицу. Вместе с товарками по фабрике Наталья дивилась, что он даже не осунулся, не постарел, точно его там зацементировали впрок; тюрьма другое оказала влиянье: он стал выпивать. Делал он это и в компании с матерью, которая вином лечилась от какой-то запущенной простуды. Каменной породы, как и сын, рано овдовевшая Варвара сохраняла почти тридцатилетнюю свежесть. «Я вдова стойкая, первый сорт. Мне бы с медведем жить!» – шутила она, и правда, только полнота да тугой крупичатый румянец выдавали ее крайнюю спелость. Выпивали они в согласном молчании, и сперва бутылки им хватало почти на неделю, но к началу войны ее хватало на срок уже гораздо меньший. Молодежь забрили, сборища прекратились, и теперь сам Увадьев изредка уходил куда-то, а куда – Наталья не смела спросить. В пору его отсутствия, летом однажды, заходил мужчина в панамке, сказавшийся не то мужем покойной тетки, не то братом дядиной жены; проныра и мигун, он просидел с полчаса, и Наталья не остереглась бы от вредной доверчивости, не вернись вовремя Варвара; тогда он заметался и, не допив квасу, заспешил на поезд.
– …вот шпарну тебя капятком, кота драного! – загрохотала вслед ему Варвара, но тот не обиделся, а лишь поскалил мелкие серенькие зубки.
Следовало ждать неприятности, но тут объявили мобилизацию дополнительного года, и Увадьева смыло общей волной. Всюду сопровождала его великолепная удача: его не убили, даже не подранили, а разрушительная работа, которую продолжал вести в армии, благополучно сходила ему с рук. Письма содержали краткие сведения о здоровье и опасностях, от которых охранял его господь. «Благодаря богу, я в атаку не ходил», – писал он, и Варвара хмурилась на эту ненапрасную осторожность сына. На третий год войны нагрянули с обыском как-то ночью, ископали дом и огород, переворошили вдрызг Варварины укладки. Сидя в одной рубашке на кухонном столе, Варвара яростно созерцала распоротую перину, память о недолгом супружеском счастье. «Не волнуйтесь, душечка, – ластился жандарм, созерцая ее гранитные формы. – Я сам семейный и родителям сочувствую». Тогда же стало известно и об аресте самого Увадьева, и тут один из фабричных старожилов признался Наталье, что уже три года муж ее состоит членом подпольной организации. Было горько узнать, что столько лет муж скрывал от нее свое кровное дело, но она простила ему и теперь, потому что не способна была на большее. Поистине везло этому упорному, спокойному человеку, битюгу революции, как его называл покойный Васька. Гибель империи освободила его от военного суда и кары; с этого момента он пошел в гору, не отказываясь ни от каких постов, где требовалась работа почти парового копра. Лишь через полтора года он выписал к себе жену и мать, в тот сретенский дом, о котором упоминалось вначале.
В годы гражданской войны Наталья встретилась с Жегловым. Она поехала к нему в редакцию одной профсоюзной газеты, и тот не узнал сперва в маленькой усмиренной женщине прежнюю Наташу; он успел забыть, что она никогда не выделялась бойкостью, и второпях решил, что ее просто старит нескладная кожаная куртка. Десяти минут хватило, чтобы вспомнить знакомых, мертвых и живых:
– Где Ваня Пташин?
– Его убил Колчак.
– …а этот, Бусанов?
– Он в Чека, где-то на Кубани.
– А Увадьев, ты помнишь его?
– Да он тут. Это мой муж.
Потом Жеглов поделился с ней грязноватой плюшкой, которую почему-то в кармане принес ему курьер; потом стали мешать телефонные звонки; потом Наташа уехала, и в следующий раз они встретились только через месяц. Теперь они ближе разглядели друг друга и нашли, что все обстоит по-прежнему. «Да, и Щегол все тот же, только прежнюю незлобивость посмыло с него там, в приполярных тундрах…»
– Ты работаешь где-нибудь?
– Я… видишь ли, у меня… – В ее лице разбежался пятнистый румянец, она замялась, и Жеглов с новым чувством заметил, что Наталья беременна; именно это обстоятельство вернуло в их отношения простую человеческую естественность, которой недоставало вначале.
– Да, я вижу. Скоро?
– Месяца через четыре.
– И ты счастлива? то есть… ну, ты понимаешь меня?
В ответ она улыбнулась так обиженно, что губы ее встали почти вертикально. Ощутив неловкость, он перевел беседу на каторгу, всесибирскую скуку, прочитанные книги и встречи с людьми; избавленная от необходимости говорить, Наталья отдыхала. В сумерках вернулся с заседания муж, и Жеглова сперва неприятно поразила его заносчивая угрюмость. Узнав Жеглова, которого знал, впрочем, больше по нашумевшему в свое время неудачному побегу, он проявил неуклюжую любезность, и вдруг зачем-то понадобилось ему вспомнить деда своего, искусного черпальщика, которого фабрикант Филатов, строитель фабрички, променял на кобылу в яблоках, мыловара и пожарную трубу; про трубу он помянул дважды и даже помнил числа, когда бежал его предок на вольный Дон, когда был пойман и бит плетьми и, уже одноглазый, снова поставлен к машине. Выходило, будто в родовой неприязни ко всем тем, чей дед не щеголял в помещичьих рогатках, он и Жеглова вызывал на соревнование, а тот сочувственно кивал головой, прячась в дым папироски.
– …удачник! – только и сказала Наталья, когда муж уехал.
– Не врал про деда-то?
– Нет… он только округлил. Это моего прадеда променяли на трубу. Ты не суди его строго…
– Я и не обвиняю.
…именно обвинял, подозревая в нем тот сорт людей, которые непереносимы с низшими, равнодушны к равным и сами крайне болезненно переносят нерасположение свыше. Впоследствии он изменил мнение об этом суковатом человеческом кряже, достойном лежать в фундаменте большого дома, но Увадьеву так и не удалось завоевать его дружбы, целиком принадлежавшей Наталье. Жеглов понял многое в отношениях мужа и жены, а прежде всего – что было великой неделикатностью дразнить ее расспросами о счастье. Она любила Увадьева и уже привыкла к печальной роли луны, отражающей блеск отдаленного светила. Развод не доставил бы ей облегченья; втайне она жила его порывами, и не ее вина была в том, что не подходило случая, когда она могла бы проявить преданность и верность. Таким случаем была бы лишь крупная какая-нибудь неудача, и однажды она не без горечи высказала ему это.
– Калечку хочешь при себе иметь? – Должно быть, вспышка его объяснялась боязнью, что кто-то спугнет его знаменитую удачу.
Впрочем, он великодушно переносил ее присутствие, и происходило это не из насильственной благодарности к женщине, заслужившей его привязанность черной работой прачки и жены: попросту дни Увадьева были завалены более важными делами. Возможно, он был приспособлен для иной, сокрушительной любви, за которую надо бороться и тратить силы; он ждал другой, равной по возможности ему и непохожей на Наталью, которая девять лет уныло проторчала под рукой, как походная чернильница. Переворот этот мог произойти каждую минуту, она знала это и жила неспокойно, как на бивуаке, всегда готовая уступить место еще не существующей сопернице. Целых два года длилось это противоестественное равновесие, а та, уже победившая, все не шла. В ожидании катастрофы ее не тревожили временные увлеченья мужа; не тронутый в чувствах и потому падкий на необычное, он позволял себе изредка эту любовную роскошь. Не страшась причинить горе, он угощал иногда жену шоколадом, который случайно оставался у него в кармане от другой; сам он не любил сладостей и не терпел, чтобы вещь бесцельно пропадала в мире. Жуя это горшее отравы угощенье, она зорко наблюдала его в те часы; он сидел очумелый, уставясь куда-то в беспредметную тишину. В большинстве то бывали женщины опрокинутого класса; в короткие часы свиданий они успевали напоить его жгучей тоской собственного опустошения.
К этому времени Варвара разъехалась с сыном. Привыкшую к нужде, ее бесило даже и самое крохотное благополучие. Случались ссоры и раньше, но Увадьев терпел, узнавая в ней самого себя; однажды нитка перетерлась. На прощанье выругав сына окаянным солдатом, она выговорила ему все, что отстоялось, как в масляной бутыли, в ее просторном сердце.
– Жги, да пали, да секи, да руби единородных-то! Когда штаны-то с лампасами наденете? На всех не хватит, так хоть из ситчика пошейте, черти неправедные.
Связав полотенцем неразлучную перину, спутницу скитаний, она сунула в середку икону, села на извозчика и укатила куда-то в подвал: сосед обещал ей место трамвайной стрелочницы. Наталья осталась одна; в ожиданье родового часа она беззвучно бродила по тесной квартирке, избегая взглянуть в нарядное с бронзой зеркало, выданное по ордеру. Дымила печка; черная, клейкая, как лак, гуща капала из трубы. Напротив в окне висела облупленная вывеска закрытого ящичного заведения. Мужа услали в командировку. Жеглов приезжал по пятницам. Кто-то внизу играл на трубе.
Именно Жеглова и вызвали по телефону, когда начались преждевременные роды. Нижняя жилица привела акушерку. Та кипятила воду на примусе и курила толстую дымучую папиросу, когда приехал Жеглов; затягиваясь, она равнодушно глядела в просвет на заиндевелом окне: там, на улице, подыхала близ сугроба кляча. Акушеркина брата, юнкера, застрелили в октябрьских боях, и с тех пор она почитала нравственным долгом ненавидеть большевиков; ненавидела она, впрочем, не особенно пламенно, так как. недолюбливала и братца. У нее на лбу, в землистой борозде, прятался прыщ, и Наталье все казалось, что такая непременно ткнет ее папиросой в голый живот. Тем сильней она обрадовалась Жеглову, который еще с порога начал доставать из кармана яблоко. Затем, присев возле, он рассказывал невероятные истории, как, например, и ему однажды довелось действовать за повивальную бабку. Наталья не смеялась и, зябко кутаясь в шубку, все косилась на акушерку, вынимавшую из кипятка сверкающие инструменты, атрибуты ремесла. Вдруг лицо Натальи стремительно пророзовело, и яблоко покатилось из откинутой руки.
– Ну, родитель, ступайте покурить… – оживилась акушерка и вытолкнула Жеглова, который от растерянности кинулся прежде всего поднимать яблоко.
Обжигали его затуманившиеся Наташины глаза; кроме того, видевший расстрел рабочей демонстрации, он не выносил женского вопля. Как был, без шапки, Жеглов выскочил на площадку лестницы. Дверь, снабженная автоматическим замком, захлопнулась. Жеглов остался один.
III
Снизу дул в разбитую дверь почти полярный холод; окна тоже не имели стекол, и снежинки привольно резвились в сумерках лестничного провала. Обвеваемый сквознячками, Жеглов усердно топтался на месте и все вскидывал на нос спадающее пенсне. Рубашка из синей бумазейки, какой раньше обклеивали футляры, вовсе не согревала. Когда стали коченеть ноги, он принялся поплясывать энергичней, даже соблюдая подсознательный ритм. Дверь соседней квартиры открылась, и человек внушительных размеров, да и возрастом не менее пятидесяти, вынес за дверь помойное ведро. Неторопливо отжав мокрую тряпку, он искоса взглянул на Жеглова и прислушался к крикам, которые сочились даже сквозь войлочную обивку. Тогда, застенчиво улыбнувшись, Жеглов стал сморкаться.
– Ничего, валяйте, – сказал человек с тряпкой.
– Дует очень, – пожаловался сквозь зубы Жеглов.
– Зима, – рассудительно определил тот. – Брат?
– Не совсем.
– Э, дядя! – догадался тот, не допуская никакого родства, кроме физического, которое толкнуло бы на такую жертву.
– Вот и не дядя!
Человек с тряпкой меланхолически почесал переносье:
– Да, можно простудиться – январь, – и неторопливо захлопнул дверь.
Так прошло минут пять; шнурочек пенсне покрывался легким инеем от дыхания, когда дверь снова распахнулась. Тряпка все еще висела у человека на руке.
– Да – я забыл – войдите – у меня печка – потом чай. Я тут пол – тряпкой. – Отрывистую, точно сердился на вопиющую неточность слов, речь свою он сопровождал нетерпеливыми жестами. Пропустив гостя вперед, он старательно запер дверь на цепь. – Не пенсне – не пустил бы!
– Пенсне не паспорт, – засмеялся Жеглов, все еще не доверяя тишине за дверью.
– Пенсне – надо смелость – за пенсне могут расстрелять – беглые хлюсты с каторги.
– Знаете что?.. – осторожно приподнялся Жеглов. – Я уж, пожалуй, пойду туда, на площадку. Я как раз с каторги.
Хозяин раздумчиво взглянул на гостя.
– Ничего – сидите – там зима. Моя – Ренне, ваша – Жеглов? Я не был на каторге – брат был – горный инженер – помер.
– И давно? – неопределенно поддержал Жеглов.
– Да – помер, – не понял хозяин и поглядел на стену, где рядом с мешочком крупы, помещенным туда от мышей, висела фотография инженера с мешковатой выправкой; будучи молод и глуп, зная каторгу лишь из окна казенной квартиры, инженер презирал и крупу, и предстоящего Жеглова. – Помер – смерть растворяет – как сахар, но мысль нельзя – кристалл. Бессмертие – я потом докажу. Если да – в этом стакане будет безумие! – Он нарисовал широким жестом этот стакан, годный для определения вселенной; потом перешел к окну. – Там лошадь мрет – хвост притоптали – он примерз. Хотите глядеть? У меня бинокль…
– Я уж лучше чайку предпочту, – открыто намекнул Жеглов, жадно впитывая в себя тепло из печки.
– Ладно – у вас яблоко – будем с яблоком – давайте половину – снесу жене.
Разорвав яблоко пополам, он вышел в дверь и плотно притворил ее за собою. Жеглов осмотрелся. От сырых еще полов пахло какой-то знакомой дрянью. На прогорелое колено трубы, как пластырь на горло, привязали проволокой кусок жести. На столе валялись листы толстой бумаги с рисунками, выполненными от руки и до кропотливости тонко; изображали они не то листву как бы архейского папоротника, не то беспредметное видение сна. Хозяин застал гостя за разглядыванием рисунков.
– Это жена, – пояснил он, внося чайник и ставя его на печку. – Это мороз с окна – трудно – у нее глаза болят. Маньяк – ему нужно гармоничность распределения молекул – кристаллограф – скоро расстреляют. Нет, тот от гипосульфита – на стекле. Он в М у к е? служит – носит в карманах – ворует.
– От рисования заболели глаза?
– Да – тряпочки с холодной водой – и лежать. Теперь сам – полы – стираю белье – человек должен все. Бегать не умею – украл доску из забора, упал – пять пудов без тары!
Жеглов так и понял: перед ним стоял помраченный интеллигент, для которого с начала революции потух свет в мире. Путем наводящих уловок он дознался, что был прежде Ренне крупным знатоком лесного дела, и Октябрьская застала его в глухом городишке, где он проживал с женой и дочерью в домике у старшей, одинокой своей сестры. Жена разводила коз и кормила весь дом, но, несмотря на козье молоко, сестра вскоре умерла; привыкшую к плавному течению прошлого века, ее слишком утомлял шумный круговорот новых дней. Провинциальные условия не способствовали тихому житию; местную власть, на глазок определявшую степень вредности граждан, могли когда-нибудь ущемить белые воротнички инженера. Тогда Ренне бросили сестрино пепелище и перебрались в Москву, на Сретенку. Здесь можно было укрыться с головой одеялом и ждать чего-то, выбираясь лишь для добывания еды. Под одеялом одолевала смертельная тоска и червился разум, но, даже и чистя снег на мостовых в порядке общей повинности, Ренне все еще скрывал свое инженерское звание, полагая, что за звание-то и к о к н у т. Постепенно он входил в общую линию, и когда однажды ему удалось проволокой пришить к износившимся ботинкам огрызки автомобильной шины, он целый день смеялся от радости, как не смеялся, наверно, и первобытный человек, додумавшись до каменного топора; к таким ботинкам следовало лишь притерпеться первую неделю, а там шагай в них хоть пешком в Америку. Предельно опростясь и для сбережения сил он проводил дни в созерцательном безделье. Ему даже нравилось это добровольное самоуничтожение, а средства к жизни… кажется, их добывала жена, которая фанатически верила, что муж ее рожден для великих свершений. Сперва она шила чувяки, а когда ковер покончился, в пещеру их вторгнулся добродушный маньяк, за морозные узоры плативший ворованной мукою. Торопясь накопить побольше муки, прежде чем посадят маньяка, жена целые дни проводила в своем слепящем труде, а муж валялся на диване, зарастал седоватым волосом и твердил дикую штуку, налипшую ему на разум, как окурок к каблуку – «ерой-ерой, а у ероя еморрой!».
– Слушай, Филипп, – подошла однажды она. – Я ничего не вижу. Круги летят… Я разбила сейчас последнюю нашу кашу, посмотри!
– А у ероя… Дай водички, дружок, – басовито попросил муж.
– Я не вижу… – сквозь зубы повторяла жена и, боязливо вытягивая руку, пошла прочь.
Инженер поднялся и, как в похмелье, вгляделся в мир, который содрогался от потрясений. Во всем происходил необыкновенный кавардак, как всегда бывает при переезде на новую квартиру. Подобно опрокинутому грузовику тарахтела российская машина, а людишки бегали вокруг, сбираясь снова поставить ее на колеса. Тогда весь в поту и с сопеньем Ренне сам стал зарисовывать замысловатую игру ночного мороза, изредка вскакивая переменить холодные тряпочки на глазах жены; все еще резвился маньяк в мутных водах эпохи. Так дело длилось до Жеглова, который не задумался приобрести эту примечательную машину, слегка подпорченную невзгодами голодных лет. Был вечер, когда, снова в крахмальном воротничке, не отделимом от его человеческого достоинства, Ренне вышел из своей пещеры… По бульвару стлался острый осенний холодок. На скамье сидела парочка с нездешними глазами. Туда, вниз к площади, цыган-поводырь вел на цепи медведя, а сзади шел горбун с бубном. Он двигался важно и угловатую свою голову нес на плоских плечах, как плод на широком блюде. Они шли в жизнь, и никто не останавливал их. На углу Ренне едва ускользнул от трамвая: его ошеломляло бытие. Он зашел в парикмахерскую и приказал постричь себя помоложе; в зеркале он увидел одного знакомого чудака и раскланялся с ним, словно расстались только вчера. Ему очень хотелось верить, что ничего не произошло за эти годы, этому Ренне!.. К слову, фамилия его обманывала; был он по наружности явный русак, и если ночевал где-то немец в роду, то нестойкий. В одной лишь Сузанне сквозила странная нерусскость.
Она была единственным ребенком, но ее счастливо миновала слащавая участь детей, единственных в семье. Самого Филиппа Александровича мало что интересовало, кроме дела, а мать, не без черствоватинки, стояла за сугубо суровое воспитание дочери. Ее не баловали ни чрезмерной лаской, ни сладостями, и, когда пришлось однажды наказать за какую-то провинность, мать не придумала ничего лучше, кроме как проколоть и разорвать на глазах у дочери любимый ее цветистый мяч, который девочка почти обожествляла в детском своем воображении. Сузанна со смущенной улыбкой созерцала гибель резинового божества, не заплакала, не закричала, хотя целый месяц после того спала с этими цветными половинками, из которых изошла звонкая, веселая душа. Это случилось в пору, когда Ренне управлял одним из крупнейших лесозаводов; резвая девочка бегала всюду, ее безотлучным спутником был тот самый мяч, весельчак и скакун, а после казни его пустующее место божества заняла помянутая сестра инженера. Ежегодно наезжая весной, она привозила в дом горы пряников, запах каких-то провинциальных духов и суетливый, праздничный беспорядок. В первый же день они становились подругами, вместе уходили смотреть на ледоход, а когда обсыхала одна заветная полянка, они тайно убегали туда и, сцепившись руками, кружились до изнеможенья, молодая и старая, и все кружилось вместе с ними; самая весна состояла для Сузанны именно в этом необъяснимом круженье, когда старость ликует вместе с молодостью, которая гонит ее из жизни. Но и это божество караулила печальная участь; как-то на страстной Сузанна нашла под лестницей исписанные клочки, кинутые за ненадобностью. Она сложила их на подоконнике и, недоуменно морща ротик, вчитывалась в разорванные, разобщенные слова; свежий ветер из форточки шевелил ее локоны, «Дуняшу обозвала стервой, – прочла Сузанна нараспев. – Вспомнила милого и развратного Nicolas». В этой хартии, составленной, видимо, перед исповедью, имелись грехи и посущественнее, перечисленные, к счастью, по-французски. Сузанна не поняла и половины, но одно слово вдавилось в нее своей таинственной краткостью.
– Мама, что такое бог? – заикнулась она вечером за общим столом.
Родители переглянулись.
– Кто обучил тебя этому слову? – строго спросила мать.
Она показала матери записку, и тогда получился крикливый, смехотворный скандал… В этой семье, поставленной на естественнонаучных основах, всякий вел себя так, как ему потребно было для физического здоровья. Было, значит, вредное в том, что так тщательно скрывали от Сузанны; нужно, значит, было произносить некоторые слова шепотком, когда говорилось о рабочих. Девочка пристальнее вглядывалась в заводскую жизнь со своего благополучного берега, на котором не обо что было измарать ее беленькое платьице. Она не успела подвести итоги своим наблюденьям; вскоре Ренне перекочевали в город, на старую квартиру. Потекла гимназическая юность; в скрипучем и скользком паркете восемь лет бесстрастно отражались классические истуканы, но вдруг пришли солдаты и стали сушить на них мокрые, порою кровавые портянки. Подуло необычным ветром, и Сузанне однажды опротивело нарядное благочиние отцовской квартиры, горничные в крахмальных наколках и мебель, запустившая корни в пыльные углы. Там, на изразцовом камине, стояли в фарфоровой посуде кактусы, любимцы матери; желчный, прокуренный свет падал на них из северного окна, но они свыклись и, хотя не давали ростков, не портили тяжеловесного величия кабинета. Сузанна жалела лишь один из них, – это был свечевидный цереус; подняв бородавчатый палец, он сердито вопрошал свою соседку, индийскую опунцию, стоит ли ему, такому уроду, жить. А та, походившая на небритую щеку тюремщика, и сама давно заблудилась в смыслах бытия. Назаром звала Сузанна этого растительного Гамлета. Не раз ей снилось, как у хмурого сего великана отрастают хилые ножки и ручки; он помахивает ими и все не смеет спрыгнуть, чтоб бежать без оглядки в свой знойный Гондурас. Помощник Ренне, которого Октябрь вырядил в какой-то защитный френчик, имел привычку дергать шипы из Назара, которыми рассеянно чистил желтые свои ногти; она не любила его и за его неправдоподобное имя Порфирий, и за его томные резиновые вздохи.
– Какое у твоего Порфирия лицо темное… точно трупное пятно, – бросила Сузанна отцу в одном совсем излишнем разговоре. – Это потому, что он и сам часть трупа… – Она не объяснила, что имела в виду уже обезглавленную империю, а Ренне понял, что дочери просто надоели тесные рамки семьи.
– Не держу – уходя, захлопни дверь – шубы! – резко дернулся он.
Тогда она решилась, и даже не булькнул под ней половодный кипяток эпохи. Утром за чаем ни слова не было сказано о пропавшей Сузанне: созревшему семени всякий ветер попутный. Поезд, набитый искателями хлеба и соли, донес и ее, искательницу воли своей, до мизерного, безыменного полустанка. Здесь как раз проходила зона того очистительного сквозняка, который, вопреки законам, во все стороны света дул из России. Покинув теплушку, она бесцельно пошла по дороге. В тишине чудился как бы подраненный крик, и тот, кто раз услышал его, навсегда сохранял мучительное и радостное беспокойство. Свирепой раскраски закат громоздился впереди, точно где-то, тотчас за горизонтом, неслыханный происходил пожар. В застылом отсвете его, на невспаханных полях, качались бурые стебли пижмы. За бугром циклопической величины родилась деревня. Черная тряпка болталась на высоком шесте; грозным этим знаком анархии или чумы мужики защищались от постоя солдат. Она зашла, ее напоили молоком, вкус которого она почти забыла, но отказали в ночлеге: тогда не верили никакому человеческому слову. Улыбаясь, она вышла на дорогу, когда желтая звезда уже возвещала пришествие ночи. Дорога прямолинейно уводила куда-то в гибель и мечту; до мечты стало ближе, чем до покинутого дома. Здесь догнал ее парень в матроске, смуглый, острый и с тугой моряцкой завитушкой на лбу. Он заговорил, она отвечала, он попытался овладеть ею, она пригрозила ему горстью дымного степного праха в глаза. Он не обиделся, а засмеялся; в такой напряженной дружбе они продолжали путь. Во мраке явились тополя, похожие на закутанных, спешащих в неизвестность женщин. На хуторе светилось окно. Рослый мужик, лицо которого походило на сплошное приспущенное веко, отворил им на стук.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: