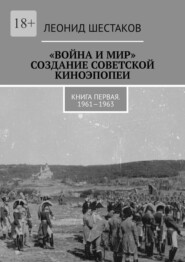скачать книгу бесплатно
«Война и мир». Создание советской киноэпопеи. Книга первая. 1961-1963
Леонид Шестаков
В этой книге – попытка хронологически верно рассказать о съемках и триумфе легендарной картины Сергея Федоровича Бондарчука «Война и мир», созданной по роману великого русского писателя Льва Николаевича Толстого.
«Война и мир». Создание советской киноэпопеи
Книга первая. 1961-1963
Леонид Шестаков
© Леонид Шестаков, 2023
ISBN 978-5-0060-5733-3 (т. 1)
ISBN 978-5-0060-5734-0
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Предисловие автора
Идея о том, чтобы написать книгу о создании одного из моих любимейших фильмов – советской киноэпопеи «Война и мир» режиссера Сергея Федоровича Бондарчука – пришла мне в двухтысячном году, когда отреставрированную картину транслировали в январские выходные после наступления Нового года.
В момент просмотра я вспомнил свои шесть лет, когда впервые увидел третью серию фильма, целиком посвященную Бородинской битве. Сражение, развернувшееся на экране старенького семейного «Славутича-Ц 203», в тот вечер наполнило меня непривычным восторженным напряжением, а сцена, в которой растерянный Пьер Безухов шел на фоне затухающей под дождем битвы, навсегда врезалась в память.
В двухтысячном году при повторном знакомстве с картиной незабытый детский восторг был помножен на сознательность возраста и увлечение историей Отечественной войны 1812 года. Мое внутреннее состояние полностью перевернулось. После просмотра заключительной серии я несколько дней ходил как оглушенный и очень медленно приходил в себя, отказываясь верить тому, что картину такого масштаба можно было осуществить в советское время. И я очень хотел найти ответ на вопрос – как?
Я не отказался от своей идеи и после окончания школы и института, и после прохождения службы в армии, и после того, как вышел во взрослую жизнь, которая не очень любит свободное время у человека. Но приблизиться к собранию полноценной мозаики о постановке картины я смог только к тридцати годам, когда моим главным помощником стал Интернет, о котором в школьное время знал только понаслышке.
У меня появилась возможность не только прочитать статьи создателей «Войны и мира» и воспоминания статистов, принимавших участие в съемках. Теперь я мог изучить документальные фильмы, кинохронику, заказать необходимые мне документы из библиотек и архивов в цифровом виде, старательно отделяя информационные зерна от таких же информационных плевел. И перед тем, как написать первое слово в первой главе, я потратил немало времени и на то, чтобы изложить накопленный материал в хронологическом порядке, убрать между источниками противоречия, которых оказалось немало, и придать повествованию удобную для читателя литературную форму.
Работая над книгой, я отдавал себе отчет в том, что она найдет мало откликов. Либо не найдет их совсем. Картины, подобные «Войне и миру», состоят из продолжительных планов без монтажного деления и наполнены философским смыслом с необходимыми для содержания символами. Это вызывает отторжение у большинства современных зрителей, привыкших к бездумным развлечениям и клиповой динамике на экране, которое, к сожалению, формирует такое же мышление.
Не мне судить о нынешнем духе времени, но очевидно простое – в двадцать первом веке кинематограф перестал быть одним из важнейших искусств наряду с литературой, музыкой или живописью и потерял функцию духовного лекарства, стимулирующего человека на размышления, поиск смыслов и тягу к созиданию. Теперь это бесконечный коммерческий конвейер с красивыми, но пустыми картинками…
Однако суть настоящего золота в том, что даже в залежах песка оно всегда остается золотом. И моя книга, посвященная созданию грандиозной киноэпопеи, именно об этом…
Очерк о режиссере-постановщике
Май 1986 года. В Москве проходит V съезд кинематографистов СССР, во время которого радикально настроенные коллеги припоминают актеру и режиссеру Сергею Федоровичу Бондарчуку его колоссальные успехи в советском и мировом кинематографе. Не считаясь с мнением многомиллионной зрительской аудитории, они не могут простить ему огромные затраты на производство эпопеи «Войны и мир», обвиняют в официозном подходе и кумовстве и затаптывают в грязь, используя для этого высокую трибуну. Поэтому, забаллотированный на выборах секретариата, Сергей Федорович вынужден покинуть руководство Союза кинематографистов. И только один справедливый голос в защиту пробивается сквозь это позорное судилище – за великого кинорежиссера вступается Никита Сергеевич Михалков, заявивший о «ребячестве» присутствующих, которое, по его мнению, «дискредитирует все благие порывы», на что он тут же получает резкий ответ: «Рано ты повзрослел!»
Основной же причиной, по которой Сергея Бондарчука выбрали мишенью на этом «революционном» съезде, была накопленная с годами зависть. Зависть к человеку, который добивался триумфа благодаря своему неисчерпаемому таланту, гигантскому трудолюбию и повышенной требовательности, – в первую очередь, к себе…
Сергей Федорович Бондарчук. Одна из ключевых фигур отечественного кинематографа. Известность и признание пришли к нему уже в начале творческого пути: в тридцать два года он стал самым молодым народным артистом СССР. Это звание Бондарчук получил сразу после выхода фильма «Тарас Шевченко». По слухам, картина настолько понравилась Сталину, что тот зачеркнул в журнале «Огонек» фразу «заслуженный артист РСФСР» под фотографией Бондарчука и написал своей рукой – «народный артист СССР»
.
К 1986 году Сергей Федорович Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и четырех Государственных премий, профессор и преподаватель ВГИКа. Ему благоприятствовали власти, на его масштабные, полные проникновенной философии картины выделялись неограниченные средства.
Сергей Федорович был блестящим актером, отдававшим себя полностью для роли. «Актер – это, прежде всего, личность. Если ты как человек мелок, себялюбив, зол, то что доброго и значительного можешь создать в искусстве? Да и во всяком добром деле?» – говорил Бондарчук
. Но помимо актерской профессии, он всегда тяготел к режиссуре. И его дебют – фильм «Судьба человека», снятый по рассказу Михаила Шолохова – в 1959 году стал мировым событием. Только в СССР его посмотрело больше 39 миллионов зрителей. За эту работу Сергей Бондарчук получил Ленинскую премию и главные призы на Международных кинофестивалях в Москве, в Локарно, в Карловых Варах. «Так проникнуться горем, мучениями маленького сироты, который жутко жил, как бродяга; так выразить детское страдание и недетскую печаль может только художник с тонкой, обостренной, отзывчивой душой», – резюмировал художник Александр Шилов
.
После своей первой режиссерской работы Сергей Федорович понимал, что не может опускать творческую планку и начал искать для себя новый материал. Он хотел ставить «Тараса Бульбу», но из-за политических соображений картине не дали ход. Поэтому его следующим фильмом должна была стать чеховская «Степь». Он уже написал сценарий и сформировал группу, оставалось только выйти на съемочную площадку. Но судьба распорядилась иначе, подняв планку Бондарчука еще выше
.
«Война и мир» – экранизация романа Льва Николаевича Толстого. Картина, в которой Сергей Федорович полностью раскрыл силу своего таланта и показал себя непревзойденным мастером батальных сцен. Тяготеющий к эпичности и сложным композициям, он все время чувствовал себя тесно в рамках традиционной кинематографии и поэтому наполнял каждый кадр новыми смыслами. Бондарчук не собирался ставить «Войну и мир», но этот вызов он принял, хотя и не без сомнений. Поделившись своими мыслями с Михаилом Шолоховым, Сергей Федорович услышал от него ставшую знаменитой фразу: «Да эти тома даже с пола трудно поднять!» Но Рубикон был пройден, и после долгого отбора кандидатов Министерство культуры назначило на пост режиссера именно Бондарчука. Когда об этом узнали на «Мосфильме», один из коллег бесцеремонно спросил у него: «А ты пупок надорвать не боишься?» На что Сергей Федорович резко ответил: «Мне его мать при рождении крепко перевязала!»
Успех картины «Война и мир» с лихвой окупил для Бондарчука все – и затраченные колоссальные усилия, и две клинические смерти, и постоянные сомнения в правильности согласия на постановку. Первый советский «Оскар», предложения от зарубежных продюсеров и режиссеров, авторитет мирового уровня, доверие властей и возможность снимать не менее масштабные фильмы.
У Бондарчука было много друзей. Но врагов – еще больше. Однако он попросту их не замечал, потому что жил кино и отдавался ему всей душой без остатка. Хотя нередко сетовал: «Я не видел, как выросли мои дети, я не похоронил отца… Ради чего? Ради этой забавы, которая зовется кинематографом?»
Но уйти из любимой профессии для него было равнозначно смерти. Не только физической. В первую очередь – духовной. Ведь жизненный путь Сергея Федоровича был неотделим от его творчества.
Он являлся человеком с милостивым, сострадательным сердцем и уважал достоинство другого человека. Ему не важны были статус, положение или возраст. Это отличало Сергея Федоровича от его завистников, которые осмелились поднять головы и воспрянуть своими пустыми душами только в 1986 году.
Время все расставило по своим местам, и фамилии режиссеров, клеймивших Бондарчука на V съезде, исторической причиной которого стала горбачевская «перестройка», канули в лету. Но почему? Ведь они получили гарантированные возможности творить и созидать по-своему! Вот только никто из них, вопивших о «розовых фильтрах на объективах наших камер», не создал произведение, которое вошло в фонд отечественного и мирового киноискусства.
Коллеги по цеху называли Бондарчука «Глыбищей». Сейчас, оглядываясь назад, понимаешь, насколько они были правы. Хотя бы по одной причине: картину такой мощи как «Война и мир» мог поднять только человек, наделенный пронзительным чувством правды, красоты и веры в необходимое людям дело. Таким был Сергей Федорович, и, когда он снимал фильм по величайшему произведению Толстого, прекрасно понимал: «Не себя при помощи кино мы хотим показать, а при помощи средств кино хотим выразить то неповторимое, что Лев Николаевич открыл в литературе».
И он это сделал.
1961—1963
ГЛАВА ПЕРВАЯ. ПУСКОВОЙ МЕХАНИЗМ
В середине 50-х годов в советском кинематографе начинались большие перемены, и новым витком его развития стала экранизация классических произведений русской литературы. Одно из решений – осуществить кинопостановку по роману Л. Н. Толстого «Война и мир» – было зафиксировано в документах Министерства культуры СССР еще в декабре 1954 года
.
Однако в 1956 году роман совместно с итальянцами экранизировал американский режиссер Кинг Видор. Это стало неожиданностью и явилось своеобразным вызовом для СССР: жителей страны и высшее руководство возмутил тот факт, что фильм по роману нашего писателя поставлен иностранцами раньше нас! После того, как ведущие деятели советского кино увидели картину в год ее выхода за рубежом, отечественная экранизация стала вопросом национального престижа.
Министерство культуры начало действовать немедленно и уже в августе 1956 года поручило написать литературный сценарий «Войны и мира» народному артисту СССР, кинорежиссеру Ивану Пырьеву, который в то время занимал пост директора «Мосфильма»
.
Пырьев трудился над сценарием в течение двух лет, и 8 августа 1958 года, когда он закончил вариант с разработанными сценами первой и второй серий, состоялось заседание редсовета сценарной студии (присутствовали: Семенова, Магат, Черных, Белова, Голубкина, Катинова, Ромм) во главе с председателем Василием Дулгеровым[1 -
]. Выводы, сделанные редакторской группой, были отражены в протоколе заседания:
«Белова. Перед автором стоит очень трудная задача – из емкой четырехтомной эпопеи сделать фильм в трех сериях. По прочитанному. Основной принцип отбора материалов и те части, на которые Иван Александрович разделяет будущий фильм, представляется правильным, а именно – «Андрей Болконский», «Наташа Ростова» и «1812 год». Хотя автор не показал, как будет разработана третья часть по решению и объему, но принцип построения правильный. От показа общества того времени все сольется в конце в потоке войны. По первой части «Андрей Болконский». По тому, как Иван Александрович располагает материал, мне подумалось, что по материалу это скорее Пьер Безухов. Если говорить об Андрее Болконском, то должен быть другой конец. Вторая серия. Мне кажется, что вся любовь князя Андрея и Наташи должна быть тесно связана с отношением князя Андрея с жизнью.
Вероятно, без голоса рассказчика не обойтись. И этот прием должен быть широко использован. В процессе работы нужно, вероятно, придумывать какие-то новые детали. И здесь придется Ивану Александровичу с Толстым обращаться смелее в смысле диалога. Диалог Толстого сейчас звучит недостаточно живо и бедновато. В романе есть авторское рассуждение, о чем персонаж думает. Какие-то эпизоды здесь длинноваты, а в каких-то – чего-то не хватает. Предстоит трудная работа после того, как отобран материал и с каких позиций будет начинаться работа.
Магат. И трех серий может оказаться мало, если идти по пути попытки сохранить фабульный объем, то есть уделить место всем основным судьбам. А ведь у вас третья серия зарезервирована для военной [эпохи].
При экранизации «Войны и мира» в Советском Союзе нужно меньше всего гнаться за полнотой воспроизведения всех линий. В некоторых местах мне показалось, что вы берете излишек материала по отдельным линиям за счет вещей совершенно специфических, которые только русский художник, в отличие от иностранного, пытающегося экранизировать «Войну и мир», может и должен сделать. Недавно мы видели на экране Пьера Безухова, признали, что это хороший актер. Но осталось впечатления большого обеднения романа. И когда я увидела, что вы много места хотите уделить Пьеру, это меня обрадовало. После чтения сценария я задумалась над концовкой двух серий. У меня создалось такое же ощущение, как у Беловой. По-моему, история возрождения Андрея должна найти место тогда, когда будет ужат другой материал. Мы имеем мало прав что-либо советовать Ивану Александровичу. Сделано много, предстоит сделать еще больше. Можно придираться к отдельным частностям языкового характера и т. д. Но мы имеем дело с режиссером, который видит это для себя. Сейчас слишком законспектирована экспозиция того или иного персонажа, но в экранном выражении, в руках режиссера, все это зазвучит совершенно иначе.
Семенова. Говорить трудно, так как работа не закончена. И замечания, которые были сделаны, возникли из-за незаконченной работы. Подбор материала мне кажется очень интересным. Ивану Александровичу удалось очень хорошо передать образ Наташи. Даже в этих эпизодах она не отрывается от образа Наташи в романе Толстого. И то, что написано – написано, в общем, удачно. О третьей серии мы ничего сказать не можем, но нужно думать, что она будет написана на таком же уровне, как и все остальные. По тому, что прочли, работа стоит на правильном пути и идет удачно.
Черных. Я согласна, что принцип отбора материала правильный, верный и точно найденный.
Голубкина. Мне кажется, что вообще отказываться от каких-либо эпизодов из романа Толстого очень трудно. Но если берешься за такую задачу, то нужно быть беспощадным. От двух войн нужно отказаться. Об этом нужно делать отдельную картину. Если брать личные судьбы героев, то это, прежде всего, поиск и Пьера, и князя Андрея. Это есть главное в сценарии. И тогда отпадает целый ряд эпизодов. Придется чистить эпизоды от героев, от которых трудно отказаться, но нужно: Борис, княгиня Катишь и другие.
Пырьев. Сегодняшний разговор очень полезен для обострения размышления над этой вещью. Экранизация эта очень трудная и сложная. Можно было не давать Шенграбен, а дать Аустерлиц. Но от него пришлось отказаться и сконцентрировать все события под Шенграбеном, так как иначе пришлось бы обойти в сторону от личных судеб. У Толстого так записано, что хочется ставить каждый эпизод. И у него все эпизоды связаны друг с другом. К Толстому нужно подходить осторожно и в смысле кинематографического решения. А то может получиться, что кинематографически будет правильно, а действие в развитии может пропасть. Мне бы не хотелось брать некоторые эпизоды, которые были у Кинга Видора. Я бы отказался от охоты, от разговора на балконе в Отрадном. Что касается того, не мало ли места для развития взаимоотношений и любви, то это будет зависеть от наполненности и яркости эпизодов. Концовка должна быть на высоком патриотизме. И личные линии потонут. Я учту все то, что обязательно для раздумья.
Дулгеров. Общую структуру экранизации можно будет увидеть тогда, когда будет готова и третья часть. Тогда ясно будет общее соотношение материала и можно будет в целом посмотреть произведение Толстого в сценарии.
Пырьев. У меня план работы такой – сначала сделать две серии. Когда эта работа будет закончена – приступить к третьей.
Дулгеров. Сейчас у нас имеется общее представление о первых двух частях, и по ним нет существенных замечаний. Я считаю, что уже на этом этапе работы можно посоветоваться с толстоведами»
.
Пырьев вносил необходимые поправки в сценарий до 1959 года. Но в связи с тем, что СССР приобрел для проката фильм Кинга Видора, работа была приостановлена, о чем Пырьев сообщил в письме Василию Дулгерову: «Как Вам прекрасно известно, постановка кинокартины «Война и мир», по указанию министра культуры Н. А. Михайлова, была отложена на неопределенное время. Решение было принято ввиду того, что стоимость трех серий фильма была определена в 50 миллионов рублей, а у нас был куплен итало-американский фильм того же названия, поставленный режиссером Кингом Видором. И так как этот купленный за большие деньги фильм намечено было выпустить на наши экраны в начале 1959 года, министр посчитал неудобным и ненужным вслед за итало-американским фильмом выпускать наш отечественный. В присутствии товарищей Рачука и Сурина министр решил вопрос о постановке «Войны и мира» отложить на три-четыре, а то и на пять лет, пока по экранам не пройдет итало-американский вариант.
В результате этого решения работа, которую я проделал над сценарием, написав полторы серии, и работу, которую я в течение двух лет делал как режиссер, пошла насмарку или, вернее, была законсервирована»
.
Картина Кинга Видора вышла в советский прокат в августе 1959 года. Не найдя ожидаемого отклика у американской и европейской аудиторий, она имела огромный успех в СССР: билеты раскупались заранее, у касс выстраивались огромные очереди. Несмотря на «холодную» войну, Кинг Видор предпочитал оставаться вне политики и старался обойти в картине любые стереотипы – в этом ощущалось его глубоко уважительное и бережное отношение к классическому первоисточнику. При таком трепетном и объективном подходе американский фильм удивил советского зрителя не только первоклассными актерами и довольно зрелищными батальными сценами, но и неподдельным интересом западного постановщика к русской культуре. Видор честно шел по линии сюжета и смог сделать многие эпизоды картины запоминающимися и любопытными. Но в своей киноверсии романа он полностью сконцентрировался только на индивидуальностях, а именно – на трех главных персонажах: Пьер Безухов (в исполнении Генри Фонда), Андрей Болконский (Мел Феррер) и Наташа Ростова (полюбившаяся советским зрителям актриса Одри Хепберн). Главной движущей силой фильма были отношения этих героев и их внутренние переживания. Второстепенные персонажи оказались проработаны схематично и существовали лишь для того, чтобы более подробно раскрывать характеры Пьера, Андрея и Наташи. Чего же действительно не мог добиться Видор в своей картине, так это показать всепоглощающий и патриотический дух русского народа. Американский режиссер без остатка выхолостил из сюжета «мысль народную».
Вскоре после начала проката фильма журнал «Советский экран» (№17, 1959 год) напечатал сдержанную статью профессора Михаила Григорьева:
«Экранизация классики очень ответственное дело, особенно когда на язык кино переводятся произведения Л. Н. Толстого. Русского гиганта литературы знают все, кто умеет читать, его издают на всех языках мира. Однако на западе к экранизации чаще всего относятся легкомысленно, подгоняют любой сюжет классических произведений под определенный голливудский стандарт с любовным треугольником и «хеппи-эндом». С этой точки зрения итало-американский фильм режиссера Кинга Видора значительно выше установившегося на западе уровня экранизации классики. Большую любовь к своим героям проявили и авторы и актеры. В первую очередь это относится к актрисе Одри Хепберн, исполняющей роль Наташи. Правда, как и во многих героях экранизации, в образе Наташи не передана толстовская философия. На экране она внутренне не изменяется так, как в романе, где через образ Наташи так глубоко раскрыты взгляды Толстого на семью, на счастье, на долг женщины.
Однако по сравнению с грандиозным эпическим полотном Толстого фильм значительно проигрывает. Война показана осуждающе. Но вместе с тем сцены разгрома французов даны лишь внешне, в массовых эффектных баталиях. Что же касается представителей русского народа, то их появление на экране каждый раз вызывает веселое оживление в зале.
Хорошо изображены семейно-религиозные сцены, например, сцена соборования отца Пьера Безухова (не будем придираться к тому, что по православным обрядам православные не воздевают сложенные руки вверх, как это показано в фильме). И все-таки даже удавшиеся образы иногда представляются иностранцами, переодетыми в русские костюмы».
Картина Видора сыграла роль пускового механизма. Когда прокат закончился, многие жители СССР начали требовать историческую эпопею, которая должна была отразить на экране патриотический дух русского народа. «Мосфильм» завалили письмами потомки участников Отечественной войны 1812 года. Они предлагали свою помощь в качестве консультантов, делились семейной памятью, выдвигали кандидатуры актеров, кто, по их мнению, мог бы достойно сыграть главных героев романа Л. Н. Толстого.
Первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев возмущенно отчитывал Министерство культуры и Государственный комитет по кинематографии: «Это не дело, что у американцев есть «Война и мир», а у нас нет. Она наша! Мы должны догнать и перегнать Америку по мясу, молоку и по фильму «Война и мир»
.
4 мая 1960 года министр культуры Николай Михайлов был снят с должности, и в тот же день на этот пост заступила Екатерина Алексеевна Фурцева. После ее слов: «Вы хотите, чтобы наши люди изучали творчество русских классиков по американским лекалам!» – вопрос экранизации «Войны и мира», отложенный Михайловым на неопределенный срок, вновь стал актуальным без права на пересмотр
.
Но кто из корифеев отечественного кинематографа будет ставить самую масштабную советскую картину? На кресло режиссера претендовали Сергей Герасимов[2 -
] и его более авторитетный коллега Иван Пырьев, который после экранизации «Идиота» Ф. М. Достоевского доказал, что ему под силу работа и с классическими произведениями.
Однако Пырьев уже давно раздражал высшее руководство. У него появилось много недоброжелателей, желавших убрать маститого и своенравного режиссера со всех руководящих постов и не дать ему укрепиться на позициях советского кинематографа после окончания работы над «Войной и миром». Поэтому на его замену выдвинули кандидатуру начинающего режиссера Сергея Бондарчука, у которого, тем не менее, были реальные шансы на постановку фильма
.
Чтобы разрубить образовавшийся гордиев узел, Пырьеву и Бондарчуку устроили соревнование, предложив снять несколько пробных эпизодов «Войны и мира» и определить по качеству результата достойного претендента. В 1960 году режиссеры сели за сценарии, но спустя несколько месяцев Пырьев сам потерял интерес к экранизации
. И одной из главных причин называли письмо в Минкульт от 15 февраля 1961 года на имя Екатерины Фурцевой, подписанное военными деятелями и работниками культуры и искусства:
«Уважаемая Екатерина Алексеевна!
Осенью 1962 года наша страна будет отмечать 150-ю годовщину Отечественной войны русского народа против Наполеоновского нашествия (подчеркнуто).
Дело чести советского кино – отозваться на это великое Национальное событие выпуском крупного художественного кинофильма. Таким фильмом может стать давно ожидаемая советским и зарубежным зрителем экранизация величайшего произведения мировой литературы, гордости русской культуры – романа Л. Н. Толстого «Война и мир».
Как известно, американский фильм, созданный по этому роману, не передал ни художественных, ни национальных особенностей эпопеи Л. Н. Толстого, ни великого освободительного духа борьбы русского народа, – чем вызвал справедливые претензии советского зрителя.
Русский фильм «Война и мир» может стать событием международного значения. К работе над ним должны быть привлечены крупнейшие советские драматурги и другие мастера кино (подчеркнуто). Постановкой фильма должен руководить кто-либо из лучших наших кинорежиссеров, наиболее достойной кандидатурой нам представляется С. Ф. Бондарчук (подчеркнуто).
Консультировать фильм должны виднейшие военные историки страны.
Убедительно просим Вас рассмотреть наше предложение, так как время диктует необходимость незамедлительного решения (подчеркнуто)».
Среди подписавшихся были Николай Тихонов (писатель, Председатель Советского Комитета Защиты мира), Михаил Катуков (маршал бронетанковых войск, дважды Герой Советского Союза), Павел Жилин (доктор исторических наук), Сергей Голубов (писатель, автор книг «Багратион», «Когда крепости не сдаются»), Михаил Брагин (кандидат исторических наук)
.
После этого письма Пырьев перестал здоровался с Бондарчуком до конца своей жизни и, будучи человеком злопамятным, позже добился, чтобы авторам фильма урезали гонорары, несмотря на четыре полнометражные серии
.
Однако причины того, что Сергей Бондарчук был назначен режиссером «Войны и мира», не заканчивались только на одной письменной рекомендации. Дело в том, что имена Герасимова и Пырьева, известные отечественному зрителю, практически ничего не говорили на Западе, в то время как единственная работа Бондарчука-режиссера – фильм «Судьба человека» – вызвала резонанс во всем мировом киносообществе
. Другой немаловажный фактор – Бондарчук успел сняться в картине итальянского режиссера Роберто Росселлини «В Риме была ночь», что говорило о неподдельном интересе за рубежом к его ставшей знаменитой фамилии
.
В конце февраля 1961 года «у министра культуры СССР т. Фурцевой Е.А произошло совещание, на котором присутствовали Баскаков В. Е., Цветков И. И., Разумовский В. В., Сурин В. Н., Бондарчук С. Ф., Циргиладзе В. С. и Иванов Н. А. На этом совещании был решен вопрос об экранизации величайшего произведения русской и мировой классики – романа Л. Н. Толстого «Война и мир».
3 апреля генеральный директор киностудии «Мосфильм» Владимир Сурин обратился к Фурцевой о разрешении начать предподготовительный период по картине с заготовкой сценария на три серии. Срок окончания – 150-летие Бородинского сражения. В этот период необходимо было провести работы по написанию сценария, изучить иконографические и архивные материалы, создать эскизы декораций, костюмов, мебели и реквизита.
4 апреля Екатерина Фурцева обсудила с представителями «Мосфильма» один из основных организационных вопросов – где найти многотысячную массовку и конницу для батальных сцен фильма? Все понимали: без привлечения вооруженных сил не обойтись, и тогда Фурцева обратилась к министру обороны СССР Родиону Яковлевичу Малиновскому с просьбой оказать помощь в предстоящем производстве картины. Малиновский дал положительный ответ и обещал выделить необходимое количество статистов. Однако кавалерия как род войск уже была ликвидирована в Советской армии – лошади остались только в одном дивизионе московской милиции. Эту задачу министр обороны поручил решить главным военным консультантам картины – Владимиру Васильевичу Курасову и Маркияну Михайловичу Попову
.
Еще через два дня вышел приказ Сурина:
«В связи с предстоящим запуском в производство фильма «Война и мир»
ПРИКАЗЫВАЮ:
Режиссеру С. Ф. Бондарчуку, оператору Монахову В. В., художнику Куманькову Е. И., старшему редактору М. В. Качаловой приступить к изучению материала будущего фильма, выяснению возможного объема, составлению литературной аннотации, обсуждению всех вопросов с историческими, военными и литературными консультантами»
.