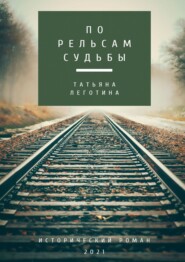скачать книгу бесплатно
– Хозяин! Чтоб никаких фокусов! Обыщем весь дом от чердака до подпола! От нас никого не спрячешь! Собирай своего сына, надо послужить народу и очистить Россию от красной сволочи!
Запричитала мачеха, заревели сестренки, а Варя стояла подле, стиснув зубы, и, не мигая, смотрела на офицера. Прапорщик, гордый собой, своим напором, самодовольно улыбался в пышные рыжие усы:
– И учтите! Долго ждать я не намерен! – Вытянув ноги в начищенных до блеска сапогах, он по-хозяйски расселся за столом. Блаженствуя с мороза в жарко натопленной избе, достал из кармана серебряный портсигар и закурил папиросу.
«А мой-то батюшка, пожалуй, лучше да краси?вше бы сапоги сшил!» – подумалось Варе, когда она укладывала в холщовую торбу краюху хлеба, с десяток луковиц и большой шмат сала. Нечаянная мысль об отце и о родном о доме снова разбередила ей душу. Взглянув на Андрея, который вышел из закута и теперь стоял в растерянности посреди кухни, Варя вдруг подумала, что остается здесь совсем одна, и горько заплакала. Думала она и о том, что вот сейчас заберут его на войну, и там его, может быть, ранят или даже убьют. Это было незнакомое ей прежде тёплое чувство нежности и жалости к мужу, к которому она только начала привыкать, и которого сейчас увезут от неё неизвестно куда. Уже одетый, с растерянным и хмурым видом, Андрей стоял на пороге, прощаясь с родными, а Варя горько плакала, спрятавшись за занавеской. Наконец прапорщик подтолкнул Андрея в спину – мол, хватит, попрощались! Только тогда заплаканная Варя подбежала к мужу, обхватила его за шею и сквозь прорывающиеся рыдания горячо зашептала:
– Ты вернись, слышь-ка, Андрюша! Только вернись! Я ждать буду! – И тут же, словно что-то вспомнив, она быстро сунула ему в карман пуховые рукавицы. Потеплело у Андрея на душе и немного полегчало на сердце. Не мог он знать тогда, что эти рукавицы и торба с немудрёными припасами, собранными женой, спасут его от смерти в глухой сибирской тайге.
Глава 8
В городе, на железнодорожных складах наспех одевали новобранцев в армейскую форму. Отобрали тёплые полушубки и раздали стираные, провонявшие карболкой гимнастерки, штаны и шинели. Сразу было видно, что шинели сняты с убитых. Ржавые пятна крови, следы от пуль, пропахшее потом сукно, всё говорило о том, что эти шинели шли в ход не в первый раз. Андрею по счастью досталась большущая кавалерийская шинель, под которой он сумел спрятать сшитую бабушкой стеганую телогрейку. Оставили ему и треух[21 - Треух – теплая шапка (устар.)] из овчины, и высокие теплые пимы[22 - Пимы – валяная обувь (устар.)]. Обмундирования, а уж тем более сапог в армии катастрофически не хватало.
Новобранцы шли к поезду разношёрстым строем – кто в чём. Не войско, а смех и грех! Увидев их, Петруша, юродивый старичок, сидевший на вытертых ступенях станционной церквушки, вдруг заплакал. Сначала тихонько, а потом зарыдал, забился в припадке, выплевывая со слюной страшные слова:
– Глядите, люди добрые! Антихристы ваших сынков на убой повели! Эй, ребятушки, бегите! Спасайтесь! Ироды эти вашей кровушки никак не напьются, не захлебнутся! Все вы там сгинете! – И старик поднялся во весь рост, грозя кулаками в сторону офицеров и солдат. – Пропадите пропадом, убийцы! Сатанинское племя!
– Убрать! Быстро! – раздался громкий окрик офицера. Но никто не осмелился обидеть «божьего человека». Заволокли его под руки в церковь, где толпился испуганный народ, и закрыли тяжелые двери. Ряды новобранцев смешались, вокруг раздавались команды офицеров, кричали солдаты, стараясь снова построить всех в шеренгу. Бабы, идущие за строем, плакали в голос и крестили мужиков и парней, уходящих на верную смерть.
До того момента, как Красная Армия перейдёт в наступление на Петропавловском фронте, оставались считанные дни. Адмирал Колчак, сознавая, что сил для победы уже нет, готовился принять решение об отступлении. Нужно было найти в себе мужество, чтобы сказать: «Всё! Белой армии пришёл конец!» Но сделать этого Верховный правитель никак не решался. И, хотя эшелоны для эвакуации командного состава войск уже стояли в Омске «под парами», в город всё ещё продолжали стягиваться свежие воинские силы. Когда же поезд с новобранцами после нескольких суток прибыл наконец на омский вокзал, они узнали, что боёв никаких не будет. В Омске их встречала уже Красная Армия.
В холодных теплушках размещались, кто как мог: по трое-четверо на лавках, придвигаясь поближе к буржуйкам. Здесь было много молодых парней, сидевших крепко обхватив руками свои пожитки и понурив обритые головы. Понимали ли они, что их, ни разу не державших в руках оружие, собираются отправить сразу на передовую? Наверное, нет. Но всем им было очень страшно. Их, совсем юных, вырвали в одночасье из дома, из материнских объятий и швырнули в тёмную неизвестность. Куда, зачем? Мужики в возрасте, уже повоевавшие в тех многочисленных войнах, что вела Россия с начала века, давно смирились со своей участью и, дымя крепким самосадом, вели невеселые разговоры. Железная дорога была заполнена составами, уходящими на восток. Поезд, везущий солдат на фронт, тащился еле-еле, то и дело останавливаясь на перегруженных составами путях, и стоял на месте часами. Ночь обещала быть долгой, наполненной тревожной неизвестностью. Но если бы только это…
Андрей взобрался на самую верхнюю полку, обернулся вдвое длинной шинелью и попытался уснуть. Но от холода и тревожных мыслей сон не шёл. И вдруг он ощутил, что все его тело горит жгучим огнём! Как будто всю кожу ему палили раскалёнными углями. Изо всех швов его просторной шинели устремились «на пир» тысячи голодных тифозных вшей. Андрей крутился и вертелся на досках, как мог, стараясь не подавать вида, что с ним творится. Но в теплушке, видимо, все новобранцы испытывали то же самое, что и он. С проклятьями они вскакивали с лавок, скидывая заражённые вшами шинели в самый дальний и холодный угол вагона. Многие остались стоять, не решаясь сесть вновь. Ребята чесали головы и бока, проклиная и войну, и армию, и тех, кто лишил их привычной жизни и свободы. Русский народ-то завсегда чистоплотный и набожный, а уж субботняя баня – важное действо даже у самых бедных. Не пристало русскому человеку идти в воскресенье в церковь немытому и в грязном белье. Спали дома частенько на лавках, на рогожах, на печи под тулупами, но мылись и ходили в чистом. Русским бабам даже в морозы приходилось полоскать бельё в проруби, в ледяной воде. Но чистая рубаха после бани была в семье у каждого.
Андрей подумал о том, что не успел перед дорогой сходить в баню. Страшно чесалась саднящая от укусов кожа, и очень хотелось спать. Но ложиться снова на полку он не отважился, повесил мешок с провизией наискось через грудь и привязал к поясному ремню – не знаешь, что ещё ждёт впереди. Так и стоял Андрей у окна, прислонившись лбом к холодному стеклу, и, закрыв глаза, думал свою горькую думу: «Что дальше? Воевать? Против кого? Кто враг? Я и в глаза не видел, не знаю, кто они такие эти „красные“? Поговаривают, что такие же, как и мы, крестьяне. Против дворян и царя воюют. Так почему же я должен идти и убивать их?» – Тут он ясно вспомнил распростертое на снегу тело своего соседа Ивана, не пожелавшего отдать хлеб белогвардейцам. Вспомнил его закатившиеся глаза и густое алое пятно, растёкшееся на груди.
– Что же это!? Вот так убивать! Нипочём не буду! Не могу! Не хочу! Дом же у меня! А там ждут жена, отец, родные! – И ему вдруг так ясно вспомнились колышущиеся от ветра духмя?ные[23 - Духмя?ные – пахучие (устар.)] травы на лугах, где они с отцом косили сено, тихая речка с горячим от солнца песком на берегу, их с Варей долгие вечера на заимке вдвоём… Тогда Андрей ещё не знал, что привычный ему мир давно и бесповоротно полетел в тартарары. А новый мир уже рождался в крови и муках, в совершенно непонятной и страшной ненависти человека к человеку. Жизнь только-только начиналась, и вдруг ему почему-то нужно умереть! Или хуже – убить кого-то! «Господи!» – закричала его душа, и впервые за долгое время он вспомнил о Боге. Прежде он редко задумывался о вере, чужды ему были молитвы и церковные обряды.
«Против совести это, – думал Андрей, – когда наш деревенский дьячок, вечно пьяный, сквернословящий, с красной лоснящейся рожей говорит о вере в Бога. Когда батюшке, церковному старосте, несут люди „откуп“ от грехов в виде поросят, караваев, сала и лукошек яиц. Да и деньги щедро сыплют в церковную казну». Не раз и его отец жертвовал на церковь – то забор подправить, то купола покрасить, но сам говаривал, что священник хоть и служит в церкви, а всё ж человек такой же грешный. Не принимал этого Андрей и до конца жизни не принял неправедности и лицемерия церковных служителей. Но вот сейчас, когда возбуждённый мозг не подсказывал выхода, не находил верного решения, душа его устремилась с мольбой к тому единственному, чьё имя было – Спаситель! К тому, чей грустный лик освещала лампадка в Красном углу их горницы. Он неведомый, но всесильный! К нему впервые в те тяжёлые минуты обратил Андрей свои мятущиеся чувства и мысли. «Помоги, Господи! Отче наш…» – вдруг откуда-то из самой глубины сердца возникла полузабытая молитва.
Андрей обессиленно присел на край полки, натянув свой треух по самые глаза. Сюда, к нему в уголок теплушки жар от печки почти не доходил. Колёса поезда спокойно и мерно стучали, укачивали… Но тут Андрею послышались звуки быстрых шагов и приглушённые голоса. Он поддёрнул треух на лоб и увидел людей, небольшими группками потянувшихся в холодный прокуренный тамбур. С соседней лавки осторожно, стараясь не шуметь, поднялся седой мужик. Лицо его по самые глаза заросло лохматой разбойничьей бородой, через всю правую щеку, рассекая бровь, тянулся давнишний шрам. Андрей невольно отодвинулся от соседа в тень, но тот вдруг тронул его за плечо:
– Чего испужался? – мужик невесело усмехнулся. – Я ж такой, как ты, новобранец. Две войны, почитай, прошёл, три пули в груди сидит, а всё новобранец! Да-а! – Мужик закашлялся табачным дымом. – Послушай, хлопчик! Ты тут на самом сквозняке сидишь. Иди-ка поближе к печке, погрейся! Ишь, пальцы-то совсем побелели…
– Не хочу! – из горла Андрея раздался только хриплый шёпот. Мужик старался в полутьме разглядеть его лицо:
– Э-э! Да ты, кажись, совсем еще молоденький! Необстрелянный птенец желторотый! Да не обижайся, сынок! Вижу я, что тебе совсем худо. Дома-то понятно, отец, мать? А поди и жинка уже имеется?
Андрей горестно мотнул головой.
– Я-то старый солдат. Пока воевал, жена деток-то схоронила, а вот давеча и сама померла. Один я, как в поле ветер. Терять мне нечего. Не всё ли равно, где схоронят? А ты чего ждёшь-то от этой войны? – Мужик наклонился ниже и, подтолкнув Андрея к двери, совсем тихо добавил: – Колчаку уже конец, точно. Прибудем в Омск к шапошному разбору. Красная-то армия не то, что на пятки наступает, а в затылок дышит! Офицеры здесь давеча шушукались – зачем мол эта суета? Давно в Китай надо было подаваться. И нам бежать нужно, слышь? Красные, они ребята на расправу скорые – шлёпнут, и поминай, как звали! Гляди, парни-то в тамбур подтягиваются. Скоро станция, могёт, успеем спрыгнуть, на тормозах-то. А как спрыгнем, так нужно сигать в разные стороны, да в лес, в лес! Я дам знак. Давай, сынок, живы будем, не помрём!
«Бежать! Точно бежать!» – Андрей осознавал, что поезд ещё не успел отойти слишком далеко от города, а значит, по рельсам можно вернуться домой. Он начал лихорадочно думать, лицо горело от волнения, и решимость его становилась всё сильнее. В эту самую минуту Андрей почувствовал, что поезд начинает притормаживать. Мужик со шрамом быстро подался вперёд и потянул его за собой к дверям: «Давай! С Богом!»
Затянув потуже подпоясанную ремнем бабушкину телогрейку, Андрей спрятал в карманы рукавицы, проверил на месте ли нож за голенищем валенок и вышел в тамбур. Пока прапорщик с охраной попивали чаёк в тёплом купе, новобранцы горохом посыпались со ступенек вагона в гудящую снежную мглу.
Поезд шёл всё медленнее, вот уже сквозь щели в вагоне потянуло дымком от пристанционных изб, показались неяркие огни. «Сейчас!» – решил Андрей. Он выглянул из вагона и увидел стремительно летящую вдоль рельс полосу заснеженной земли. В страхе Андрей отшатнулся назад в тамбур. В нос ему ударил кислый запах прелой соломы, он снова почувствовал затхлую темноту вагона, и на него навалилась беспросветная дикая тоска. «Что же делать?» Кровь в висках стучала колоколом: «Не могу! Не могу!» Скрип тормозов резанул слух: поезд останавливался, дальше медлить было нельзя. Ещё несколько мгновений Андрей вглядывался в чёрный проём двери и наконец… «Прыгай!» – крикнул он сам себе.
Оттолкнувшись от ступеньки и повинуясь какому-то внутреннему инстинкту, он прыгнул вперёд, как прыгали они когда-то на спор с ребятами с несущихся по снежному полю саней. Упал и покатился вниз по насыпи под откос. Глубокий снег спас его от удара о землю, но забился за шиворот, в рукава и даже под телогрейку. Отплёвываясь и пытаясь открыть глаза, Андрей сразу же почувствовал, как ночной холод начинает пробирать его до костей – шинель-то осталась в вагоне! Андрей силился подняться, но тщетно. Глубоко, по самый пояс увязая в снегу, он какое-то время полз на четвереньках, пока не увидел перед собой черневший под косогором лес. Встал, держась за голый березовый ствол, повернулся спиной к ушедшему поезду и посмотрел на запад: там, в холодной, заснеженной дали ждал его родной дом. Дом, в который он обязательно должен вернуться.
Глава 9
Продержаться бы до зари… Отойдя подальше от железной дороги, так, что уже не стало слышно гудков станционных паровозов, Андрей почувствовал, что закоченел до бесчувствия, и все его тело налилось невероятной усталостью. Телогрейка, надетая на тонкую гимнастерку, нисколько не спасала от мороза. Потом страшно захотелось спать! Ноги проваливались в сугробы. «Только бы немного поспать…» Он забрался под ветви огромной ели и упал на снег, свернувшись клубочком, и почувствовал, что засыпает. Но Андрей не был бы крестьянским сыном, если бы позволил себе умереть вот так, замёрзнув в лесу. Он вдруг весь встряхнулся, вскочил и, вытащив из-за голенища нож, сжал его негнущимися от холода пальцами и принялся рубить ветки ели. Соорудив что-то вроде шалаша и набросав на снег мягкого лапника, он кое-как нащупал в кармане телогрейки коробок спичек. «Спасен! Спасен! Ах, Варюша, жёнушка ты моя дорогая! Догадалась положить, заботливая ты моя!» Счастливый, он осторожно поджёг кучку сухих веток, травы и листьев и, быстро набрав огромную кучу хвороста, развёл костёр у самого входа в шалашик. Совсем обессилев, Андрей заполз внутрь своего укрытия. «Только не засыпать сразу, иначе замёрзну!» Теперь он понял, что его трясёт ещё и от голода, ведь он ничего не ел со вчерашнего дня! С трудом развязав зубами крепкий узел котомки, Андрей достал из неё краюху хлеба, сало и стал есть. Он ел, закрыв глаза, и блаженно улыбался, чувствуя, как живительное тепло костра постепенно проникает в его уставшее, промёрзшее до костей тело. Его неумолимо клонило в сон, отяжелевшие веки смыкались, но он продолжал жевать, зная, что сытная еда в желудке не даст ему замёрзнуть. Наконец, проглотив последний кусок, Андрей зачерпнул пригоршню чистого снега, собрал губами с ладони несколько белых холодных комочков и, подбросив в костёр побольше хвороста, провалился в глубокий сон.
Проснулся Андрей, когда солнце было уже высоко, а на лапах елей в ярком свете искрился ослепительно белый снег. Костёр уже совсем догорел и остыл. Почему же ему так жарко, так невыносимо жарко? Голова Андрея под тёплым треухом вся пылала, тело же, наоборот, сотрясалось от сильного озноба, зубы стучали. «Что со мной? Неужто я так замёрз ночью?» Кое-как он выполз наружу, волоча за собой свою котомку и с трудом поднялся на ноги. Через силу Андрей заставил себя двигаться вперёд, совсем не понимая, куда и зачем идёт. Перед его глазами плыли разноцветные круги, во рту пересохло, ноги подкашивались. Через каждые несколько шагов он падал на колени, и поднимался ценой невероятных усилий. Вдруг ему показалось, что он слышит собачий лай. Лес впереди стал реже, и прямо перед собой в просвете между еловыми стволами, Андрей увидел широкую поляну, плотно окруженную лесом. Посреди поляны раскинулся просторный двор с крепкой избой, рубленой из огромных сосновых бревен. По двору ходила женщина в меховой кацавейке[24 - Кацавейка – верхняя распашная короткая кофта (устар.)] и звонким голосом созывала кур к корытцу с зерном. Андрей попытался сделать еще несколько шагов вперёд, но тут же ощутил, как его снова обдало сильным жаром, а в глазах потемнело. «Тётенька, тётенька! Помогите!» – едва слышно просипел он хриплым голосом и упал на снег.
Очнулся Андрей от яркого света: у изголовья его лежанки горела свеча, а миловидная женщина обтирала мокрым полотенцем его лоб и плечи.
– Пить! – застонал Андрей, заметавшись на подушке.
– Попей, попей, горемычный! – женщина, приподняв ему голову, поднесла к его губам кружку с травяным отваром. Он тут же стал жадно глотать горький напиток и, выпив всё, что было в кружке, бессильно повалился на топчан[25 - Топчан – вид деревянной кровати без спинок]. Уже вторые сутки Андрей, горящий в тифозном жару, лежал без сознания в кухонном чуланчике той самой лесной избы, хозяйка которой с трудом притащила его из леса в дом. Муж её – лесничий Фёдор уехал на несколько дней объезжать свои лесные угодья, а она с детишками оставалась на хозяйстве. Покормив кур, женщина уже собиралась идти в избу, как вдруг не то услышала, не то почувствовала, что кто-то её зовёт. Обернувшись, она только и успела увидать, как Андрей рухнул в сугроб, взметнув облако снега.
– Уж как ты меня испужал-то! – приговаривала Авдотья, укрывая его тулупом. – Да уж ладно, лишь бы не помер! Обмундированье твоё вонючее да вшивое я в печке сожгу. И постелю эту сожгу, как Фёдор приедет. Самой-то мне второй раз тебя уж не поднять – надорвусь совсем! Ты хоть и хворый, а вон тяжеленный какой! Ну, спи, спи! Уже лучше! Раз потеешь, да сыпь по телу пошла, значит, выдюжишь. Ох, грехи наши тяжкие, что ж это деется? – Она со вздохом поднялась с маленькой скамеечки. Тут вдруг пламя свечи в её руке затрепетало от ворвавшегося в избу холодного воздуха, и чьи-то сапоги затопали по половицам.
– Никак незваные гости к нам? – забеспокоилась Авдотья и быстро вышла в кухню, поплотнее задернув за собой занавеску чуланчика.
В кухне уже топтались двое солдат, заглядывали в закут и в печь, где пылал огонь. За ними вошёл высокий молодой офицер в тёплом бешмете и шерстяном башлыке поверх фуражки. На ногах у офицера были щеголеватые фетровые бурки. Весь его вид – худое аристократичное лицо, тонкие усики над верхней губой и холодные серые глаза, говорили о том, что он, вероятно, человек благородного происхождения и высокого воинского звания. Эта война была его первой военной компанией и оказалась такой неудачной. Ему явно было не по душе очутиться в местах столь диких, да ещё и в окружении таких же, по его мнению, диких людей с их ужасными нравами. На лице офицера читалось презрительное высокомерие. Не удосужившись взглянуть на хозяйку, он отдал приказание адъютанту, как будто находился не в крестьянской избе, а в своём имении:
– Распорядись подавать обед!
Адъютант, обведя быстрым взглядом избу и увидев Авдотью, грубо прикрикнул на неё:
– Ну, что встала, баба? Не слышала, что Его благородие приказали?
Женщина всплеснула руками.
– Так нету, барин, обеда, не стряпалась еще!
– Подавай, что есть! Дура!
Хозяйка засуетилась у печи, достала чугунок с картошкой, поставила на стол капусту, нарезала ломтями сало и ржаной хлеб. С печи за ней любопытными глазёнками наблюдали ребятишки, проснувшиеся от громких голосов.
– Что такое? – возмутился адъютант, оглядываясь на офицера. – Свиньям такое подавать будешь! Неси мясо и водку!
– Нету, барин, водки! Намедни, когда ваши-то солдаты, ну, или чьи они, сейчас пойми-разбери! Так вот, говорю, солдаты заехали и последнюю чекушку вылакали! На Рождество оставляла. – Авдотья вздохнула. – И бочонок огурцов, и пол поросенка, и еще…
– Заткнись, баба! – заорал адъютант. – Заголосила! Всё тащи на стол, что есть.
– Tais-toi[26 - Tai-toi! – Замолчи! (франц.)], Серж! – Офицер, усевшись на лавку, снял башлык и перчатки и тут же откусил приличный кусок хлеба, положив на него белоснежный ломоть сала. Видно, голод – не тётка! Куда только девалась его напыщенность? Тонкими пальцами он держал деревянную ложку и, орудуя ею не хуже серебряного прибора, отправлял в рот капусту с картошкой. Он брал двумя пальцами соленый огурец, с хрустом откусывал от него, жевал и, прикрыв от удовольствия глаза, мечтательно говорил адъютанту: – Mon amie![27 - Mon amie! – Мой друг! (франц.)] В Омске сразу же возьмём извозчика, и на Любинский! В «Европу»! Ох, и хороша у господина Малахова икорка и стерляжья уха! А какие перепела! И обязательно возьмем бутылочку Bordeaux[28 - Bordeaux – Бордо, сорт красного французского вина]! — Офицер даже причмокнул губами. От сытного обеда и печного тепла его разморило, и, неожиданно подобрев, он повернулся к Авдотье: – Спасибо хозяюшка! Всё так вкусно у вас! Да и в доме чисто! – Он удивленно приподнял брови, а, увидев детей на печи, расплылся в улыбке: – Quels beaux enfants![29 - Quels beaux enfants! – Какие красивые дети! (франц.)]
Довольный и сытый, офицер уже поднялся из-за стола, как вдруг из чулана за печью раздался протяжный стон.
– Кто это там? – он резко повернулся к адъютанту, и взгляд его сразу стал напряженным и жёстким. – Проверить, быстро!
– Так, хозяйка, – солдат, стоявший у печи, штыком винтовки осторожно отодвинул занавеску, – и кто же это тут у тебя на перине развалился? – В полумраке он пристально приглядывался к Андреевой гимнастерке.
– Да это сынок мой болезный! Жар у него! – жалостливо запричитала испуганная Авдотья. —
– Сынок? А не дезертир ли часом? – Солдат повернулся к офицеру: – Ваше благородие! Кажись, здесь беглый дезертир схоронился! Форма-то на нём наша! – Он подошёл ближе к Андрею и спросил: – Он тут беспамятный вроде, что делать-то?
– Расстрелять! – резко приказал офицер.
Солдаты выволокли Андрея из-за занавески и поставили к белёной печи. Голова его склонилась на грудь, руки безжизненно висели вдоль тела. Не простояв и пары секунд, он рухнул на пол. Солдат, вскинувший оружие наизготовку, опустил его, вопросительно взглянув на своего командира. Тот хладнокровно смотрел на Андрея, лежащего на полу.
– Солдат! Извольте исполнять приказание!
– Батюшка! Христом-Богом прошу! – заголосила Авдотья, упав на колени. – Не допустите смертоубийства в избе! Дети тут! Как же при них? Страх-то какой! Да и не жилец он! Второй день в жару мечется – тиф у него! Вон как всего обсыпало!
– Тиф! Что ж ты, дура, молчала? – Злые глаза офицера налились кровью, и он со всей силы стеганул женщину перчаткой по лицу. Брезгливо оттолкнув её от себя ногой, сквозь зубы приказал солдатам: – Кончайте его! Быстро!
Те снова вскинули винтовки и прицелились. Но видно не было написано Андрею на роду умереть в эту минуту, или ангел – хранитель решил на время отсрочить его смерть – в ту же минуту распахнулась тяжелая дверь избы, и в неё стремительно ворвался вестовой:
– Ваше благородие! Срочное донесение! Приказано немедленно явиться в ставку! Армия уходит из Омска!
– Распорядись тотчас седлать коней! – скомандовал офицер адъютанту. – Выступаем немедленно! – Уже подойдя к двери, он обернулся на лежащего у печи Андрея и потянулся к кобуре, но потом резко махнул рукой: – Аа-а! Чёрт с ним! – и кивнул солдатам: – Бросьте его! Сам сдохнет!
Но Андрей не умер. Спустя несколько дней он уже сидел на лавке в длинной холщовой рубахе, которая висела мешком на его исхудавшем теле. Перед ним на столе исходила паром миска мясных щей. Лесничиха Авдотья сожгла на дворе его солдатское обмундирование, а бабушкину телогрейку для надежности прокалила в бане на раскаленной печурке, чтоб уж наверняка избавиться от кусачей вшивой братии. Самому парню накануне вечером Авдотья начисто обрила голову мужниной опасной бритвой и заставила лезть в жарко-протопленное нутро большой русской печи. Лежа в печке на горячем каменном поду[30 - Под (печной) – поверхность внутри печи], устланном ароматным сеном, Андрей мечтал о том, как скоро окажется дома, вот только сможет на ногах стоять. Вымывшись в лохани с березовым щёлоком[31 - Березовый щелок – вода, настоянная на березовых углях], надев чистую рубаху и выпив кружку горячего молока с мёдом, он почувствовал, как к нему возвращаются силы, сильнее бежит по жилам кровь, и снова хочется жить.
Глава 10
Под вечер домой возвратился Фёдор, Авдотьин муж. Приехал лесник уставшим после многодневного объезда своих дальних участков. Вошёл в избу и увидел в кухне за столом чужака – тощего парня с бритой головой, да ещё и в его, Фёдора, рубахе и штанах. Одёжа, правда, была уже старая, латанная, перелатанная, но всё же! Фёдор молча поставил пимы на печь, молча умылся у рукомойника, вытер лицо поданным женой суровым[32 - Суровое полотенце – полотенце из плотной льняной ткани (устар.)] полотенцем, и также молча сел за стол. Раздал ребятишкам привезенные гостинцы – леденцы на палочках, что у купца Прихватова в лобазе[33 - Лобаз – склад (устар.)] купил. Повертев в руках ложку и сурово насупив лохматые брови, наконец произнёс:
– Ну, рассказывайте, чего это у вас туточки приключилось? На деревне, пока я у купца Прихватова припасы брал, бабки мне все уши прокричали, что Авдотья моя у себя дезертира сховала[34 - Сховала – спрятала (устар.)]
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: