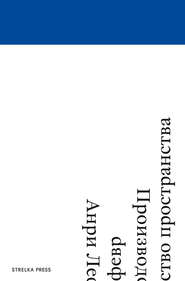скачать книгу бесплатно
Творчество Ж. Батая, как и творчество сюрреалистов, предстает сегодня в ином свете, чем при его жизни. Не стремился ли и он (среди прочих замыслов) также соединить пространство внутреннего опыта с материальным пространством природы (тем, что ниже сознания, – деревом, сексом, Ацефалом) и с социальным пространством (пространством коммуникации и речи)? Подобно сюрреалистам, но не через образный синтез, а иначе, Ж. Батай наметил переход между реальностью, подреальностью и сверхреальностью. Каким путем? Путем, который проложил вулканически-взрывной Ницше. Ж. Батай подчеркивает разломы, разверзает пропасти, вместо того чтобы заполнять их; затем случается вспышка взрывной интуитивной интенции, которая распространяется от края до края, от земли к солнцу, от ночи к дню, от жизни к смерти. Но и от логики к гетерологии, от нормального к гетерономному (стоящему далеко по ту и эту сторону аномичного). Пространство целиком – одновременно ментальное, физическое и социальное – понимается трагически. В нем есть центр и периферия, но центр обладает собственной трагической реальностью – реальностью жертвы, насилия, взрыва. И периферия тоже, по-своему.
В ту же самую эпоху один из теоретиков техники нащупывал унитарную теорию пространства, прямо противоположную теории сюрреалистов и Ж. Батая. Незаслуженно забытый Ж. Лафит возложил освоение физической реальности, познания, социального пространства на «механологию», общую науку о технических механизмах[25 - См. его «Рассуждения о науке о машинах», вышедшие в свет в 1932 году и переизданные в 1972-м (Lafitte J. Rеflexions sur la science des machines / Prеf. de J. Guillerme. Paris: Vrin, 1972).]. Ж. Лафит развил некоторые положения Маркса, сведенные воедино К. Акселосом[26 - Axelos K. Marx, penseur de la technique. Paris: Editions de Minuit, 1961.]. В его распоряжении не было необходимых элементов и концепций, он ничего не знал об информатике и кибернетике и, как следствие, о различии между информационными машинами и силовыми машинами. Тем не менее Ж. Лафит дорабатывает унитарную гипотезу со всей «строгостью», отличающей технократически-функционально-структуралистскую идеологию, причем эта строгость приводит его к самым рискованным положениям, к концептуальным построениям, достойным научной фантастики. Это технократическая утопия. Так, для объяснения истории автор вводит аналогию между «пассивными (то есть статичными) машинами» и архитектурой и растениями, тогда как «машины активные», более динамичные, более «рефлекторные», соответствуют животным. Исходя из этих понятий, Ж. Лафит выстраивает несколько эволюционных рядов, приводящих к заполнению пространства; он дерзко реконструирует генезис природы, познания, общества: «Через гармоничное развитие этих трех великих разломов, расходящихся и взаимодополняющих рядов»[27 - Ibid. P. 92 sq.].
Гипотеза Ж. Лафита стала предвестницей многих других, в том же духе. Это осмысление технического начала выводит на передний план лишь то, что эксплицировано, заявлено вслух, – не только рациональное, но интеллектуальное, – с порога отметая все побочное, гетерологичное, все, что кроется в практике, а заодно и ту мысль, которая выявляет скрытое. Как если бы на пространстве мысли и социальной жизни все сводилось к прямому и открытому, к «лицом к лицу».
I. 10
Если поиск унитарной теории пространства (физического, ментального, социального) действительно наметился уже несколько десятков лет назад, то почему и как от него отказались? Потому что он слишком объемен и возникает из настоящего хаоса представлений – либо поэтических, субъективных, спекулятивных, либо отмеченных печатью технического позитивизма? Или же потому, что он бесплоден?
Чтобы понять, что именно произошло, нужно вернуться к Гегелю, этой Площади Звезды с высящимся в центре философско-политическим монументом. В гегельянстве историческое Время порождает Пространство, в котором простирается и над которым властвует Государство. История реализует архетип разумного существа не в индивидууме, а в связной совокупности институций, групп и частичных систем (право, мораль, семья, город, ремесла и т. д.), занимающих национальную территорию, на которой господствует государство. Тем самым Время застывает и фиксируется в рациональности, имманентной пространству. Гегелевский конец истории не влечет за собой исчезновение продукта исторического развития. Напротив: этот продукт производства, движимого познанием (понятием) и направляемого сознанием (языком, Логосом), этот необходимый продукт утверждается как самодостаточный. Он длится в бытии своей собственной силой. Исчезает же история, превращающаяся из действия в память, из производства в созерцание. Время? В нем больше нет смысла, оно подавлено повторяемостью, циклично и подчинено неподвижному пространству, средоточию и среде воплощенного Разума.
После этой фетишизации пространства, пребывающего в услужении государства, философии и практической деятельности остается лишь попытаться восстановить время[28 - См.: Lefebvre H. La fin de l’histoire. Paris: Editions de Minuit, 1970, а также работы А. Кожева о Гегеле и гегельянстве.]. Насильно – у Маркса, который возвращает историческое время как время революции. Тонко, но из-за узкой направленности, абстрактно и неуверенно, – у Бергсона (психическая длительность, непосредственность сознания), в феноменологии Гуссерля («гераклитов» поток феноменов, субъективность Эго) и у целого ряда философов[29 - С которым связаны М. Мерло-Понти и Ж. Делёз (Deleuze G., Guattari F. Anti-Cdipe. Paris: Editions de Minuit, 1972. P. 114).].
В антигегелевском гегельянстве Д. Лукача пространство определяет овеществление, а также ложное сознание. Обретенное время, подчиненное классовому сознанию, которое, поднявшись до высшей точки, оттуда окидывает взором извивы истории, ломает первичность пространственного начала[30 - См.: Gabel J. La fausse conscience. Paris: Editions de Minuit, 1962. P. 193 sq., и, конечно, самого Д. Лукача: Lukacs G. Histoire et conscience de classe. Paris: Editions de Minuit, 1960.].
Только Ницше, единственный, поддержал примат пространства и проблематику пространственности: повторяемость, кругообразность, одновременность того, что видится разным во времени и рождается в разные времена. Каждая определенная форма, к чему бы она ни относилась – к психике, менталитету, социуму, – в своем становлении борется против потока времени, чтобы утвердиться и поддержать себя. Ницшеанское пространство больше не имеет ничего общего с пространством гегелевским, продуктом и отбросом исторического времени. «Я верю в абсолютное пространство как субстрат силы – эта последняя ограничивает и дает формы»[31 - Ницше Ф. Полное собрание сочинений. М.: Культурная революция, 2010. Т. 10. С. 176. (Здесь и далее звездочкой отмечены примеч. пер.)]. Космическое пространство содержит в себе энергию, различные силы, и действует через них. Как и пространство земное и социальное. «Где пространство, там бытие»[32 - См. сборник под (ошибочным) названием: Nietzsche F. Volontе de puissance / Trad. G. Bianquis. Paris: Gallimard, 1935 [Ницше Ф. Воля к власти. М.: Культурная революция, 2005]. Фрагмент на с. 315, 316 [545] и след.]. Трудность заключается в отношениях между силой (энергией), временем и пространством. Например, мы не можем ни помыслить некое единое начало (исток), ни воздержаться от мысли о нем. «Прерывное и последовательное совпадают», как только устраняется деятельность – которая, впрочем, абсолютно необходима, которая вводит различия и обозначает их. Любая энергия, любая сила проявляются только через их действие в пространстве, хотя любые силы «в себе» (но как может умственный анализ уяснить какую-либо «реальность» – энергию, время, пространство – «в себе»?) отличны от своих воздействий. Точно так же, как пространство у Ницше не имеет ничего общего с гегелевским пространством, так и время у Ницше – подмостки мировой трагедии, пространство-время смерти и жизни, цикличное, повторяющееся, – не имеет ничего общего со временем в марксизме: историчностью, движущейся вперед под действием производительных сил, верное (оптимистическое) направление которым задает промышленный, пролетарский, революционный разум.
Так что же происходит во второй половине ХХ века, которую «мы» наблюдаем своими глазами:
а) государство укрепляется в мировом масштабе. Оно давитна общество (на все общества) всем своим весом; оно планирует, оно «рационально» организует общество, опираясь на знания и технические достижения, навязывая аналогичные, если не гомологичные меры независимо от политических идеологий, исторического прошлого, социального происхождения людей во власти. Государство рушит время, поскольку сводит различия к повторениям, к цикличности (именуя их «равновесием», feed-back, «регулированием» и т. п.) Пространство, в полном соответствии с гегелевской схемой, доминирует. Современное государство видит – и навязывает – себя как окончательный центр стабильности обществ и пространств (национальных). Конец и смысл Истории, как и предугадал Гегель, оно спрямляет социальную и «культурную» реальность. Оно вводит царство логики, кладущее конец конфликтам и противоречиям. Оно нейтрализует все, что сопротивляется: кастрирует, разрушает. Социальная энтропия? чудовищный нарост, ставший нормой? Таков результат.
b) Тем не менее в этом пространстве кипят силы. Рациональность государства, технические методы, планы и программы вызывают протест. Ответом на насилие власти становится взрывное насилие. Войны и революции, поражения и победы, столкновения и вихри: современный мир отвечает трагическому видению Ницше. Государственная норма неизбежно вызывает ее постоянное нарушение. Время? Отрицание? Они возникают с вулканической силой. В них являет себя новое, трагическое отрицание – непрерывное насилие. Бурлящие силы срывают крышку с кастрюли – государства и его пространства. Различия еще не сказали своего последнего слова. Их побеждают, но они живы. И сражаются, порой жестоко, чтобы утвердить себя и преобразиться в этом испытании.
с) Рабочий класс тоже еще не сказал своего последнего слова; он движется своим путем, иногда подспудно, иногда не таясь. Не так легко избавиться от классовой борьбы, которая приняла многообразные формы, весьма отличные от упрощенной схемы, носящей это название и отсутствующей у Маркса, хоть на него и ссылаются ее носители. Вполне возможно, что противостояние рабочего класса и буржуазии не дойдет до антагонизма и остановится в смертельном равновесии, так что общество зачахнет, а государство будет гнить на месте или застынет в судороге. Вполне возможно, что мировая революция вспыхнет после латентного периода – или всепланетной войны в масштабах мирового рынка. Возможно… По всем признакам, трудящиеся в промышленно развитых странах встают не на путь бесконечного экономического роста и накопления и не на путь насильственной революции, ведущий к исчезновению государства, а на путь отмирания самого труда. Простой обзор возможностей показывает, что марксистская мысль не исчезла и исчезнуть не может.
Начинается сопоставление идей и гипотез Гегеля, Маркса, Ницше. Дело это нелегкое. Философская мысль, осмысление пространства и времени, распалась. С одной стороны, существует философия времени, длительности, тоже распыленная на частные суждения и ценности: историческое время, социальное время, психическое время и т. д. С другой – имеет место мысль эпистемологическая, выстраивающая свое абстрактное пространство и размышляющая над абстрактными (логико-математическими) пространствами. Большинство, если не все авторы вполне удобно устраиваются в ментальном (то есть неокантианском или неокартезианском) пространстве, доказывая тем самым, что «теоретическая практика» сужается до эгоцентричных рассуждений западного интеллектуала-специалиста и далее – до полностью обособленного (шизоидного) сознания.
Надо взорвать эту ситуацию. Надо продолжить сопоставление идей и предложений относительно пространства, которые проясняют современный мир, пусть даже они им и не управляют. Рассмотреть эти положения не как отдельно взятые идеи или гипотезы, не как «мысли», которые подлежат последующему изучению, а как фигуры-предвестницы, расположенные на границе современности[33 - Заявляя уже сейчас весь спектр мнений, приведу (без лишней иронии) некоторые источники: работы Чарльза Доджсона (псевдоним: Льюис Кэрролл), не столько «Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье», сколько «Символическая логика» и «Логическая игра»; «Игра в бисер» Германа Гессе, особенно страницы, посвященные теории игры и ее взаимосвязи с языком и пространством, пространству игры, Касталии – пространству, где идет игра; Герман Вейль, «Симметрия» (1952 [рус. пер. 1968]); Фридрих Ницше, «О философах», особенно фрагменты о языке и «Об истине и лжи во вненравственном смысле».Важное замечание: все тексты, которые мы цитируем выше и далее, обретают свой смысл лишь в связи с пространственной практикой и ее уровнями: планированием, «урбанизмом», архитектурой.]. Таков замысел этой работы о пространстве.
I. 11
Состоит ли наш замысел в единой критической теории существующего пространства, призванной заменить описания и членения, которые это пространство признают, а также критические теории общества вообще, политэкономии, культуры и пр.? Нет. Заменить технологическую утопию утопией негативной, критической, применительно как к пространству, так и к «человеку» и «обществу», уже недостаточно. Время критической теории, доведенной до опровержения и даже радикального протеста (либо «точечного», направленного против того или иного уязвимого «пункта», либо глобального), подошло к концу.
Нужно ли считать первоочередной задачей методичное разрушение кодов, относящихся к пространству? Нет. Перед нами стоит как раз обратная проблема. Коды эти, неотделимые от знания и социальной практики, давно уже размыты. От них остались одни лохмотья – отдельные слова, образы, метафоры. Главное событие прошло незамеченным, так что о нем приходится постоянно напоминать: около 1910 года пошатнулось пространство, общее для здравого смысла, науки, социальной практики, политической власти, пространство, служащее содержанием как повседневной речи, так и абстрактной мысли, среда и канал сообщений, пространство классической перспективы и геометрии, разрабатывавшееся со времен Ренессанса на основе греческого наследия (Евклида и логики) силами западного искусства и философии и встроенное в город. Оно получает столько ударов, подвергается таким нападкам, что с большим трудом сохраняет некую педагогическую реальность в рамках консервативного образования. Евклидово пространство, пространство перспективы исчезает как референт вместе с другими общими местами (городом, историей, родством, тональной системой в музыке, традиционной моралью и т. д.) Переломный момент. Между тем нетрудно понять, что евклидово пространство «здравого смысла» с его перспективой, равно как и алгебра и арифметика, как грамматика и ньютонова физика, не могут исчезнуть в единый миг, не оставив следов в сознании людей, в науке и педагогике. Дело не в том, чтобы разрушить коды во имя некоей критической теории, а в том, чтобы объяснить их разрушение, выявить его результаты и (быть может) с помощью теоретического перекодирования создать какой-то новый код.
Контуры намеченной выше операции – не подменить господствующую тенденцию, а перевернуть ее – становятся более четкими. Как и во времена Маркса (это мы подробно покажем, если не докажем, ниже), поворот этот заключается в переходе от продуктов (изученных вдоль и поперек, описанных и пересчитанных) к производству.
Подобная инверсия тенденции и смысла не имеет ничего общего с конверсией означаемых в означающие, которая осуществляется во имя интеллектуалистской заботы о «чистой» теории. Уход от означаемого, вынесение за скобки «выразительного», обращение только к формальным означающим предшествовали развороту тенденции, направленной от продуктов к производственной деятельности. Все эти приемы лишь симулируют ее, сводя к последовательности абстрактных воздействий на язык и, в конечном счете, на литературу.
I. 12
(Социальное) пространство есть (социальный) продукт. На первый взгляд это утверждение близко к тавтологии, то есть к очевидности. Однако, прежде чем его принять, его стоит изучить подробнее, рассмотреть его импликации и следствия. Мало кто согласится с тем, что при современном способе производства и в «действующем обществе», каково оно есть, пространство обрело своего рода собственную реальность, наряду с (и в рамках того же всемирного процесса) товаром, деньгами, капиталом, только иначе. Другие, столкнувшись с этим парадоксом, потребуют доказательств. Тем более что произведенное таким образом пространство служит орудием как мысли, так и действия, является одновременно как средством производства, так и средством контроля, а значит, господства и власти – но при этом не вполне подвластно тем, кто его использует. Социально-политические (государственные) силы, породившие его, пытаются завладеть им, но безуспешно; те же, кто подталкивает пространственную реальность к специфической, не поддающейся господству автономии, стремятся исчерпать ее, зафиксировать и подчинить себе. Является ли это пространство абстрактным? Да, но в то же время и «реальным», как товар и деньги, эти конкретные абстракции. Является ли оно конкретным? Да, но иначе, нежели какой-либо предмет или продукт. Является ли оно инструментом? Безусловно, но, как и познание, выходит за пределы инструментального. Сводится ли оно к проекции, к «объективации» некоего знания? И да и нет: знание, объективированное в продукте, уже не тождественно теоретическому познанию. Пространство содержит социальные отношения. Каким образом? Почему? Какие именно?
Отсюда – необходимость тщательного анализа и пространного обобщающего изложения. С введением новых идей, и прежде всего идеи разнообразия, множественности пространств, отличной от фрагментации и бесконечного деления. Причем в ходе того, что именуется «историей» и что отныне получает новое освещение.
Перестав смешиваться с пространством ментальным (получающим определение у философов и математиков), с пространством физическим (получающим определение в чувственной практике и восприятии «природы»), социальное пространство обнаруживает свою специфику. Следует показать, что это социальное пространство представляет собой не набор вещей, не сумму (чувственных) фактов и тем более не пустоту, заполненную, подобно обертке, разными веществами; что оно не сводится к «форме», приданной явлениям, вещам, физической материи. Социальный характер пространства, заявленный здесь как предварительная гипотеза, получит подтверждение в дальнейшем изложении.
I. 13
Что скрывает истину (социального) пространства, а именно то, что оно является (социальным) продуктом? Двойная иллюзия, каждая из сторон которой отсылает к другой, подкрепляет другую и прикрывается ею: иллюзия прозрачности и иллюзия непрозрачности («реалистическая» иллюзия).
а) Иллюзия прозрачности. – Пространство? Светлое, умопостигаемое, оно открывает простор для действия. То, что совершается в пространстве, приводит мысль в восхищение: это ее собственное воплощение в некоем замысле (dessein) – или рисунке (dessin): фонетическая близость этих слов полна смысла. Замысел служит верным посредником между умственной деятельностью, которая его изобретает, и социальной практикой, которая его реализует; замысел воплощается в пространстве. Иллюзия прозрачности смешивается с иллюзией невинности пространства: в нем нет ни ловушек, ни глубинных тайников. Все скрытое, потайное, а значит, опасное противостоит прозрачности, проницаемой для умственного взора, освещающего то, что он созерцает. Беспрепятственное понимание якобы переносит то, что воспринимает, свой объект, из темных областей в освещенные; оно перемещает объект, либо пронизывая его насквозь лучом света – либо превращая, с некоторыми предосторожностями, из темного в ясный и светлый. Тем самым пространство социальное и пространство ментальное, то есть пространство осмысленных и выраженных в речи мест (топики), будто бы почти совпадают. Как так получается? Силой какой магии? Все зашифрованное якобы легко расшифровывается благодаря вмешательству речи, а затем письма. Утверждают и верят, что расшифровка происходит в силу простого перемещения и освещения, благодаря перемене места, топологической модификации.
Зачем провозглашают равнозначность познанного и прозрачного в пространстве? Это постулат неявной идеологии, возникшей из классической философии; идеология эта, примешанная к западной «культуре», высоко ценит речь и еще выше – письмо, в ущерб социальной практике, которую она затемняет. Фетишизму речи, идеологии слова отвечают фетишизм и идеология письма. Одни полагают, эксплицитно или имплицитно, что речь развертывается при свете коммуникации, выявляет все скрытое, заставляет его обнаружить себя либо осыпает жестокими проклятиями. Для других одной устной речи недостаточно; необходимо испытание письмом, дополнительной операцией, источником проклятий и сакрализации. Акт письма, помимо своих непосредственных следствий, предполагает наличие научной дисциплины, способной уловить «объект» посредством «субъекта», для «субъекта» – того, кто пишет и говорит. В обоих случаях слово и письмо принимают за (социальную) практику; считается, что все абсурдное и неясное, идущее рука об руку, рассеивается, а «объект» при этом не исчезает. Коммуникация переносит объект из сферы не сообщенного (несообщаемое существует лишь в виде остатка, за которым идет вечная охота) в сферу сообщенного. Таковы основные постулаты идеологии, утверждающей прозрачность пространства и отождествляющей познание с информацией и коммуникацией. Поэтому на протяжении довольно долгого периода считалось, что революционное преобразование может совершиться через коммуникацию. «Все сказать!» «Непрерывное слово! Все написать! Письмо преобразует язык, а значит, и общество… Письмо как значащая практика!» С этих пор революцию стремились отождествлять с прозрачностью.
Иллюзия прозрачности оказывается – если вернуться на миг к старинному языку философии – иллюзией трансцендентальной: это приманка, действующая благодаря своей едва ли не магической силе, своим алиби, своим маскам, но одновременно отсылающая к другим приманкам.
b) Реалистическая иллюзия. – Иллюзия наивности и наивных; ее по разным поводам и под разными названиями – натурализм, субстанциальность – разоблачили философы, теоретики языка. Согласно философам старого доброго идеалистического направления, доверчивость, присущая обыденному сознанию, приводит к ошибочному убеждению: «вещи» в большей степени обладают бытием, нежели «субъект», его мысль, его желание. Отказ от этой иллюзии открывает доступ к «чистой» мысли, Духу, Желанию. Что возвращает нас от иллюзии реалистической к иллюзии прозрачности.
С точки зрения лингвистов, семантиков, семиологов, предел наивности – допускать «субстанциальную реальность» языка, тогда как он определяется формой. Естественный язык считается «мешком со словами»; простодушные верят, что можно поймать в мешке одно-единственное слово, соответствующее данной вещи, ибо каждому «объекту» отвечает подходящее слово. В процессе любого чтения воображаемое и символическое, пейзаж, горизонт, обрамляющий путь читателя, иллюзорно принимаются за «реальность», поскольку истинные характеристики текста, его значащая форма и символическое содержание, ускользают от бессознательной наивности (стоит отметить, что эти иллюзии доставляют «наивным» удовольствия, которые развеиваются знанием, развеивающим иллюзии! Наука подменяет невинное наслаждение естественностью, реальной или вымышленной, удовольствиями утонченными, изощренными, хоть и не доказано, что они слаще).
Иллюзия субстанциальности, естественности, непрозрачности пространства творит собственную мифологию. Художник, работающий с пространством, действует в жесткой или плотной реальности, прямиком восходящей к Матери-Природе. Это скорее скульптор, чем живописец, скорее архитектор, чем музыкант или поэт; он трудится над материей, которая сопротивляется ему или ускользает от него. Пространство, если это не пространство геометра, обладает физическими свойствами и качествами земли.
Первая иллюзия, иллюзия прозрачности, сближается с философским идеализмом, тогда как вторая – с материализмом (натуралистическим и механистическим). Однако эти иллюзии не сражаются между собой на манер философских систем, замыкающихся в себе, словно в броне, и старающихся уничтожить друг друга. Каждая из этих иллюзий содержит в себе другую и поддерживает ее. Поэтому переход от одной иллюзии к другой, мерцания, колебания не менее важны, чем каждая из них по отдельности. Символика, восходящая к природе, затемняет рациональную ясность, обусловленную самой историей Запада, его обретенным господством над природой. Кажущаяся светопроницаемость, подхваченная клонящимися к упадку темными историческими и политическими силами (государством, нацией), возвращается к образам, идущим от земли и природы, от отцовства, от материнства. Рациональное превращается в природное, а природа облачается в покровы ностальгических чувств, подменяющих разум.
I. 14
Предваряя дальнейшее изложение, можно уже теперь в качестве программы перечислить некоторые импликации и следствия нашего изначального предположения: (социальное) пространство есть (социальный) продукт.
Первая импликация: пространство-природа (физическое) все больше отдаляется. Необратимо. Конечно, оно было и остается общей отправной точкой: истоком, origo социального процесса, быть может, основой любой «оригинальности». Конечно, оно не просто исчезает со сцены. Оно сохраняется как фон картины, как декорация и нечто большее, чем декорация; каждая деталь, каждый природный объект обретает символическую ценность (любое, самое ничтожное животное, дерево, трава и т. д.). Исток и источник, природа, отфильтрованная памятью, подобно детству и непосредственности, сопровождает нас везде и всюду. Кому не хочется ее защитить, спасти? Вернуться к подлинному? Кто хочет ее уничтожить? Никто. И тем не менее все и вся наносят ей вред. Пространство-природа удаляется, превращаясь в горизонт для тех, кто оборачивается назад. Оно ускользает от мысли. Что такое Природа? Как уловить ее облик до вторжения, до вмешательства людей с их орудиями опустошения? Природа, могучий миф, превращается в вымысел, в негативную утопию: отныне она всего лишь сырье, которое обрабатывали производительные силы различных обществ, производя свое пространство. Она, конечно, сопротивляется, ее глубина бесконечна, но она побеждена, она отступает, разрушается…
I. 15
Вторая импликация: каждое общество (а значит, каждый способ производства со всеми вариациями, которые он включает, и отдельными обществами, отражающими это общее понятие) производит некое пространство, свое пространство. Античный полис нельзя понять как некий набор людей и предметов в пространстве; тем более его нельзя помыслить, опираясь на какое-то количество текстов и речей о пространстве, даже если некоторые из них, например «Критий» и «Тимей» Платона или книга А аристотелевской «Метафизики», содержат незаменимые сведения. У полиса была своя пространственная практика; он сформировал свое, то есть присвоенное, пространство. Отсюда – еще одна настоятельная необходимость: изучить это пространство как таковое, его генезис и форму, его время или особые формы времени (ритмы повседневной жизни), его центры и полицентризм (агора, храм, стадион и т. д.).
Мы упомянули греческий полис лишь для того, чтобы наметить путь. В принципе, каждое общество, имеющее собственное пространство, дает нам этот «объект» анализа и общего теоретического осмысления. Каждое общество? Да, поскольку каждый способ производства включает определенные производственные отношения, с существенными вариантами. Здесь не обойтись без трудностей; многие из них проявятся далее. Будут возникать препятствия, провалы, пробелы. Что мы, европейцы, оперирующие западными понятиями, знаем об азиатском способе производства, о его пространстве, его городах, отношениях между городом и деревней? Известны ли нам иероглифы, в которых, судя по всему, изображены и выражены эти отношения?
Вообще говоря, само понятие «социальное пространство» с трудом поддается анализу – в силу своей новизны, в силу сложности той реальности и тех форм, какие оно обозначает.
Социальное пространство содержит – отводя им (более или менее) подходящее место – социальные отношения воспроизводства, то есть биофизиологические отношения между полами и возрастными группами, вместе с особым устройством семьи; а также производственные отношения, то есть разделение труда и его организацию, а значит, иерархию социальных функций. Два этих процесса, производство и воспроизводство, не существуют по отдельности: разделение труда отражается на семье и закрепляется в ней, а устройство семьи, наоборот, пересекается с разделением труда; однако в социальном пространстве эти виды деятельности различаются и «локализуются». Не без проблем!
Точнее говоря, вплоть до эпохи капитализма эти уровни – биологического воспроизводства и социально-экономического производства – пересекаются, охватывая тем самым социальное воспроизводство, воспроизводство общества, сохраняющего себя в череде поколений, несмотря на конфликты, столкновения, борьбу и войны. Пространство играет в этой последовательности решающую роль, и это нам предстоит показать.
С приходом капитализма и особенно «современного» неокапитализма ситуация усложняется. Пересекаются уже три уровня: уровень биологического воспроизводства (семья), уровень воспроизводства рабочей силы (рабочего класса как такового) и уровень воспроизводства социальных производственных отношений, то есть основополагающих отношений капиталистического общества, к которым все сильнее (и успешнее) стремятся и которые навязываются как таковые. Роль пространства в этом трояком устройстве следует изучать особо.
Дополнительная сложность ситуации состоит в том, что пространство включает также определенные репрезентации этого двоякого или троякого взаимодействия социальных отношений (производства и воспроизводства). Оно поддерживает их сосуществование и связность с помощью символических репрезентаций. Оно выставляет их напоказ, перенося – а значит, символически скрывая – в план Природы, то есть действует с ее помощью. Репрезентации отношений воспроизводства состоят в сексуальной символике, символах мужского и женского начала, с добавлением (или без добавления) символики возрастной – молодости или старости. Символизация эта больше скрывает, чем показывает, тем более что эти отношения распадаются на связи прямые, публичные, гласные, а значит, кодированные, и связи тайные, подпольные, подавляемые и тем самым определяющие различные отклонения; в частности, относящиеся не столько к полу как таковому, сколько к сексуальному наслаждению, со всеми его условиями и последствиями.
Итак, пространство содержит все это множество пересечений, для каждого из которых установлено свое место. Что же касается репрезентаций производственных отношений, включающих в себя отношения власти, то они также реализуются в пространстве; пространство содержит их репрезентации в зданиях, памятниках, произведениях искусства. Прямые, то есть зачастую грубые, связи не вполне лишены потаенных, подспудных аспектов; не бывает власти без пособников и без полиции.
Тем самым обозначается триединство, к которому еще не раз будем возвращаться:
а) пространственная практика, включающая в себя производство и воспроизводство, отведенные места и пространственные множества, присущие каждой общественной формации, обеспечивающей последовательность и относительную связность. Применительно к социальному пространству и отношениям каждого члена данного общества со своим пространством эта связность предполагает одновременно определенную компетенцию и определенную перформацию[34 - Заимствование этих терминов из лингвистики (Н. Хомский) не означает, что теория пространства подчинена лингвистике.];
b) репрезентации пространства, связанные с производственными отношениями, с «порядком», который они устанавливают, и тем самым – со знаниями, знаками, кодами, «прямыми» отношениями;
с) пространства репрезентации, предлагающие сложную (кодированную и нет) символику, связанную с потаенной, подпольной стороной общественной жизни, а также с искусством, которое в данном случае можно определить не как код пространства, но как код пространств репрезентации.
I. 16
В реальности социальное пространство «инкорпорирует» социальные акты, акты коллективных и одновременно индивидуальных субъектов, рождающихся и умирающих, бездействующих и деятельных. Для индивидуальных субъектов их собственное пространство живительно и в то же время мертвяще; они развиваются в нем, высказывают себя, сталкиваются с запретами; затем они умирают, обретая могилу в своем же пространстве. Одно лишь понятие социального пространства, еще до всякого познания и во имя его, функционирует как анализатор общества. Упрощенная схема, согласно которой социальные акты и места, пространственные формы и функции точно (точечно) соответствуют друг другу, сразу исчезает. Хотя эта «структурная» (ибо грубая) схема по-прежнему неотвязно присутствует в умах и в науке.
Порождение (производство) освоенного социального пространства, в котором порождающее его общество оформляется, предлагает и репрезентирует себя, хоть и не совпадает с этим пространством, которое является для него в равной мере и могилой, и колыбелью, – дело не одного дня. Это процесс. Необходимо (это слово указывает на именно на потребность, которую нужно эксплицировать), чтобы практическая дееспособность этого общества и его высшие власти располагали своими особыми локусами: местами для религии и для политики. В докапиталистических обществах (относящихся к ведению не политической экономии, а скорее антропологии, этнологии, социологии) необходимы локусы, где свершаются половые союзы и символические убийства, где вновь и вновь действует принцип плодородия (Мать), где убивают отцов, вождей, царей, жрецов, а иногда даже богов. Так что пространство оказывается одновременно и сакральным, и очищенным от благотворных и злокозненных сил, – сохраняя от них то, чем они способствуют продолжению социального начала, и изгоняя то, что делает их слишком опасными.
Пространство – природное и в то же время социальное, практическое и символическое – должно являть себя населенным (означающим и означаемым) некоей высшей «реальностью», например Светом (солнечным, лунным, звездным), который противостоит тьме, ночи, а значит, смерти; свет отождествляется с Истиной, с жизнью, а значит, с мыслью и знанием, а также, неявно и опосредованно, с существующей властью. Что прослеживается в мифологических рассказах как на Западе, так и на Востоке, но актуализуется только в (религиозно-политическом) пространстве и через него. Как и любая социальная практика, практика пространственная сначала переживается и лишь затем осмысляется; однако умозрительный примат осмысления над переживанием вместе с жизнью изгоняет и практику; он плохо отвечает «бессознательному» переживанию как таковому.
Необходимо также отказаться от представления о семье (долгое время весьма обширной, хотя и ограниченной) как о едином центре (один семейный очаг) социальной практики, ибо это повлекло бы за собой распад общества, – но одновременно сохранить и поддерживать его как «основу» прямых и личных отношений, связанных с природой, землей, продолжением рода, а значит, с воспроизводством.
Необходимо, наконец, чтобы смерть была одновременно и обозначена, и отброшена: также «локализована», но уровнем ниже или выше присвоенного пространства, отправлена в бесконечность, чтобы освободить (очистить) то конечное, где разворачивается социальная практика, где царит Закон, создавший это пространство. Социальное пространство – это пространство общества. Человек жив не только словами; каждый «субъект» располагается в пространстве, где он ориентируется или теряется, которым наслаждается или которое изменяет. Как ни парадоксально, чтобы получить в него допуск, человек (ребенок, подросток), уже находящийся в нем, должен пройти испытания, что ведет к появлению внутри социального пространства особых пространств, таких как места инициации. Скорее всего, все сакральные/проклятые места, места присутствия/отсутствия богов и их смерти, скрытых сил и их экзорцизма, – это места особые, закрытые. Так что в абсолютном пространстве нет места абсолютному (это было бы не-пространство). Что напоминает странное устройство религиозно-политического пространства – совокупности изолированных, закрытых, а значит, таинственных локусов.
У магии и колдовства также есть собственные пространства, противостоящие пространству религиозно-политическому, но и предполагающие его: это тоже изолированные, закрытые пространства, скорее проклятые, нежели благословенные и благотворные. Тогда как некоторые игровые пространства, также фиксированные (закрепленные за сакральными танцами, музыкой и пр.), всегда подавались скорее как благотворные, чем проклятые и злокозненные.
Возможно, главной опорой социального пространства является запретное: умолчание в коммуникациях между членами общества, разрыв между ними, телесный и духовный, затрудненность обмена, разъединение их самых непосредственных связей (связей ребенка с матерью) и самой их телесности – с последующим (всегда неполноценным) восстановлением этих связей в некоей «среде», серии локусов, чьи особенности определяются запретами и предписаниями.
Продолжая в том же духе, можно даже объяснять социальное пространство через двойной запрет
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: