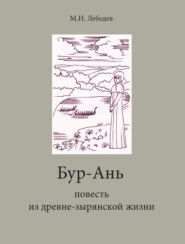скачать книгу бесплатно
Бур-Ань. Повесть из древне-зырянской жизни
Михаил Николаевич Лебедев
В книге коми-русского писателя М.Н. Лебедева (1877–1951) рассказывается о крещении народа коми (зырян) святым Стефаном Пермским и драматических событиях, происходивших тогда на зырянской земле.
Михаил Лебедев
Бур-Ань. Повесть из древне-зырянской жизни
По благословению Архиепископа Пермского и Соликамского АФАНАСИЯ
© М.Н. Лебедев, текст, 1902
© «Сатисъ», оригинал-макет, редактирование, 1996
I
В то далекое время, когда на московском престоле сидел великий князь Дмитрий Иванович, прозванный впоследствии Донским, в глухом уголку зырянского края жила удивительная женщина, известная под именем «Бур-Ань»[1 - По-русски значит – добрая или хорошая женщина (прим. авт).]. Много добра принесла она своим соплеменникам. Она умела говорить по-русски, а это было очень важно: зырянская страна находилась под властью русских князей, наложивших на нее тяжелую дань; московские и новгородские сборщики податей взыскивали эту дань очень строго, действуя подчас не совсем беспристрастно. Зыряне же не умели говорить по-русски, сборщики не понимали их объяснений, а переводчики не заботились о зырянских интересах, хотя сами они происходили из тех же зырян, но получали жалованье от русских. В результате случалось, что сборщики взыскивали установленную дань вдвойне, разоряя бедных зырян. Вот тут-то и приходила на помощь Бур-Ань и так убедительно говорила с русскими сборщиками, что они невольно ограничивали свои требования и довольствовались законным размером дани.
– Вы слуги русских князей, – говорила Бур-Ань, заступаясь за своих соплеменников, – вам указано собирать дань с нашего народа: вы и собирайте сколько следует, сколько вам велели князья, а лишнего не требуйте.
Ваши князья не желают разорять народ, они по числу людей дань наложили, ее уплатить можно, хотя и тяжела она. А вы вдвойне требуете. Мы послушны княжеской воле и платим то, что назначено, а лишнего не можем платить. Вы не смеете требовать лишнего!..
– Однако, и зырянка эта! Занозистая! Такие словеса говорит! – качали головами озадаченные сборщики и отзывались с досадой на слова Бур-Ани:
– Ну, ну! Не надо нам лишнего! Не надо! У нас, чай крест на вороту есть, не то, что у вас, нехристей!.. Не надо нам лишнего! Не надо! Отдайте только то, что следует!.. И отколи ты такая появилася?..
– Спасибо на добром слове, господа милостивые! – с улыбкой отвечала Бур-Ань по-русски и удалялась в свое селение, усовестивши алчных сборщиков.
Иногда Бур-Ани приносили известие, что с низовьев Вычегды[2 - Приток Северной Двины. По Вычегде стояли главные зырянские селения, сообщавшиеся между собой единственно по реке, потому что сухопутных дорог не было (прим. авт.).] поднимаются в лодках вооруженные люди, по-видимому – новгородские ушкуйники[3 - Люди, занимавшиеся разбоями, появлялись, преимущественно, по рекам Волге и Каме с их притоками, но часто они появлялись и на Северной Двине, откуда поднимались в Вычегду Ушкуйник – название, происшедшее от особенного вида лодки «ушкуя», на которых ушкуйники совершали свои передвижения по рекам (прим. авт.).], не признававшие над собой никакой власти – ни князя московского, ни веча новгородского. Это была большая напасть для зырянского края. Новгородские ушкуйники грабили и опустошали привычегодские селения, мучили и убивали жителей, и вообще, причиняли много зла зырянам, не считая их за людей, потому что они были «некрещеным народом». Бур-Ань знала, с кем имеет дело, но это не останавливало ее, и она отважно шла навстречу ушкуйникам, будучи уполномочена своими земляками разделаться с ними мирно, то есть предложить такое количество шкурок дорогих пушных зверей, которым пришельцы могли бы удовольствоваться и воротились бы обратно без опустошения зырянских селений.
– Я иду к вам без опаски, добрые молодцы, – говорила она удалым ушкуйникам, встречая их узкие лодки, легко поднимавшиеся против течения, – и стыд вам будет, если обидите меня! Недобрая слава пойдет о добрых молодцах, если они обидят слабую женщину!
– Так, так! – кричали новгородские удальцы, окружая Бур-Ань. – Красно ты говоришь, молодка! По одеже-то зырянка, кажись, а по обличью-то да по осанке-то, что твоя боярыня! И по нашему так щепетко говоришь! Что же ты за человек? Уж не княгиня ли здешняя зырянская?
– Я простая зырянка, – с улыбкой отвечала Бур-Ань и подробно рассказывала о себе, о своем народе, объясняла, зачем она пришла и, в большинстве случаев, достигала цели. Удалые ушкуйники слушали, рассматривали ее, удивлялись, что среди зырян нашлась такая «чудная баба», которая мужчин смелее, и, обладая своеобразным качеством «разбойничьей чести», не трогали ее и соглашались на ее условия, если они были выгодны. Тогда Бур-Ань заручалась их честным словом, что они не сделают никому никакого вреда, при условии получить полное удовлетворение, и ушкуйники выходили на берег около какого-нибудь селения, дружелюбно разговаривали с зырянскими старшинами и, получивши условленный откуп, обращались вспять, не делая зла жителям.
В других жизненных обстоятельствах Бур-Ань являлась не меньшею благодетельницею для зырян. Возникали ли между ними какие смуты или неустройства, а это бывало не в редкость, – она водворяла мир и тишину; постигало ли их какое бедствие, например, селения погорят или водою их снесет при весеннем половодии, – она помогала потерпевшим, призывая и других к тому же; чувствовался ли недостаток в съестных припасах, угрожая в будущем голодом, – она заботилась об этом, настаивая на посылке известного числа лодок в Устюг за хлебом; встречались ли между ними какие-нибудь недоразумения, затруднения и прочее, – она и тут давала совет, указание, что и как следовало делать по известному делу, так что и сомнений не могло быть, что она рассуждает неверно. Вообще же Бур-Ань пользовалась громкою известностью в привычегодском крае, всем делая добро и пользу, и зыряне говорили, что она дочь великого бога Войпеля[4 - Главное пермское божество, которого зыряне-язычники считали своим покровителем (прим. авт.).], посланная с небес заботиться о бедном зырянском народе.
Откуда она пришла в привычегодский край – этого никто не знал. Знали только одно, что она настоящая Бур-Ань – добрая хорошая женщина, подобной которой не было на свете (так говорили зыряне), и даже сам великий жрец Пама Княж-Погостский[5 - Жрец, или кудесник Пама, жил в селении Княж-Погосте, бывшей столице Вымских князей, преемником которых он почитал себя (прим. авт.).] приезжал посмотреть на нее. Но Пама остался недоволен Бур-Анью. Некоторые очевидцы их свидания говорили, что Пама желал построить большое капище во имя Войпеля в том селении, где жила Бур-Ань, а Бур-Ань поставить в жрицы, но она не согласилась на это. «Боги, дескать, не нуждаются в наших капищах, в наших жертвах; наши жертвы им не нужны, им нужны добрая жизнь и добрые дела…». Подобное суждение так поразило великого жреца, что он не нашелся, что сказать на это и уехал недовольный.
Наружность Бур-Ани была очень привлекательная. Она имела от роду лет двадцать пять, не больше, и потому красота и здоровье ее были в полном цвете и силе. Лицо ее отличалось миловидностью и каким-то особенным величавым спокойствием, а в больших темно-карих глазах светилось столько ума, доброты и кротости, что сразу становилось понятно, почему она любила людей и почему люди любили ее. По внешнему виду ее нельзя было принять за зырянку, но некоторые особенности ее разговора и движений доказывали, что она чистокровная зырянка. Но, не смотря ни на что, знавшие ее люди утверждали, что она дочь великого бога Войпеля и не хотели верить ее человеческому происхождению.
Живя в небольшом селении Вадор, стоявшем на берегу реки Вычегды, она всех удивляла своими делами, – до того они были необычайны по тому времени. Доброта и любовь к ближнему были качествами, совершенно неизвестными для зырян; между тем, она именно этими качествами и отличалась невольно вызывала предположение, что она дочь великого бога Войпеля, пославшего ее на землю для облегчения участи бедного зырянского народа.
Участь зырянского народа, действительно, была очень горькая. Он был совершенно беззащитен перед всеми, начиная с новгородских ушкуйников и, кончая свирепыми вогулами, набегавшими на «Старую Пермь» из пределов «Перми Великой»[6 - Эти вогулы жили в верховьях реки Колвы, впадающей в Вишеру, которая, в свою очередь, впадает в Каму, – в пределах тогдашней Перми Великой (где ныне Чердынский уезд Пермской губернии); привычегодский же край назывался Старой Пермью.] кроме того, зыряне не занимались земледелием, существуя одной охотой, и нередко распространялся между ними такой голод, что они были принуждены питаться древесной корой, чтобы не умереть голодной смертью; наконец, – и это самое главное – они не знали, кто над ними истинный господин: московский ли князь или новгородское вече? Обе стороны действовали независимо друг от друга, считали зырян своими подданными, и хотя Новгород Великий признавал верховную власть московского великого князя, но на деле выходило иначе и новгородцы не задумывались оттягать зырянскую сторону от Москвы. Но Москва не любила уступок. По воле ее князей была наложена дань, которая и взыскивалась очень строго. Но Новгород поступал так же. Не в его обычае было оставлять что-либо добровольно. И он тоже наложил свою дань. Таким образом, от обеих сторон приезжали тиуны, или чиновники и сборщики податей, и убеждали зырян, что они подданные Москвы или Новгорода. Тиуны и сборщики были поддерживаемы сильным вооруженным конвоем и, волей-неволей, приходилось повиноваться: платить дань и московскому князю, и новгородскому вечу. Иногда случалось так, что после отъезда московских сборщиков тотчас же наезжали новгородские сборщики (или наоборот) и собирали новую дань. Тут уже никаких рассуждений не принималось и со стороны Бур-Ани, потому что сборщики действовали по указанию своих правительств, и зыряне платили дань и тем, и другим, не зная в то же время, кто над ними истинный господин, Москва или Новгород.
Таково было положение зырянского народа в то время, когда в верховьях Вычегды жила удивительная женщина Бур-Ань, а в низовьях появился проповедник Слова Божия, Стефан, будущий незабвенный епископ Пермский.
II
Даже и в настоящее время зырянский край считается (и не без основания) захолустным краем, затерявшимся в необозримых северных лесах, наполненных разным зверьем и птицей. Но теперь он уже не имеет того сурового, дикого вида, когда зыряне были язычниками. Тогда было не то. Леса были мрачны и непроходимы; дорог среди них не было, да и некому было пролагать их; огромные сосны и ели, величественные кедры и лиственницы горделиво высились, являясь истинными стражами-великанами могучего северного леса. Между ними белелись березы, виднелись черемуха и рябина, желтыми пятнами выступала осина. Глухо, темно, сыро было в этом лесу, раскинувшемся на необозримом пространстве.
Деревья росли и валились сами собою от старости, образуя иногда настоящие завалы, усиливавшие непроходимость леса. Сквозь громадные груды валежного леса пробивались новые деревья, медленно разрастались и тянулись в вышину, и на месте упавших великанов древесного царства являлись новые великаны, становясь все гуще и теснее. Человек мог пробираться сквозь эту дебрь только с топором в руках, да и то по сухим борам, где почва была тверже и устойчивее. Боры тянулись широкими полосами верст в 10–20, и вот по этим-то борам, по едва заметным тропинкам, зыряне ходили на охоту, собираясь небольшими партиями. Тропинки эти имели такое значение, что для охотников они были как бы компасом; зыряне знали куда ведут эти тропинки, какие места захватывают и какое зверье и птица обитают по сторонам их. Но существовали в зырянских лесах такие обширные болота, топи и зыбуны, что ни один самый смелый охотник не решался проходить через них. Такие места называли зыряне злыми, недобрыми местами.
И раздолье же было в этих лесах зверью! Тут было всего много: медведей, волков, лисиц, куниц, соболей, горностаев, рысей, выдр, белок, зайцев, были лоси и олени, а из птиц – тетерева, куропатки и рябчики; на реках же и озерах водились гуси, утки и лебеди, прилетавшие в весеннее время и улетавшие с наступлением поздней осени. Леса были нетронутые, девственные. Зыряне бродили в них, но их было так мало в сравнении с неизмеримым пространством лесов, что находилось много таких мест, куда еще не ступала нога человека. Охотники отыскивали зверя без труда, но горе им, если они ранили могучего медведя. Рев его потрясал своды леса, глаза наливались кровью; стремительным движением бросался он на оплошавших охотников, ломал их самодельное оружие, подминал, калечил их самих и с глухим ворчанием рвал их окровавленные трупы, торжествуя свою победу… Подобные несчастия случались нередко, но это не останавливало зырян, потому что в охоте заключалась вся их жизнь.
Без охоты они не могли существовать. Убивая медведей, волков, лисиц, куниц и прочих, зырянин снимал с них шкуры и приготовлял их к продаже или для уплаты дани. В лесу добывал и мясо. После окончания промысла, охотники собирались большими артелями, строили поместительные лодки и, нагрузивши их звериными шкурами и мехами, отправлялись в Устюг. Там они продавали добытое и, купив хлеб, соль, топоры, ножи, наконечники для рогатин и прочие нужные в хозяйстве вещи, возвращались домой. Хлеба было мало, трудна была его доставка, питались, преимущественно мясом добытой дичи и рыбой. Мяса и рыбы было много, их заготавливали в большом количестве впрок, на год, но иногда выпадали года, когда леса пустели: зверь уходил, весной птицы прилетало мало, а свои, лесные птицы (глухари, тетерева, рябчики и куропатки) становились редки, рыба не ловилась, – тогда среди зырян распространялся голод. Старые запасы выходили скоро, новых достать было неоткуда… Начиналась голодная жизнь, которая поддерживалась только тем, что зыряне пекли хлеб из древесной коры, чтобы хотя этим обмануть голод…
По берегам рек и речек, преимущественно же по берегам Вычегды, поросших густым, непроходимым лесом, стояли зырянские селения, располагавшиеся у самой воды. У воды зыряне селились потому, что реки служили им единственным удобным путем сообщения с другими селениями. У каждого семейства была своя лодка, сделанная из цельного дерева. В лодке зырянин ездил ловко и быстро, несмотря на ее вертлявость. Вода не пугала его, он был искусным пловцом с детства и легко мог проплыть несколько верст. Рыболовство требовало ловкости и сноровки, но так как все зыряне промышляли рыбу, то и на воде они чувствовали себя так же уверенно, как и на суше.
Несмотря на обилие леса, жилища зырян были малы и тесны. Состоя из одного сруба, избушка зырянина не имела ни пола, ни окон, ни дверей. Полом была голая земля, только около стен прикрытая звериными шкурами, вместо окон – маленькие отдушины, затянутые бычачьим пузырем, а вместо двери – лосиная или оленья шкура, прикрывающая входной проем. В углу находилась неуклюжая каменка – подобие печи, сложенная из больших камней. Трубы не имелась, печь топилась «по-черному». Эту каменку топили несколько раз в день, если дело было зимой, и тогда все живое должно было выбираться из избушки, потому что дым заполнял ее до земли. После топку избушку закрывали наглухо, и в ней становилось так жарко, что обитатели ее вынуждены были снимать с себя одежду. Но скоро все тепло улетучивалось и делалось снова холодно, ввиду чего топка повторялась. Обитатели опять выгонялись на улицу, – так несколько раз в день. Одни зыряне способны были переносить такую жизнь.
Никем не стесняемые в своих лесах, зыряне, тем не менее, ставили свои избушки вплотную одна к другой и выбирали места для селений около самого речного берега, так что почти ежегодно случались такие «неожиданности», что то или иное селение сносилось водой при весеннем половодии, а в сухое время года порой свирепствовали лесные пожары, при которых часто горели и деревни. Но это не вразумляло зырян. Они упорно снова и снова строились на своих обжитых местах и, конечно, снова терпели те же бедствия. Но бедствия шли своим чередом, не имея никакого влияния на упрямых дикарей, не хотевших отставать от старых привычек и жестоко за это платившихся… Такова зырянская натура.
В один из ясных летних дней того года, в который святой Стефан, просветитель зырянского края, выступил на проповедь, – из небольшой реки Локчима[7 - Приток Вычегды с левой стороны, впадает в нее в 60 верстах выше нынешнего г. Усть-Сысольска Вологодской губернии (прим. авт.), сейчас – г. Сыктывкар – столица респ. Коми. (прим. ред.).] быстро вынеслась на Вычегду длинная узкая лодка и круто повернула кверху, держась того берега Вычегды, у которого течение было слабее.
В лодке сидело шесть человек зырян, усердно работающих веслами, а на средней беседке помещалась высокая красивая женщина, одетая в простой черный шушун[8 - Род сарафана (прим. авт.).], с белою ширинкой или платком на голове и задумчиво глядела вперед, сложивши на коленях свои руки.
Это была Бур-Ань, ездившая в локчимские селения, где произошла какая-то смута между жителями, воспротивившимися платить дань московскому великому князю, и только одна Бур-Ань могла уговорить их не раздражать грозную Москву.
Зыряне работали веслами молча, изредка поглядывая на Бур-Ань, но вот, один из них обратился к ней, выразивши на своем лице самую глубокую почтительность: – А вот, что я скажу тебе, матушка Бур-Ань, русские люди слишком большую власть над нами забрали! Не смеешь против них слова сказать – молчи, хотя они зарежь тебя! Отдай последнюю шкурку!.. Недобрые люди они… недобрые князья русские! Не жалеют нас бедных…
– И мы не жалеем других, – тихо отозвалась Бур-Ань, внимательно посмотревши на говорившего, – И мы не лучше русских. Да вот, хотя тебя к примеру взять: ведь, если бы мог ты русских покорить, то наверно, не пожалел бы их? Ведь правда?
– Правда, правда, матушка Бур-Ань! – воскликнул зырянин, злобно блеснув глазами. – Тогда бы потешился я! Не пожалел бы ни одного русского! Всем головы бы топором бы отрубил!..
– Вот видишь, какой ты человек, а еще русских осуждаешь! – сказала Бур-Ань, укоризненно покачав головою. – А русские не рубят голов. Они только дань наложили. Князья же ихние справедливые люди, не желают нам конечного разорения. Они неповинны в том, что слуги их, эти тиуны да сборщики, нас притесняют. Они добрые справедливые люди…
– А ты-то почему знаешь? – спросил зырянин, но тотчас же подумал, что дочь великого бога Войпеля (какою все почитали Бур-Ань) может все знать и вопрос его более чем неуместен и поспешил прибавить к своим словам:
– Да ты не гневайся на меня, Бур-Ань. По глупости своей спрашиваю. Ведь ты, вестимо, все знаешь…
– Нет, многого я не знаю, вокой[9 - Братец (прим. авт.)], а о справедливости русских князей знаю. На Москве сидит добрый князь, да слуги-то у него всякие есть – худые и добрые. Вот худые-то и обижают нас…
– Худые люди, вестимо, всегда худо и делают, да вот зачем еще из Новгорода сборщики приезжают да новую дань справляют? Разве подобает так – по две шкуры с одного зверя драть?..
– А Новгород не слушается Москвы. У него свой князь есть, да и своего-то князя новгородцы не слушаются. Вот, и собирают они дань, собирают в свою суму, а не московскую, а Москва им указать не может.
– Да, ведь новгородцы-то русские же люди? А русские все под рукою московского князя состоят.
– Это не так, вокой. Московский князь, конечно, сильнее других князей, да те, все-таки, по своей воле живут и не слушают его. Вот и Новгород тоже!
Зырянин помолчал немного и сказал:
– Ненавижу я этих русских! Недобрые люди они! Не жалеют нас, горемычных… да и мы, вестимо, их не пожалели бы, да горе, что сил у нас нет! А то показали бы им себя… на куски всех изрезали бы!..
– Да, горе, что сил у нас нет! – повторили другие зыряне и дружнее налегли на весла, потому что начиналась сильная быстрина, увлекавшая лодку книзу. Глубоко вздохнула Бур-Ань и ничего не ответила на последние слова своих спутников. Действительно, горе большое, что сил нет, да главное горе было в том, что не знали они ни любви, ни жалости, ни малейшего сострадания к ближним – даже к своим же зырянам, не говоря уже о русских, – и заботились единственно о себе, только о себе и не в состоянии была Бур-Ань вселить в них эти чувства. Она была одна, а их много. Она не могла, конечно, с каждым поговорить и каждого научить. Только в своем Вадоре достигла она того, что обыватели его жили между собою мирно и дружно, следуя во всем ее советам, и не даром же жители окружающих селений завидовали вадорцам: они жили в полном довольстве и благополучии, отличаясь большим добродушием. Но Вадор был редкостью. Ни одно из других селений не было похоже на него. В Вадоре жила Бур-Ань, и он жил и управлялся ее умом, но в других местах подобного человека не было, и зыряне не могли отстать от старых привычек, да и трудно это было. Жизнь зырянина представляла собой вечную борьбу за существование, вечную заботу о том, чтобы не умереть с голода, и не до подобных чувств было бедному дикарю, ожесточенному постоянной нуждою. Для него было одно важно: как пропитать себя и свою семью? Как отделаться от русских сборщиков? Думал он еще о том, что хорошо было бы избавиться от платежа дани, хорошо бы не бояться никаких разбойников! – но дальше этих дум дело не шло, потому что перед всяким собранием вооруженных людей зырянин страшно робел и не имел духу оказать сопротивление. Характер его в этом отношении был очень странный: на охоте он смело шел на медведя, подвергая себя большой опасности, но против вооруженных врагов идти не решался и в трепете спасался бегством или же давал откуп дорогими шкурками, чем и обнаруживал свое малодушие… Бур-Ань понимала причину этого, понимала, почему зыряне несчастны, но как облегчить их участь?.. И тем более ей было грустно, что она не могла сделать счастливыми своих соплеменников, несчастных не потому, собственно, что они находились под властью русских князей, а потому что сердце их было недоступно для добрых чувств, дающих облегчение самому обездоленному человеку.
– Да, тяжела наша жизнь, но как же помочь горю? – тихо прошептала она и глубоко задумалась над этим вопросом.
Впереди показалось селение.
Лодка повернула к нему.
III
В многолюдном селении Важ-горт, к которому приближалась Бур-Ань, царило необычайное оживление. На берегу собралась большая толпа народа, преимущественно взрослых мужчин и о чем-то совещалась между собою, громко выкрикивая ругательства и размахивая руками. Женщины перебегали с места на место, сходились, сообщали друг другу какие-то новости и, поговоривши, расходились снова, спеша к другим товаркам. Между ними сновали ребятишки, галдя что-то и бросая друг в друга грязью, – но вот, один из мужчин заметил приближающуюся лодку, в которой сидела Бур-Ань и радостно закричал во все горло:
– Бур-Ань плывет! Бур-Ань из Локчима возвращается!.. Тише, тише все! Встречайте ее, нашу матушку родимую! Она нам все объяснит…
Шумевшие сразу стихли. Толпа привалила к берегу. Все поснимали шапки.
– Будь здорова, наша вечная радетельница! Добрые боги несут тебя к нам! Постоянно ты за нас печалишься! – раздались громкие голоса; все собравшиеся на берегу, теснились к воде, чтобы первыми встретить гостью.
Бур-Ань подняла голову. Лодка подплывала к берегу. Навстречу ей несся радостный гомон важгортцев, приветствовавших свою благодетельницу. По лицу Бур-Ани разлилась улыбка. Она ласково кивнула головою, но вот глаза ее пробежали по фигурам встречающих ее людей, по почерневшим избам деревни, по всему окружающему, и ей стало грустно. Картина была не из привлекательных.
На низменном берегу Вычегды, громоздясь друг подле друга, стояли почерневшие обывательские избы. Многие покосились на бок, некоторые готовы были развалиться, но ни поправок, ни следов заботливости о них хозяев не было заметно. Этого не любили зыряне – заботиться о своих жилищах. Напротив, все строения Важ-горта носили на себе отпечаток крайнего убожества и запущения, и даже встречались избы, у которых не было крыш. Неподалеку от жилых построек чернелись житницы и помещения для скота, состоящего из коров и овец, лошадей же не было в зырянском крае, да и надобности в них не представлялось, потому что при отсутствии дорог, нечего было и думать о езде на лошадях. Почва была вязкая, болотистая, и после каждого дождя в селении становилась невылазная грязь, так что при неимении полов в избах, такая же грязь делалась и в жилых помещениях. С трех сторон Важ-горт был окружен густым хвойным лесом, придававшим селению еще более невеселый вид, а с четвертой стороны протекала Вычегда, заключенная в крутых берегах, поросших тем же лесом. В общем же виде, Важ-горт был очень некрасив и мрачен, как и все зырянские селения, и наводил своею внешностью самую невыразимую грусть; но еще большую грусть наводила наружность зырян, облаченных в звериные шкуры. Это была настоящая северная одежда, незаменимая для зимнего времени, но зыряне должны были носить ее и зимою и летом, потому что зырянские женщины не имели понятия о приготовлении холста и шили одежду из звериных шкур, выделанных особенным образом, так, что их можно было шить без затруднения. Но некоторые имели и холщевую одежду, приобретенную при поездках в Устюг; впрочем, таких счастливцев было немного, и Большинство ходило в звериных шкурах, придававшим зырянам тот вид получеловека, полузверя, который вызывал в русских людях такое презрение к зырянскому племени.
Облаченные в подобную одежду, приземистые, неуклюжие, грязные, не смея посмотреть на свет Божий, а глядя как-то пугливо, исподлобья, важгорцы толпились на берегу и радостно приветствовали Бур-Ань. Но тяжело было на душе благодетельницы зырянского края. Грустно смотрела она на зырян и с глубоким вздохом вышла на берег, когда лодка пристала к нему.
– Будьте здоровы, вокъяс[10 - Братцы (прим. авт.).]! – сказала она, вступая в толпу важгортцев, – как Небо хранит вас?
– Живы покуда, матушка Бур-Ань, – отвечали зыряне, падая перед ней на колени. – Великий Войпель милует нас. Зверя и птицы пока довольно, не как в прошлом году, когда мы древесную кору ели. Дань русским сборщикам уплатили. Теперь только в Устюг сплавать нужно, – продать лишние меха, да хлеба немного прикупить. А так, все благополучно…
– Вижу, что благополучно, вокъяс! – вздохнула Бур-Ань, поглядев на лица зырян и затем продолжала, слегка махнув рукою, чтобы все поднялись с колен:
– А о чем же вы шумели теперь? Я слышала крик большой и слова разные ругательные…
– А это мы весть получили с низовьев, так рассуждали промеж собой, как новую беду встречать. Да, вот, ты приехала, ты и объяснишь нам…
– Какая же беда ваша?
– Беда не для нас одних, а для всего народа зырянского… Пусть Кузь-Ныр да Сед-Син[11 - Зыряне-кочевники не имели собственных имен, а имели одни прозвища, соответствующие внутренним или внешним качествам человека. Кузь-Ныр – Длинный Нос, Сед-Син – Черные глаза. Встречались и случайные прозвища (прим. авт.).] все расскажут.
Они прибыли сегодня с низовья, так знают, что и как… Изволь войти в чукэрчан-керку[12 - Чукэрчан-керка – сборная изба (прим. авт.).] там они и расскажут тебе, что видели и слышали в низовье.
– Ладно, послушаю, что скажут они! – кивнула головой Бур-Ань и направилась к сборной избе, которая находилась неподалеку.
Это была такая же грязная, полутемная изба, как и все остальные, только немного больше других и уставленная около стен короткими обрубками дерева, на которых сидели старики во время общественных собраний. В углу стояло изображение Войпеля – грубое подобие человеческого лица, сделанное из дерева. Ни рук, ни ног у него не было, была одна голова, раскрашенная красками; туловище означал круглый ствол дерева, на котором была водружена эта голова. Перед ним висело много шкурок пушных зверей, принесенных ему в жертву. Жреца в Важ-горте не было и потому обязанности его исполнял старшина селения, называемый по-зырянски юр-морт, что означало главный или первый человек. Перед изображением Войпеля стоял небольшой деревянный табурет, покрытый шкурой медведя, это было почетное место для гостей, посещавших чукэрчан-керку.
Вошедши в сборную избу, Бур-Ань села на табурет, а важгортцы столпились перед нею, сохраняя почтительную тишину. Старшина стал возле нее, а вызванные им Кузь-Ныр и Сед-Син вышли из толпы народа и начали свой рассказ о виденном и слышанном в низовьях.
Первым заговорил Кузь-Ныр.
– Ведомо тебе, матушка Бур-Ань, – начал он, – что в низовьях Эжвы[13 - Эжва – зырянское название Вычегды (прим. авт.).] есть селение Котлас, – и Пырасом его называют, – а этот Котлас – последнее наше селение вниз по Эжве. Далее наших селений нет. Так вот, мы и были в этом Котласе: я да Сед-Син, по своим делам ездили. Пристали мы к берегу у Котласа, а там уж суета стоит: все бегут на зеленую лужайку около селения и кричат: «Московский человек приехал! Новую веру вводит! Не оставим своих богов!» – а сами рогатины да дреколье с собой на случай захватывают. Ну, побежали и мы за ними. Прибежали, смотрим: сидит на перевернутой лодке посреди лужайки не старый человек, одет в черную одежду, с длинными русыми волосами, с небольшой бородой, а лицо такое доброе, простое. В одной руке перпа[14 - Перпа – крест (прим. авт.).] блестит, а другою на небо указывает и говорит о московской вере. Не посмели тронуть его котласские люди, сильно уж кротким он показался, руки не поднялись на него. А говорит он по-нашему, по-зырянски, все понимают его слова. Послушали, послушали его котласские люди, а он говорит, говорит… Как вдруг и подступил к нему юр-морт Котласа да закричал: «Как ты смеешь смущать нас? Какое тебе дело до нашей веры? Ведь мы убьем тебя!» – Топором на него замахнулся. Да не испугался этого московский человек, только посмотрел на него с укоризной да сказал: «Что я тебе худого сделал, что ты хочешь убить меня? Разве убивают человека за доброе слово? А я вам добрые слова говорю и желаю, чтоб спаслись вы в правой вере. Не обижать, не грабить я вас пришел, а выводить из тьмы к свету»… И опустил топор юр-морт, и спросил уже со смирением: «А какой ты человек есть? И как тебя по имени зовут? И есть ли при тебе грамота княжеская? – «А зовут меня Стефаном, – отвечал московский человек, – и иду я из града Москвы, а уроженец я устюжский. А грамота княжеская при мне» – и показал он грамоту княжескую, что была за большой печатью. И отступил от него юр-морт, и снова начал Стефан о московской вере говорить. И все слушали его… Обольстил он всех своим добрым видом да словами ласковыми: непривычно ведь, нам от московских людей добрые слова слышать. А он все добром да лаской. Вот и прельстились все…
Тут Кузь-Ныр замолк, предоставляя говорить Сед-Сину, и тот продолжил рассказ: – Дерзкие слова молвил он, матушка Бур-Ань. Вот что сказал он: «Боги ваши – не боги и никакой силы в них нет. И их нет вовсе, а есть один Бог, которого почитают русские люди. Бог христианский велик, а ваш Войпель – одно измышление жадных жрецов, которым нужно обирать вас. И нет в вашей вере спасения, нет надежды и утешения, а есть только гибель, горе и мучение. И не видать вам будет счастия, если не обратитесь к правой христианской вере»… И долго говорил он, а все слушали его и разумели, а многие дослушались до того, что сказали: «Воистину, правдива русская вера! Не хотим покланяться Войпелю и другим богам! Научи нас Стефан-москвитянин, как вступить в твою веру?..» И они поклонились ему, прося утверждения в вере. И он начал поучать их… Так обольстил их Стефан-москвитянин добротою!.. Долго еще слушали мы, а потом пошли в селение справлять свои дела. Тут увидели мы жреца котласского. Собрал он стариков в чукэрчан-керку и просил их, чтобы они изгнали из селения пришельца московского, но не смели старики изгнать Стефана, ибо он имел грамоту княжескую. А жрец говорил им, что Стефан подослан от русских князей мутить народ зырянский, а как только будет смута, то придут воины московские, разорят, сожгут наши селения, а людей в Эжве-реке потопят. Да не смели старики восстать на Стефана-москвитянина: грамоту княжескую он имел. И рассердился жрец на стариков и, и пригрозил им, что к самому Паме Княж-Погостскому поедет, а нас попросил он довезти его до первого селения, которое выше Котласа стоит, и мы поплыли с ним из Котласа, справивши свои дела… Вот какое дело случилось в Котласе, матушка Бур-Ань. Московская вера у нас вводится…
Беда всему зырянскому народу…
– Беда нашей вере! – подхватил Кузь-Ныр, перебивая Сед-Сина. – Не надо пускать сюда Стефана-москвитянина! По виду он добрый человек, а по сердцу – злой обольститель. Лицо его доброе, простое, а на сердце никто не бывал! Не знаем мы думы его… Не надо пускать его! Не нужна нам московская вера! Мы в старой вере хорошо проживем. А если мы отступимся от нее, то быть нам во всяких бедах и напастях – и конец зырянскому народу! Не жить нам на белом свете! Это жрец котласский сказал, а его словам верить можно.
И оба рассказчика замолчали, кончивши свое повествование. Зыряне смотрели на Бур-Ань, ожидая, что она скажет, но долго молчала благодетельница зырянского края. Известие поразило ее. Грудь ее заволновалась, на лице блеснула радость… Глубоко задумалась она и не видела ничего окружающего, но вот подняла она голову и светлым, ласковым взором окинула важгортцев.
– Люди зырянские, тепло и задушевно зазвучал ее голос, – напрасно страшитесь вы! Стефан-москвитянин не обманщик, не обольститель, я знаю его. Он человек правдивый. Он не обольщает нас, а добра нам желает. Но добра многие не понимают, и мы не понимаем его… Напрасно страшитесь вы! Стефан не насильно в нашей земле христианскую веру вводит, а добрыми словами увещает. А доброе слово – не беда. Кто не желает слушать – не слушай. Это никому не заказано. А если наша вера лучше русской, то пусть жрецы наши докажут это Стефану и нам – и мы не склонимся к русской вере. А если русская вера лучше нашей, то почему же не быть в лучшей вере, чем в худшей?.. Вы верите, что Стефан подослан от русских князей мутить народ зырянский, но какая же польза в этом? Ведь русские князья и без смуты могут разорить наши селения и нас потопить в Эжве, если пожелают. Но они не желают этого, они не настолько жестокие… Так, вот что я скажу вам, вокъяс: – Живите спокойно, мирно, не бойтесь Стефана-москвитянина, ибо не разбойник он и не верьте разным слухам, если разнесутся они, а там – воля Неба. А теперь я отдохнуть хочу. Ступайте все по домам и помните мои слова. А завтра я еще потолкую с вами.
И она поднялась с места, чтобы идти в избу старшины, где обыкновенно отдыхала, а собравшиеся зыряне тихо вышли из чукэрчан-керки и медленно разошлись по домам, рассуждая о слышанном от Бур-Ани.
Безусловно поверили они словам своей благодетельницы и почувствовали большое облегчение, но одного не могли понять: почему же Бур-Ань заступается за Стефана-москвитянина, когда он враг ее отцу, великому Войпелю и почему она так легко относится к этому делу, когда оно самое важное для зырянского народа? Но это было выше их разумения и они ограничивались тем, что говорили:
– Это ее дело. Она знает, что говорит, и не нашему уму понимать все. Она худому не научит. Так пусть же будет так, как она сказала, а там воля богов…
И на этом их рассуждения кончились.
Дальше они не решались идти, из опасения оскорбить Бур-Ань. А этого они боялись пуще всего на свете.
IV
Теплая летняя ночь опустилась на Важ-горт, приютивший Бур-Ань, которая осталась ночевать в нем. На небе сиял месяц, заливая своим мягким светом убогие избушки зырян, проникая в таинственную глубину леса и отражаясь в водах Вычегды, тысячами искр переливавшихся на текучих струях реки. Царила тишина, не раздавалось ни звука. Только время от времени, с некоторых дворов доносился вой полуголодных собак, нарушавший ночное безмолвие. Зыряне безмятежно спали. Вообще они не любили бодрствовать ночью и ложились спать рано, с заходом солнца, чтобы хорошенько выспаться до утра. Не то – во время охоты. Тогда они спали мало, проводя дни в погоне за добычей, а большую половину ночей – приготовляя стрелы для своих луков и обдирая добытых зверей. Теперь же было свободно: весенняя охота (преимущественно на птиц) закончилась, от зимы осталось много запасов, которыми можно было дожить до осени, а осенью – новая охота, продолжающаяся до самой весны. Осенью и зимой было не до сна: тогда добывались самые дорогие меха, служившие для уплаты дани и для продажи устюжским купцам, летом же зыряне отдыхали – конечно, если обстоятельства позволяли это, – и безмятежно спали по ночам, не упуская случая поспать и днем. То же было и теперь. Важгортцы сладко спали, наполняя избы громким храпом, и никто не подумал о том, что не лишним было бы поставить на берегу Вычегды караульного, который наблюдал бы за тем, не покажутся ли снизу удалые вольные ушкуйники или сверху – свирепые вогуличи, приходившие из Перми Великой и страшно опустошавшие привычегодские селения. Об этом никто не позаботился, и селение стояло никем не дозираемое и не хранимое (кроме десятков двух костлявых собак, еле живых от постоянного голода), а между тем, время подошло такое, что во вражеском набеге ничего не могло быть удивительного. Это было излюбленное время у разбойников, набегавших на зырянский край.
В селении все спали. Не спала только одна Бур-Ань, взволнованная вестью о Стефане-москвитянине и беспокойно ворочалась на мягкой шкуре огромного медведя, постланной ей в избе старшины, как особенно почетной гостье. В голове ее проносились мысли и радовавшие, и пугавшие ее, сердце билось неровно, грудь высоко поднималась, по телу пробегала дрожь. Она повторяла себе рассказ Кузь-Ныра и Сед-Сина о появлении Стефана-москвитянина и мысленно рассуждала сама с собой:
– Это он появился. Я сразу узнала его. Другой человек не смел бы напуститься в наш народ – один, без оружия, без охраны. Народ наш робок, но жестокосерд. Не щадит он безоружного человека. Но Стефан укротил и его, укротил своею добротою… Сдержал он слово свое – пришел спасти народ зырянский. Но если убьют его? Да нет, сохранит его христианский Бог. Сохранит и спасет в опасностях. Так пусть же продолжает он начатое дело, а я буду продолжать свое, пока наши дороги не сойдутся. А там – воля Бога, великого христианского Бога, Который завещал людям любить и миловать друг друга… Великое дело начал он, дело спасения бедного зырянского народа! Недавно я думала об этом, не знала, как помочь горю – и забыла я о словах устюжского человека, которого встретила в Вологде. Но он не забыл своих слов. Это был Стефан-москвитянин. Совет его я с радостью исполнила, отдала себя на службу родному народу, но не в силах я растопить лед в сердцах своих собратий, не в силах сделать их добрыми и хорошими, а без этого нет счастья… Воистину спасительна русская вера. Немного я знаю ее, а уже понимаю, что худо, что хорошо. Напрасно не окрестилась я в Вологде, не захотелось мне быть в другой вере от моего народа, да вижу, что напрасно это. Не могу я покланяться Войпелю, знаю, что нет его… Нет, а меня его дочерью почитают!.. Несчастные, бедные люди! Не знают они истинного Бога, без которого нет спасения! Не знают, что доброта душевная лучше закоренелой жестокости… Но вот, идет Стефан-москвитянин, идет и несет свет истинной христианской веры!.. А если убьют его? Ведь наши жрецы возненавидят его пуще всего на свете, подговорят убить его… Особенно Пама Княж-Погостский…
И она представила себе всю злобу этого сурового жреца, встретившего в Стефане-москвитянине неожиданного обличителя своих мнимых сношений с небесными силами, и ей стало страшно: этот человек казался ей опаснее всех жрецов зырянских. И, действительно, это было так: волхв Пама отличался тяжелым и мрачным характером. Зыряне боялись его. Они почитали его за неизменного любимца Войпеля – главного своего божества – и верили, что ему все позволено на земле. И он пользовался этой верой. Рука его совершила немало расправ над своими соотечественниками, чем-либо не угодившими ему, и только одно господство русских удерживало его от настоящей тирании над родною землею. А тут – проповедь Стефана, убеждающего оставить старую веру и перейти в христианство! Это могло погубить всех жрецов зырянской земли, и Бур-Ань хорошо понимала, что Пама станет бороться с московским пришельцем до последней крайности и даже не остановится перед убийством… Это волновало ее. Она поднялась с постели.
– Нет, нет, этого не может быть! – зашептали ее губы, в то время, как руки ее быстро завязывали на голове платок, а сама она тихонько двинулась к выходу из избы. – Сохранит его христианский Бог. Не на то он пришел в нашу землю, чтобы погибать от руки Памы…
Она вышла на берег Вычегды, чтобы немного освежиться на воздухе. Река спокойно несла свои воды, озаренные бледным сиянием месяца. На берегу лежало много перевернутых лодок. Бур-Ань села на одну из них, поплотнее укутавшись в свой платок.
Тишина, господствующая кругом, располагала ее к размышлениям, и она задумалась о своем прошлом, которое было не из радостных.
Кто были ее родители она не знала, потому что с того момента своего детства, когда стала помнить себя, она не видала ни отца, ни матери, ни родных, которые бы заботились о ней и жила в крошечном зырянском селении, стоявшем на безымянной речке, среди глухого непроглядного леса, причем, селение это даже не имело названия. Люди называли ее не иначе, как «шибитом морт» – брошенный человек – и обращались с нею пренебрежительно, грубо, не признавая в ней человеческое достоинство. Никто не ласкал ее, не говорил ей доброго слова, и она выросла с мыслью, что жизнь на то и создана, чтобы терпеть и мучиться до смерти. Еды ей давали мало, держали почти постоянно впроголодь, часто даже выгоняли на улицу среди ночи зимою, а она терпела и молчала, не жалуясь на свои невзгоды. Так дожила она до пятнадцати лет. И вот, в это-то время, когда ум ее начал понимать многое, она с удивлением заметила, что жизнь ее не на много хуже жизни окружающих ее людей. Она страдала от их бессердечия, а они страдали от всего, что только было худого на свете: от холода, от голода, от лютости диких зверей и от каких-то неизвестных людей, которые приходили в их селение и забирали у жителей шкурки, приготовленные ими на продажу или на уплату дани. Это были русские люди, как она слыхала. Но русских людей она не знала и думала, что все они такие злые и несправедливые, как эти. Но она, конечно, ошибалась. И вот с этого времени она стала жалеть своих соплеменников-зырян, жалеть их всем сердцем, всем помышлением и стала задаваться вопросом: как им помочь? Это была нелегкая задача, ее было трудно разрешить, непонятно, как можно было помочь людям, облегчить их жизнь. Возможно, Бур-Ань так бы и прожила в безвестности в приютившем ее селении, если бы не случилось событие, изменившее всю ее жизнь.
Однажды летом она пошла в лес, побродить на свободе и подумать без помех о жизни. Внезапно надвинулась туча, засвистел ветер, полил дождь и разразилась страшная буря. Бур-Ань забилась под дерево, пережидая непогоду. Когда буря прошла, наступила ночь. Девушке пришлось провести ее в лесу. Наутро она отправилась домой, но заблудилась и пять дней брела, не зная куда, ночуя под деревьями и питаясь незрелыми еще ягодами, которыми пыталась заглушить голод. Однако, ягоды не очень-то помогали и она постепенно ослабевала. Наконец, она вышла на берег широкой реки, где от изнеможения и упала без чувств.
Эта река была Вычегда, по ней часто плавали лодки. С одной из них заметили лежавшую на берегу девушку. На той лодке плыл великокняжеский чиновник Иван Беляк, возвращавшийся с верховьев Вычегды, куда он ездил за данью. Родом он был из Вологды. Человек уже не молодой, добрый, он пожалел Бур-Ань…
Ее привели в чувство, напоили и накормили, а когда Беляк узнал, что она сирота и не знает даже в какой стороне находится селение, в котором жила, он предложил ей ехать с ним в Вологду и быть у него вместо дочери, на что она и согласилась.
До Вологды они добрались нескоро, потому что Беляк заглядывал в некоторые зырянские селения, стоявшие по берегам Вычегды и собирал установленную дань или ясак. Наконец, они прибыли в Вологду. Тут девушке пришлось привыкать к русскому обиходу, учиться русскому языку, – и она с жаром принялась за это. По-зырянски Беляк знал порядочно и при его помощи Бур-Ань не более чем через год научилась говорить по-русски. Жена Беляка полюбила ее, как родную дочь; своих детей у них не было и она с радостью говорила, что Бог послал им дитя. Девушку так и стали называть богоданною.
Однако Бур-Ани было неспокойно. Она полюбила Беляка и его жену, ей нравилась сытая, безопасная и привольная жизнь в большом городе, но сердце ее порой щемило и мысли уносились к своему лесному народу, жившему в дикости, бедности и трудах – спутниках зырянской жизни.
Много нового узнала она в Вологде: узнала какова русская земля, каковы обычаи русских, каково число и могущество их, какова их христианская вера, и, тем не менее, ее тянуло назал, к зырянам, туда, где ничего этого не было…
Много дум передумала Бур-Ань, пока жила в Вологде. В голове у нее появлялись мысли и удивлявшие, и смущавшие ее. Ей думалось, что стыдно ей жить в богатом городе, в семействе великокняжеского чиновника, в сытости и довольстве, в то время, когда зырянский народ страдает от голода и холода, вечно борясь с нуждою. Ей думалось, что она – зырянка по рождению – не должна отвертываться от своего народа, а должна сочувствовать и помогать ему по мере возможности. И она не помнила уже того времени, когда этот же самый народ, в лице жителей селения, где она когда-то жила, мучил и притеснял ее. И она думала о том, каким путем послужить своему народу, и, наконец, этот путь был ей указан.
Однажды, это было весною, на третий год ее жизни в Вологде, в доме Беляка, явился молодой человек с добрым, кротким лицом, в монашеской одежде и пожелал увидеть хозяев, но их дома не оказалось, и он разговорился с Бур-Анью. Девушка рассказала ему о себе, рассказала, что она думает и никак не может придумать, как бы помочь своему народу, как облегчить его участь, и при этих словах слезы огорчения выступили у нее на глазах. Потом она объяснила, что еще не крещена в христианскую веру и желает быть пока в одной вере со своими единоплеменниками…