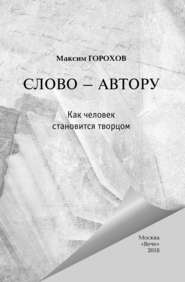скачать книгу бесплатно
«Бизнес – это война»
– От политики перейдем к бизнесу, которым вы занимаетесь более 30 лет. Что скажете о положении предпринимателя в сегодняшней России?
– Бизнес – это война. Год здесь идет за три. И каждому предпринимателю в нашей стране нужно выдать медаль. Он постоянно находится в состоянии борьбы с окружающей атмосферой: апатией народа, административной системой, которая гнет и душит. Чиновник всегда находит способ тебя ободрать: запретили частые проверки – повысили штрафы. Все снова откупаются. Что делать? Перемешивать элиту. Обеспечить сменяемость. Никакого секрета. Нет плохих и хороших. Все во власти пригреваются и начинают играть по ее правилам.
– А каковы ваши личные правила бизнеса?
– Во-первых, у тебя должна быть идея. Во-вторых – люди, готовые ее подхватить. В-третьих, нужны деньги для развития.
В-четвертых, необходимо соблюдать закон. И наконец, необходимо делиться.
– Как заработать деньги, но не дать им себя поработить?
– Как и всякая вещь, они обладают двойственными качествами. Расширяют степень свободы, дают возможности: увидеть мир, начать новое дело, развиваться и двигаться дальше. Но если становятся самоцелью и ты начинаешь вокруг них приплясывать, то деньги превращаются в вериги. Появляется куча проблем, обязательств. Всю жизнь можно потратить на то, чтобы накапливать капиталы и с утра до вечера ими управлять.
Сам я всегда умел жить по средствам. Даже когда в армии получал 3 рубля 80 копеек, рубль у меня оставался.
Важно во внутренней системе ценностей расставить приоритеты – что главное, что вторичное. И тогда все обретет форму. У меня есть семья, ответственность перед людьми. Есть творчество. И оно требует подпитки. Много ли мне самому надо? На кашу и ботинки в любой ипостаси могу заработать. А когда ставишь большие цели – издать книги, выпустить передачи, посетить для этого самые разные места – нужны средства для их достижения. И сам процесс зарабатывания становится не таким тупым занятием.
– Как сегодня вы понимаете успешную карьеру?
– Ты тем успешней, чем больше удовольствия получаешь от работы. И чем больше у тебя свободы. Высшая ступень карьеры – когда можно распоряжаться своим временем, мыслями. Независимо от должности и количества денег.
Наверное, сам я мог бы стать крупным чиновником. Или военным – даже мечтал об этом в молодости. Но, отслужив срочную, увидел свою будущую жизнь как одномерную полосу: щелкай каблуками, выполняй приказы.
Захотелось быть как можно меньше встроенным в систему. Поэтому и выбрал журналистику. Конечно, пришлось пройти все редакционные коридоры. Но став собкором «Комсомолки», я мог сам планировать свою работу.
После распада советской системы уже более 25 лет занимаюсь издательским бизнесом. Но и здесь – что построил, то и возглавил. Последние пять лет был еще и депутатом – с меня хватило.
Если бы все эти годы не занимался творчеством, с ума бы сошел.
«Время нужно тратить на жизнь»
– Объехав множество стран и городов, вы поселились в сельской местности – поближе к реке и лесу. Какие у современного человека отношения с природой?
– Сегодня это модная тема. Раньше человек мнил себя царем мироздания. Но на самом деле мы и природа – равные величины. И природа имеет полное право отомстить, уничтожив наш вид. Он ведет себя абсолютно неразумно, доминируя на планете. Уничтожает среду обитания, неконтролируемо размножается. И рано или поздно мы будем жестоко наказаны. Потому что живем как алкоголики, опрокидывающие рюмку за рюмкой. Умножаем уже не ценности, а ненужное барахло. Без всякой нужды меняем телефоны, машины… Сжигаем миллионы тонн топлива, хотя должны перейти на другие источники энергии. Наказание это будет жестоким, но полезным. В чем оно выразится, не знаю. Наверное, в очередной катастрофе. Тогда мы изменим свое мировоззрение. Поймем, что не надо нам 150 рубашек и авто в тысячу лошадиных сил. А пока находимся на грани.
– Не мешает ли вам это отшельничество оценивать текущие события, на которые вы, получается, смотрите не изнутри, а со стороны?
– Сегодня можно жить в деревне и быть абсолютно вовлеченным во все события. Потому что СМИ и интернет настолько охватили мир, что человек никуда от них уйти не может. Теперь все с собою носят и телевизор, и газету, и источник распространения разного рода слухов в виде планшета или айфона. Так что не получается отшельничать. Это дает только возможность хотя бы на какое-то время от суеты отойти, посидеть, подумать. Да я и не считаю, что главная задача человека – спрятаться от жизни. На сегодняшний момент важно своей верой, своим поведением, примером двигать других. Иначе, если все попрячутся, кто будет в этом мире показывать дорогу?
– Как человек, столько успевший в своей жизни, дайте совет: на что тратить время в детстве, молодости, зрелом возрасте?
– Время нужно тратить на жизнь. Течет оно для всех по-разному. Убыстряется, когда нет ничего важного. И растягивается, если ты видишь и познаешь что-то новое. В детстве почему день казался таким длинным? Потому что мы столько всего узнавали. Сегодня тоже бывает, в путешествии прошел день-два, а у тебя масса открытий. Как будто маленькую жизнь прожил. А звонишь на работу – там ничего не происходит. В результате многие не замечают, как пролетают года. Потому что и не живут толком. Другие же успевают получать массу впечатлений от каждого дня: их мир – интересный, яркий, насыщенный. А ключом к этому является творчество. Причем в любой доступной человеку сфере.
«Сегодня необходим человек-творец»
– Вы даже порой говорите о необходимости новой религии – религии творчества…
– Чтобы человек был творческим, нужно не просто желание, а некое долженствование. Почему в своих «Канонах розы мира» я говорю: человек должен очистить разум, а потом творить. Это и есть сегодняшний уровень философии, религии и жизни. Счастье – в творческом труде. Ведь Бог – творец! На каждом этапе мы обращаемся к нему по-разному. У него же тысяча наименований: всемилостивый, всеблагой, вселюбящий, всепрощающий… Но наступает такой период, когда должно измениться наше представление о нем. Бог поворачивается к нам творческой стороной. Он сотворил этот мир и требует от нас сотворчества. Причем, как я подозреваю, процесс творения еще не закончен. Господь запустил его и наблюдает, корректирует.
Карл Маркс говорил, что самое большое богатство при коммунизме – это свободное время. Чем должен занимать его человек? Творчеством! Смысл жизни – в движении, в постоянном, непрерывном духовном росте. И вот когда человек становится творцом вместе с Богом, он начинает двигаться, в своем развитии поднимается на ступеньку выше.
Благодаря техническому прогрессу рутинные операции постепенно уходят. У людей высвобождается время, энергия. И они могут творить – в самом широком смысле, каждый на своем месте. Время дикости прошло, и наступает другая эпоха. Мы подступаем к моменту, когда нужен человек-творец в массовом масштабе. Поэтому любая религия должна измениться – стать религией творчества. Человек должен творческий акт совершать как молитву. Когда он станет сотворцом Бога, жизнь его начнет обретать смысл.
Такой человек всегда творит, чем бы ни занимался. В первой части моего романа «Русский крест» главный герой коров пасет – он пасет их творчески: в его голове складывается не то, что он какой-то пастушок-сирота, а ковбой, участвует в соревновании, ставит мировой рекорд по уборке навоза… Все можно делать творчески, когда ставишь себе задачи, которые хочешь выполнить блестяще: семью создать, огород вспахать. В этом и есть высший смысл, который примиряет с рутиной.
Творчество охраняет от всякой ерунды, которая на тебя сыплется. Сразу выстраивается система ценностей. Машина сломалась, котел в доме в мороз остановился – это все переживем, есть же другое, за что есть смысл бороться, чему радоваться. В процессе творчества человек защищен – может не есть, не пить, он полностью погружен в свое. Как бы ни пытались его ущемить, выбить из колеи, каких бы сложных задач перед ним ни ставили – занимается главным.
По себе знаю: если что-то пишу, работаю, то прекрасно себя чувствую, у меня всегда настроение хорошее, энергия приливает. То, что называют благодатью, приходит ко мне, когда я творю. И думаю, Бог испытывал похожие чувства, когда создавал этот мир – планеты, космос.
Глава 2
«Людей интересуют люди»
– Александр Алексеевич, почему вы решили обратиться именно к этой теме? 1991 год. Время непростое. И вдруг – любовь.
– Вообще, журналист движется за временем – должен всегда его чувствовать. Что происходит на дворе? Какие процессы протекают у людей в головах и обществе в целом? Какие вещи он видит вокруг себя? И еще есть такое понятие, как болевой порог. Когда я учился на факультете журналистики, у нас был преподаватель, который говорил, что наша профессия без пониженного болевого порога, без ощущения других людей бесполезна. Если ты не чувствуешь боли окружающих, не пытаешься им помочь, ну какой ты публицист?
Статья «Я люблю» (см. Приложение. – М. Г.) писалась, когда появилась новая журналистика, сейчас уже отживающая свой век. Это была журналистика сенсаций, фактов – требовалось подавать их все острее, все жаренее, порой – страшнее. Возможности расширялись.
Сегодня уже дошли до того, что с утра до вечера обсуждают интимные подробности: кто кого, сколько раз и в какой позе. В то время так не было принято. Настоящие журналисты понимали, что надо сохранить в профессии что-то, грубо говоря, святое. А вторая сторона вопроса заключалась в том, что пошел процесс разложения всего на свете: за распадом страны начала распадаться жизнь людей. То есть государство стало разваливаться, едва ли не каждый регион – провозглашать свои ценности. Выкрикивать, как Украина сейчас: вы такие, а мы такие!
Вещи, за которые можно держаться
– Это было во всех 15 республиках, да еще в областях самой России: такой шум, гам и треск поднялся. А следом начали распадаться человеческие связи: дружба, любовь, какие-то вещи, которые раньше людей объединяли. Этому процессу нужно было дать оценку, противостоять, предложить что-то взамен.
И в подобной ситуации ты как журналист начинаешь думать: смотри, все разваливается. За что человеку внутренне зацепиться? Нам-то всю жизнь объясняли, что надо держаться за советскую власть, за гуманизм, за коммунизм. А тут – полный распад прежней системы. И с одной стороны, требовалось проанализировать, что же все-таки ее скрепляло, а с другой – предложить людям что-то новое.
В данной статье речь шла о том, каким образом советская власть, начиная с момента ее появления в 1917 году, отвечала на ключевые вопросы человеческих взаимоотношений. Я люблю историю, всегда изучал ее – вот и начал ковыряться в проблемах, которые были обозначены в то время. В частности, там я пишу, как пытались обобществлять женщин, а потом и детей – предлагали воспитывать их в интернатах. Пропагандировали свободную любовь. И так далее.
Когда создавалась статья, уже стали появляться конкретные факты. А факты эти очень простые. Редакция была слепком Советского Союза. «Комсомольская правда» – газета, которая издавалась по всем странам нынешнего СНГ, да еще за рубеж выходила, и поэтому в ней работали корреспонденты, которые представляли разные культуры.
Я смотрел, какие ситуации складывались в бывших республиках, в семьях. У меня был коллега Азер Мурсалиев – собкор в Баку, жена у него – армянка.
А в это время, если грубо говорить, азербайджанцы стали выгонять армян из республики и начались погромы. В нашем представлении это была абсолютная дикость: людей убивали, женщин насиловали.
Мои знакомые тоже оказались в этой истории. Кто-то их вывез – семья кое-как убежала в Москву. И они стали рассказывать, что происходит, как наш некогда единый советский народ «вывернул шубу». Только что все были братья, друг друга уважали – а тут даже наши люди из центральной московской газеты вынуждены бежать в столицу, чтобы скрыться.
Тогда я понял, что надо высказаться по этому поводу. Поставить вопрос о том, что в жизни человека есть какие-то вечные ценности, независимо от государства, общественного строя или морали, которая сегодня одна, а завтра – другая. Как я говорю, есть мораль, а есть нравственность: первая меняется в зависимости от ситуации и состояния людей, а вторая включает представления, которые не поддаются никаким метаморфозам.
И тогда я решил, что только такие вещи, как любовь и семья, могут быть ценностными для нового, нарождающегося общества и способны удержать нас на плаву. Раз больше нет страны, нет советской морали, нет закона, за них и надо бороться, чтобы вместе, взявшись за руки, перейти вброд это бурное время.
Вот так появился замысел статьи «Я люблю». Возможно, она была и для меня основополагающей. Я ведь такой же, как все остальные. И решал эти вопросы не только для других, но и для себя. Описывал метания не только своих героев. За что держаться мне самому? На что опереться? Я тоже родился и 17 лет прожил в Кабарде. Потом переехал в Казахстан, где провел целых 22 года. Там были друзья, жена и двое детей, которых еще не успел вывезти. Так что все эти вещи меня крайне волновали.
А когда пишешь о своей жизни, ты пишешь искренне, ничего не выдумывая. И тогда у тебя в статьях появляется то самое, что и должно быть – искра, зажигающая самых разных людей. Просто большинство не может высказать эти же мысли так складно – оно как будто немое. А журналист способен выразить свои поиски смысла жизни и передать эмоции – так, чтобы это нашло созвучие в настроениях масс.
Тираж «Комсомолки» тогда был гигантским – 22 миллиона. И слово ценилось куда больше, чем сегодня, когда никто ни за что не отвечает. Оно было на вес золота. Люди газетам верили.
В этой ситуации нельзя было ошибиться. И я для себя тогда определился: ну ладно, все рухнуло – и хрен с ним. Все разбегаются. Но есть же вещи, за которые можно держаться: семья, любовь, дети. И ради них, ради их будущего нужно продолжать жить, работать, бороться – всплывать, а не тонуть.
Вот так и появилась эта идея. Остальное – дело техники. Статья вроде философская, а как ее сделать живой? Естественно, существовало правило: для затравки надо взять человека, рассказать о его судьбе и потом ее умножить на миллионы других. Напомнить историю, подвести факты – чтобы стало понятно: это не просто одна судьба, а общественное явление. И давайте теперь будем решать, что с ним делать.
– Этому вас учили на журфаке, или уже когда вы в «Комсомолке» работали?
Таким вещам не учат – сам доходишь. В «Комсомольской правде» было так: «Милый, на хрена ты мне принес какую-то кучу фактов?» Это никому не нужно. Человеку всегда интересен другой человек, его жизнь. Поэтому если хочешь написать серьезную статью, с историческим контекстом, то, естественно, тебе надо найти героев и на их примере все изложить. Сейчас так уже почти не делают. А зря – может, и газеты настолько быстро не умирали бы.
– Вас подтолкнула история ваших коллег, а потом в начале статьи вы описали некую обобщенную ситуацию? Или это тоже реальные люди?
– Тогда не принято было жаловаться и говорить о своей судьбе. Журналисты – вроде как солдаты партии, которые не должны сами вылезать на экраны, на страницы газет. А должны заниматься другими людьми. Не буду же я писать: вот наш корреспондент, его жену избили… Поэтому просто взял из почты подходящее письмо. В редакции был огромный отдел, который эту почту читал. Там человек 40 работало, конверты приходили мешками. Это сейчас в интернете отклики на статью – два, три десятка или сто. А тогда сотни писем присылали. Только в Сети сегодня почти никто не может двух слов связать – либо ругается, либо мычит, как корова, а в те годы люди писали связно и грамотно. Так что я попросил подобрать подходящее письмо, интересную судьбу. И использовал его в качестве зачина.
– Сколько вы работали над этой статьей?
– Этот процесс всегда приблизительно одинаковый. Сначала приходят в голову какие-то вещи. Недели две сидишь, размышляешь – созревает идея статьи. Начинаешь собирать факты – на это уходит еще две-три недели. Потом за неделю можно оформить материал. Раньше же не писали, как сейчас: с первого раза – вкривь, вкось, с ошибками. Требовалась, чтобы была выверена каждая строчка, каждое слово. Поэтому пишешь, переписываешь, какие-то факты выбрасываешь, какие-то, наоборот, ищешь и добавляешь. Главное – в то время нельзя было соврать: люди читали грамотные.
Если я пишу в этой статье, например, о том, как революционеры принимали свои декреты, касавшиеся женщин, то не могу же это из пальца высосать. В «Комсомольской правде» была большая библиотека. Хочешь что-то найти – идешь туда, заказываешь литературу. Тебе приносят нужные материалы – садишься и начинаешь копаться, работать. Вот так делали статьи. По-другому не получалось.
Зато сейчас можно врать – и не поймешь, где правда, а где брехня. Меня это очень напрягает в интернете: чему верить, а чему нет? Чем еще хороши газеты: там не врут так беззастенчиво и нагло. А вот один известный телеканал недавно снова обещал конец света: к планете, мол, летит огромный астероид. 12-го числа готовьтесь помирать. Пришел этот день – и ничего. С кого спросить?
Найти свою тему
– При работе над статьей «Я люблю» вы выбрали тему самостоятельно или предварительно согласовали ее с редактором? Была ли в этом смысле свобода творчества?
– Когда ты еще молодой корреспондент и не понимаешь, о чем и как надо написать, с «этажа» тебе присылают тему. Или дают читательское письмо – разберись. Я так первую статью в центральной «Комсомолке» написал о дедовщине. И в итоге вообще стал первым, кто в Советском Союзе рассказал об этом явлении на страницах газеты. Называлась она «Однажды в кубрике». Потом было еще много статей. Но, став в начале 1990-х заведующим корреспондентской сетью, я как начальник получил больше свободы. В потогонной системе уже не работал: хочешь пиши – хочешь нет. И мог сам выбирать, какой темой заняться. У меня ведь все равно на душе свербило. Что это я сижу, как чиновник, с утра до вечера, и какой-то ерундой занимаюсь? То региональных корреспондентов погоняю, то строчки их считаю, то таскаю материалы на летучку и говорю: вот он, бедный сирота, ему детей кормить – поставьте его заметку в номер. Самому мне хотелось написать что-то стоящее, отличиться. А такую статью подготовить – не то же самое, что по заданию смотаться в Баку, Ереван или Таджикистан по конкретному инфоповоду. Поэтому сидишь, занимаешься осмыслением, в библиотеку ходишь. Выписываешь книги, разбираешься. И потихоньку-полегоньку собираешь материалы.
Так был написан целый цикл статей подобного типа: «Бедность», «Коррупция», «Жестокость», «Быль о правах», «Революция на экспорт», «В гостях хорошо? А дома плохо…», «Русский вопрос», «Великая автомобильная мечта» и другие. В то время это все было в новинку, и такие исследования шли на ура.
«Комсомольская правда» тогда выходила всего на четыре страницы. А только на «этаже» у нас пишущих работало 110 человек, и еще 40 – корреспонденты по всему миру. Существовала жесточайшая конкуренция, чтобы вообще на полосу попасть. А уж чтобы тебе ее целиком выделили – можно только мечтать. Но я вот нашел свою тему. (Вообще, каждый журналист должен это сделать.) И цикл статей возник исходя из простой вещи: на новом этапе надо было понять советскую действительность, уже по-другому ее осветить. Нам же как говорили: у нас коррупции нет, бедности – тоже. А эти публикации развенчивали такие представления. То есть впервые было сказано, что та же бедность все-таки есть. А почему? Потому что так у нас государство построено.
– А откуда вообще взялась эта позиция развенчания советской действительности? В вас какое-то внутреннее диссидентство сидело, либо это стало установкой издания в целом?
– Да, сидело. Причем всегда. Есть такое психологическое правило: чтобы идти дальше, надо разобраться с прошлым. Оттолкнуться от чего-то. Признать, что это неправильно, и шагнуть дальше. Был как раз такой период.
Но вскоре разоблачение стало общим местом. И уже многие продолжили глодать ту же самую кость. Чем я горжусь, так это тем, что никогда не повторяюсь. Написал вот статью о мафии – о том, что в СССР она тоже существовала – и больше мне это не интересно.
Но со временем развенчание советской власти осточертело и всем остальным. Сейчас в силе другой тренд. Мол, в то время все было хорошо: страна прекрасна, жизнь чудесна. Прошло 25 лет – и люди забыли. Пресса поворачивается вслед за ними: «Вот если бы не развалили великую страну… А кто развалил? Ааа, эти негодяи – Горбачев да Ельцин…» Ничего подобного!
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: