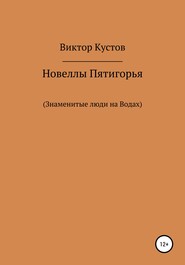скачать книгу бесплатно
Новеллы Пятигорья. Знаменитые люди на Водах
Виктор Николаевич Кустов
Северный Кавказ, и особенно Кавказские Минеральные Воды, в конце XIX начале XX века стали местом паломничества талантов государства Российского. В этом сборнике 25 новелл о пребывании на водах известных исторических личностей. Книга предназначена для широкого круга читателей.
Виктор Кустов
Новеллы Пятигорья. Знаменитые люди на Водах
«Я ждал беспечно лучших дней»
– Ну, Пущин, что же ты так долго обижаешься? – блестя голубыми глазами, выделяющимися на загоревшем и обветренном после долгого путешествия лице, Пушкин смотрел на товарища. – И отчего всё не можешь простить Дорохова?.. С ним так замечательно проводить время. И любая дорога незаметна и коротка. Ну, прости его, наконец! Он так виноватится и обещает никогда больше столь нехорошо не поступать.
Пушкин всё расхваливал достоинства Дорохова, которого и знал-то всего ничего, но отчего-то обязательно хотел с ним ехать вместе.
Пущин продолжал обиженно молчать.
– Бедный Руфин нижайше, – Пушкин выделил это слово, – просит твоего прощения и позволяет прибить его, ежели он не сдержится и ударит какого-нибудь нерасторопного неумеху… – Подавшись к тому, не так громко и более серьёзно добавил: – Поручик немало пережил, прости же ему его несдержанность… – И то ли попросил, то ли уже отметил преимущество принятого решения: – Пущин, нам славно будет ехать втроём…
Он не сомневался: Пущин уже согласен, лишь делает вид, демонстрируя свою приверженность либеральным взглядам. Естественно, поступок Дорохова не делает тому чести, как бы неловок ни был денщик, тузить его, да к тому же прилюдно, совсем не обязательно. Но судьба Дорохова делает этот поступок достойным снисхождения и даже описания: он обязательно выведет его в каком-нибудь из своих сочинений. То, что он уже услышал от Дорохова, вызвало в нём неподдельный интерес и сочувствие. Это же надо, в тот самый год, когда он с Раевскими впервые приехал на Воды, Дорохов, сын генерала, был разжалован из прапорщиков в рядовые «за буйство и ношение партикулярной одежды», следующие семь лет прослужил рядовым на Кавказе и лишь спустя это время «за отличие против персов» сначала произведён в унтер-офицеры, затем в прапорщики и, наконец, «за отличие в сражении против турок» – в поручики. Он живо представлял, сколько интересных историй может тот рассказать…
И из-за обиды или взглядов Пущина упустить случай пообщаться с таким человеком, расспросить его о перипетиях судьбы и геройстве?..
– Пущин, голубчик, он ведь такой же боевой офицер, как и ты… И, поверь мне, твой брат и мой лицейский друг простил бы его… -привёл он последний аргумент.
– Ну, хорошо, хорошо, – наконец сдался тот, всё ещё выдерживая строгое выражение лица. – Пусть едет. Но более никакого самодурства…
– Он клянётся…
…Дорога из Владикавказа до Горячих Вод в компании с милейшим, но уже изрядно наскучившим Пущиным и импульсивным Дороховым и впрямь оказалась короткой. Дорохов, несмотря на перенесённые неврозы и несправедливость, выпавшие на его долю, держался с естественным достоинством, любую беседу поддерживал к месту, делая меткие замечания и выказывая завидные знания о разных предметах. И, в то же время, по любому пустяку готов был вспыхнуть, и только благодаря дипломатичному Пушкину они доехали без каких-либо эксцессов. Чуткий Пушкин умел вовремя перевести любой острый разговор на менее спорную и волнующую тему и всё старался выпытать у Дорохова про его службу и подвиги. Но тот не был настроен, видимо, из-за строгого Пущина на воспоминания, и он сам охотно стал рассказывать о своих впечатлениях от драгун и казаков и о том, как они с Потокским поднимались на Крестовую гору, а по дороге им пришлось преодолеть «Чертову долину» и «Ледяной мост». Под ним тогда был прекрасный конь, и эта поездка, виды совсем близких белых вершин, дыхание легенд, которые помнили эти места, зарядили его, даря незабываемые впечатления. Поразил и природный контраст, когда от холодных вершин спустились к Арагве, в зной и лето…
Рассказал и о печальной встрече за Кавказскими горами с покойным Грибоедовым, с которым до своей отставки служил в одном департаменте.
– А я ведь последний раз виделся с ним в Петербурге в прошлом году, – поделился Пушкин с попутчиками тем, что отчего-то никак не оставляло его, настолько разительное было это сопоставление: язвительный живой Грибоед и его безмолвное тело. – Он тогда как раз собирался в Персию. Ах, как печально, что его уже нет… Но вы знаете, – и, повернувшись к Дорохову, выказывая ему этим своё расположение, продолжил: – Ты это поймёшь, поручик, его судьбе можно позавидовать… – Сказал и бросил взгляд на Пущина. Тот был, как всегда, серьёзен, а Руфин слушал с интересом. – Думаю, смерть для него не была ужасна, она была мгновенна и прекрасна. Я знаком с ним десять лет и, хотя товарищами мы не были, смог разобраться в нём. Говорят, он был безмерно честолюбив… Но ведь и мил… А его «Горе от ума» полно метких выражений, пусть и не всегда выдержаны характеры…
И он пустился в пространные рассуждения о том, что для того, чтобы стать любимцем славы, совсем не обязательно командовать войсками, подобно Наполеону или Кутузову, и что комедия «Горе от ума» есть несомненный успех, ставящий автора в ряд с первыми поэтами. А женитьба по любви на иноземке свидетельствует о сильном характере и завидной страсти…
Сказав об этом, он на какое-то время изменился в лице, вспомнив своё неудачное сватовство к Гончаровой, отчего, собственно, и сбежал сюда, на Кавказ, и попросился в Арзрум, в войска, к Раевскому, к туркам, может быть, даже втайне мечтая либо отличиться в каком-нибудь сражении, либо получить рану и вернуться отмеченным печатью мужества, позволяющей ставить себя выше всяческих обид и заслуженно принимать восторги девиц…
Когда разговаривать надоедало (в карты играть Пущин не разрешил), Пушкин брал у одного из казаков, сопровождавших их, лошадь и скакал от тракта в степь, заставляя волноваться и спутников, и сопровождающих. Наездник он был замечательный, держался в седле уверенно, и, наблюдая за ним, те и любовались ловким всадником, и опасались, не наскочили бы невесть откуда горцы.
Но Бог был милостив.
Так незаметно и довольно скоро доехали до Горячеводска.
Быстро разместились на недолгое житьё, и Пущин, который собирался уже на следующий день отправиться в Кисловодск, прописанный для лечения его раны, предложил немедля, пока солнце не зашло, осмотреть городок.
Пушкин, настроение которого отчего-то изменилось в худшую сторону, составить компанию отказался.
– Я уж тут всё знаю как свои пять пальцев, – сказал он. – Пожалуй, лучше останусь.
– Я намерен завтра же отправиться дальше, – напомнил Пущин.
– Не замедлю следом, – заверил Пушкин. – Только вот завтра с тобой ехать не в состоянии. Хочу здесь денёк-другой отдохнуть.
Оставив товарища в полной уверенности, что тот действительно проведёт это время восстанавливая силы, вернувшийся уже потемну, Пущин застал за картами возбуждённых Пушкина, Дорохова и мало знакомого им офицера Астафьева6, о котором ходила слава не только как о приятном собеседнике, но и азартном картёжнике, игравшем не столько из интереса, сколько с желанием улучшить своё материальное положение.
В ответ на осуждающее выражение лица вошедшего, помня о своём обещании, данном Пущину, не играть во время путешествия, Пушкин поспешно оправдался:
– Мы довольно терпели, но ведь слово было дано не играть до Вод, а здесь мы выходим из-под твоей опеки… – И услужливо пододвинул стул. – Пущин, не хочешь ли и ты присоединиться к нам?..
– Ты прав, слово было дано не играть между собой до Вод. Ты слово сдержал… – принял оправдание тот, но играть отказался.
Да и компания скоро расстроилась, было уже поздно. Довольный немалым выигрышем, ушёл Астафьев. А немного погодя и Дорохов.
Когда остались вдвоем, Пущин спросил:
– Разве тебе знаком Астафьев?.. Как он оказался в вашей компании?
– Очень просто, – беззаботно ответил Пушкин. – Мы начали играть с Дороховым, а Астафьев, проходя мимо, зашёл познакомиться. Оказалось, что он добрый малый и в карты любитель поиграть.
Пущин собрался было сказать что-то важное, да, глядя на безмятежное, несмотря на проигрыш, лицо Пушкина, промолчал. Но на следующий день перед отъездом не выдержал.
– Дай мне твёрдое обещание не играть с Астафьевым?.. Он умелый игрок, и о нём идёт дурная слава. Ты не сможешь отыграться.
– Ну уж дудки! – вспыхнул Пушкин. – Обещания не даю, Астафьева не боюсь…
– Смотри, как бы потом не пожалел, – мрачно предрёк Пущин, отправляясь в путь.
– Я его не боюсь, – вновь повторил Пушкин, торопя отъезд и ощущая себя шаловливым ребёнком, которому не терпится поскорее остаться одному без всякого контроля.
Он проводил взглядом отъезжающего Пущина, который казался ему гораздо старше своих лет, и вздохнул с облегчением: даже дружеская опека его досаждала. Он не сомневался, что и так за ним учинён секретный надзор, что, помимо добрых друзей, у него немало и врагов, радующихся его неудачам. Что же касается Астафьева, тот действительно игрок серьёзный, но оттого-то и азартно, оттого-то и хочется вернуть проигранные деньги…
Но задержаться в Горячеводске он решил исключительно по другой причине, тайной, о которой никому не говорил. Если по пути в таинственный Арзрум он не давал воли воспоминаниям о первой – давней – поездке в эти места, то теперь эти воспоминания, не сдерживаемые более отвлекающей новизной дороги и неведомыми прежде впечатлениями, нахлынули, вызывая ностальгические и трепетные чувства. Не так давно он написал строки, которые посвятил Наталье Гончаровой, но самому себе должен был признаться, что за скользящим по бумаге пером ему виделся другой образ. Правда, этот волнующий образ уже навсегда остался в прошлом (хотя его можно было угадать и в юной Натали, которая, несомненно, он так решил, будет его женой), олицетворив собой всех, чьи черты когда-то заставляли учащённо биться его сердце. И прежде всего, черты Марии, Машеньки Раевской, которая жила в его памяти нежной, ангельской чистоты девочкой, не ведавшей, какие испытания ей доведётся пережить… Вспоминая тёплые томные вечера в этом южном городке, располагающие к возвышающим размышлениям и страстной любви, он начал было стихотворение строкой: «Всё тихо, на Кавказ идёт ночная мгла…», но потом подумал, что его будущей жене трудно будет объяснить эти строки, и начал иначе:
На холмах Грузии лежит ночная мгла;
Шумит Арагва предо мною.
Мне грустно и легко; печаль моя светла;
Печаль моя полна тобою,
Тобой, тобой одной… Унынья моего
Ничто не мучит, не тревожит,
И сердце вновь горит и любит- оттого,
Что не любить оно не может…
Писал и попеременно видел перед собой два образа. Тот, давний, уже в пелене минувшего, отдалившийся и вызывающий светлую грусть невозвратных воспоминаний, и сегодняшний, трогательно юный, в тумане грядущего обещающий счастье и радость…
Нынче он сам выбрал это путешествие, а тогда, девять лет назад император, обидевшийся, раздосадованный его вольнодумством, отправил на юг, подальше от столицы, от двора, дабы он понял непристойность и неблагодарность своего поведения. И он вынужден был подчиниться, хотя, признаться, не особенно и страдал от подобной немилости: ему нравилось видеть новые места и людей, а обида императора не очень волновала. Он ехал с удовольствием, впитывая дорожные впечатления, предаваясь созерцанию новых, так разительно отличающихся от родной стороны мест, останавливаясь больше положенного там, где ему нравилось, и в приднепровском селении, недалеко от конечной точки назначения, его больного и нашёл лицейский товарищ Николай Раевский, едущий с семейством на Кавказ. Он незамедлительно направил к нему семейного лекаря, который сразу же взялся лечить от лихорадки, вызванной, как считал Пушкин, недавним купанием в Днепре, и, не ожидая полной поправки, они все вместе поехали лечиться водами. И сёстры Раевские, совсем девочки, очаровательные, восторженные, заставляли сердце поэта ускорять свой бег, он долго не мог понять, которая из них ему нравится больше, но с Марией ему всегда было легко и просто, и стихи, посвящённые ей, рождались без всякого труда…
В ту поездку он впервые увидел снежные зубцы Кавказского хребта. Увидел прежде издалека, с вершины возвышенности, на склоне которой в одну улицу снизу вверх поднимался Ставрополь -крепость, форпост России в этих безлюдных степных просторах, городок военных, казаков и торговцев. Эти снежные зубристые вершины, пересекающие весь горизонт, словно вгрызающиеся в белесое небо, поразили его и в этот раз, когда он ехал через тот же Ставрополь в Арзрум. Поразили своей неизменностью и незыблемостью по сравнению с быстротечностью человеческой жизни…
Боже, сколько событий прошло с той поры…
Тогда он был моложе…
Он был совсем другим…
Они все были другими.
Отец его товарища генерал Раевский был ещё бравым и энергичным. Его лицейский товарищ Николай Раевский – полным мечтаний и надежд молодым офицером. Как ему завидовал Пушкин, ведь тот отроком в тринадцать лет был с отцом и при Бородино, и под Смоленском, и дошёл до Парижа…
Нынче Раевский-младший уже генерал, командует драгунским полком, и к нему, собственно, и ехал Пушкин. И теперь он знает, в какой палатке пережидает затишье между сражениями его давний друг. И как воюет брат Лев, встрече с которым он тоже был несказанно рад. Тот горд, что служит под началом Раевского, участвовал в персидско-турецкой кампании. Он стал совсем взрослым и, несмотря на то, что младше, кажется более умудрённым.
Война, несомненно, меняет людей.
Война и Кавказ.
В этих местах есть нечто, таящееся в самом воздухе. Когда они с Потокским спустились с Крестовой горы и встретили гонца, спешившего в Петербург с донесением о славной победе над турками, он не смог сдержать охвативший его восторг и от этой вести, и от буйной растительности после оставшегося наверху снега, и от щедрого солнца, крикнул «ура», подхваченное спутниками, и даже стал советовать спешить в армию: «Война может скоро кончиться, и вы, господа, можете остаться ни при чём, на бобах…» И сам сожалел, что не военный…
Время подвластно только Богу. Жаль, что нельзя вернуть прошлое.
Впрочем, отчего же нельзя…
Я помню море пред грозою;
Как я завидовал волнам,
Бегущим бурной чередою
С любовью лечь к её ногам!
Эти строки он когда-то написал Марии. Они все тогда, включая старших, беззаботно верили в нескончаемое счастье впереди. Правда, он эгоистично считал, что для Маши оно возможно только с ним. Но потом они отдалились, и Мария вышла замуж. И её молодой муж был на Сенатской площади.
А нынче, в далёкой и холодной Сибири, верная своей любви, мужу, пережившая смерть сына, как чувствует себя Мария Раевская?.. Какие волны омывают её ноги?.. Сенатская площадь, на которую он не попал, стала для многих его друзей тем самым Рубиконом, перейдя который, к привычному они уже не могли возвратиться. И в их числе и она, восторженная светлая девочка, любящая и верная жена и отважная, способная на самопожертвование женщина – Мария Волконская…
Будет ли так любить его Натали, как умеет любить Мария своего мужа?..
Пойдёт ли его будущая жена (если судьба уготовила ему такое испытание) за ним в ссылку?
Он не мог однозначно ответить на эти вопросы и оттого огорчался и прогонял их прочь.
И вновь оживлял видения прошлого, навсегда оставшиеся на этих знойных улочках
Как возвышенны и чисты эти воспоминания…
Как целен и благороден образ, который он представляет.
Каково ей теперь в далёком и неведомом ему Иркутске…
Там, должно быть, уже холодно, а здесь, на Кавказе, август ещё жарок и вершины гор, за исключением Эльбруса, ещё не начали обряжаться в белоснежные папахи.
Ах, как же они были здесь счастливы девять лет назад!
Как было всё в новь, свежо, интересно!
Как было мило в окружении славных Раевских. И он тогда посвятил своему другу одно из своих лучших творений. Во всяком случае, все говорили, что оно лучшее…
Прими с улыбкою, мой друг,
Свободной музы приношенье;
Тебе я посвятил изгнанной лиры пенье
И вдохновенный свой досуг.
Когда я погибал, безвинный, безотрадный,
И шёпот клеветы внимал со всех сторон,
Когда кинжал измены хладный,
Когда любви тяжёлый сон
Меня терзали и мертвили,
Я близ тебя ещё спокойство находил;
Я сердцем отдыхал – друг друга мы любили;
И бури надо мной свирепость утомили,
Я в мирной пристани богов благословил.
Во дни печальные разлуки
Мои задумчивые звуки
Напоминали мне Кавказ,
Где пасмурный Бешту, пустынник величавый,
Аулов и полей властитель пятиглавый,
Был новый для меня Парнас.