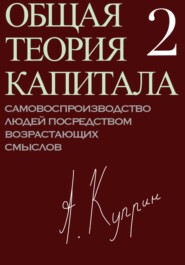скачать книгу бесплатно
В развитом товарном производстве полезность, как мера потребностей существования, становится синонимом товарности, а погоня за денежным статусом становится ловушкой и двигателем для развертывания потребностей. Ускоренная эволюция смыслов, проявляющая себя в форме потребительства и накопительства, стала необходимым условием для разрушения традиционной общины и ее уклада. Самообеспечение было устойчивой формой производства и потребления, которая в силу своего замкнутого характера препятствовала специализации и кооперации деятельности, усложнению и возрастанию смыслов. Даточное и простое товарное обращение, связывавшие общину с государствами и вождествами, лишь дополняли, но не разрушали ее. Государство, церковь и феодалы с их поборами и культами божественного и героического хотя и оказывали давление на общину, не могли и не хотели разрушать ее натуральную производственную основу. Расширение коммерческого общества, соблазны потребительства и накопительства, лишение собственных средств производства, денежное соперничество – вот чем была разрушена община.
По мере развития простого товарного производства происходит разделение деятельности и продуктов на потребляемые самим домохозяйством и те, которые домохозяйство производит для дани или продажи. Община покупает и продает, но покупает и продает только продукты деятельности, но не саму способность к деятельности, не деятельную силу. Разрушение замкнутой общины связано с коммерческой революцией, которая создала развитое товарное производство. Если при простом товарном производстве работник производит потребительные ценности для продажи на рынке, то при развитом товарном производстве он продает на рынке свою деятельную силу. Поскольку работник больше не может продавать продукты своей деятельности, а вынужден отчуждать свою деятельную силу, постольку его деятельность превращается в труд. «…Труд есть лишь выражение человеческой деятельности в рамках отчуждения» (Маркс и Энгельс 1954-1981, т. 42, с. 140). Становясь предметом купли-продажи, деятельная сила превращается в рабочую силу:
«Под рабочей силой, или способностью к труду, мы понимаем совокупность физических и духовных способностей, которыми обладает организм, живая личность человека, и которые пускаются им в ход всякий раз, когда он производит какие-либо потребительные ценности» (Маркс и Энгельс 1954-1981, т. 23, с. 178, перевод исправлен).
Работник не противостоит капиталу как какая-то отдельная сущность. Капитал – это расширенное самовоспроизводство общества-системы, а работник, то есть субъект производства, является такой же необходимой частью капитала, как средства производства. Маркс тоже не избежал того, чтобы противопоставить работника капиталу, рабочий класс – классу капиталистов. На самом же деле и рабочие, и предприниматели – это лишь элементы и моменты в процессе расширенного самовоспроизводства, и их деятельная сила есть та потребительная ценность, которую они могут предложить обществу-системе:
«… Та потребительная ценность, которую рабочий может предложить капиталу, которую он таким образом вообще может предложить другим людям, не материализована в продукте, вообще не существует вне рабочего, следовательно, существует не действительно, а лишь в возможности, как его способность. Эта потребительная ценность становится действительностью только тогда, когда она возбуждается капиталом, приводится им в движение, ибо деятельность без предмета есть ничто или в лучшем случае есть мыслительная деятельность, о которой здесь речь не идет. Как только эта потребительная ценность получает движение от капитала, она становится определенной производительной деятельностью рабочего; это есть сама его жизнедеятельность, направленная на определенную цель, а потому выявляющаяся в определенной форме» (Маркс и Энгельс 1954-1981, т. 46, ч. I, с. 216, перевод исправлен).
Для расширенного самовоспроизводства характерны работа и досуг «по часам». Часы – главным образом, солнечные, водяные и подобные им – существовали уже в античности, но именно появление механических часов знаменовало собой переход на следующую ступень эволюции смыслов, на котором сама деятельная сила стала предметом купли и продажи. Как говорит Дэвид Гребер, «в средневековой Европе люди говорили, что это занимает три “отченаша” или две варки одного яйца – это было широко распространено. Там, где нет часов, время измеряется действиями, а не действия – временем» (Гребер 2020, с. 143). Жизнь «по часам» происходит из средневековых монастырей, но механические часы, возникшие в XIV веке, быстро распространились на часовые башни на городских площадях (см. Мамфорд 2001, с. 347, 372). Великие географические открытия привели к открытию не только новых мест, но и нового времени: потребности морской навигации потребовали уменьшения и повышения точности механических часов и вызвали к жизни хронометр. Наемный труд по сути стал возможен только после изобретения механических часов, которые задали способ систематизации индивидуального труда и сделали возможным деление труда на части. До Нового времени сама концепция купли-продажи труда с трудом укладывалась в головах:
Во-первых, «когда приобретается абстракция – рабочая сила, то покупатель затем использует ее в то время и в тех условиях, которые определяет именно он, а не “обладатель” рабочей силы (и обычно платит за нее после того, как ее потребил). Во-вторых, система наемного труда предполагает установление метода измерения приобретенного труда с целью оплаты; обычно это делается путем внедрения второй абстракции – рабочего времени. “Мы не должны недооценивать масштаб этих двух концептуальных шагов (в первую очередь в социальном отношении, а не в интеллектуальном): они были сложны даже для римских юристов” (см.: Finley M. I. The Ancient Economy. Berkley, 1973. P. 65–66)» (Гребер 2020, с. 407).
До начала Нового времени наемным трудом занимались рабы, так как переход от рабства к наемному труду было проще себе представить, чем переход к наемному труду от состояния свободного ремесленника или крестьянина (см. Гребер 2020, с. 141-142). Развитие наемного труда в Европе является отчасти результатом расширения европейской торговли и завоеваний за пределы континента. Отношения, связанные с наймом моряков и солдат, переносились на отношения с рабочими внутри самой Европы. В Новое время концепция наемного труда распространилась на все общество, превратив его в коммерческое. Купля-продажа рабочей силы стала возможна только тогда, когда работники оказались отделены от тех средств производства, которые прежде позволяли им вести даточное или простое товарное хозяйство:
«… Существенное условие, необходимое для того, чтобы владелец денег мог найти на рынке рабочую силу как товар, состоит в том, что владелец рабочей силы должен быть лишен возможности продавать товары, в которых овеществлен его труд, и, напротив, должен быть вынужден продавать как товар самое рабочую силу, которая существует лишь в его живом организме» (Маркс и Энгельс 1954-1981, т. 23, с. 179).
Расширение товарного производства сопровождалось отделением места производства от места потребления, то есть рабочего места от домохозяйства, и отделением средств производства от непосредственного производителя и от его повседневной деятельности. «Для того чтобы кто-то имел возможность продавать отличные от его рабочей силы товары, он должен, конечно, обладать средствами производства, например сырьем, орудиями труда и т. д.» (Маркс и Энгельс 1954-1981, т. 23, с. 179). Лишение крестьян и ремесленников их орудий труда в виде полей и мастерских было основным условием для превращения их деятельности в наемный труд.
Коммерциализация деятельной силы связана как с разрушением традиционной общины и потерей возможностей для самообеспечения в деревне, так и с развитием промышленности и торговли в городах. Вацлав Смил называет это «толкающие и тянущие силы миграции» (Смил 2020, с. 340, перевод исправлен). В качестве одного из «толкающих» факторов традиционно рассматривается политика огораживания. Однако до XVIII века огораживания происходили в основном за счет изменения баланса сил внутри самих общин, раскачиваемых ветрами коммерческой революции. К 1700 году система открытых полей (при которой участки, обрабатываемые разными хозяйствами, не огораживаются и после сбора урожая возвращаются в общинное пользование) сохранялась лишь на 29% всей территории Великобритании. Только в XVIII веке огораживания стали проводить посредством парламентских актов, так что к 1850 году система открытых полей сохранилась лишь на 8% территории страны (см. Мокир 2017, с. 278). «Тянущими» факторами, которые привели к разрушению самообеспечения и даточного обращения в деревне и основанной на них традиционной общины, стали новые центры континентальной и морской торговли, центры добывающей и перерабатывающей промышленности. Индустриализация начиналась исподволь как надомное производство, когда крестьяне выполняли на дому заказы, размещаемые скупщиками, и лишь постепенно развернулась в фабричное производство, которое потребовало масштабной миграции из деревень в города.
Расширенное потребление есть производство деятельной силы
В традиционном обществе люди воспроизводят свою деятельную силу в общинах, удовлетворяя свои минимальные потребности посредством самообеспечения. В коммерческом обществе рабочие воспроизводят себя и свои семьи, продавая свою рабочую силу. Коммерциализация деятельной силы неразрывно связана с формированием развитого товарного хозяйства, при котором рабочий и его семья не могут самостоятельно воспроизвести себя, поскольку из-за возросшей специализации они больше не могут производить все множество необходимых им продуктов:
«Собственник рабочей силы смертен. Следовательно, чтобы он непрерывно появлялся на рынке, как того требует непрерывное превращение денег в капитал, продавец рабочей силы должен увековечить себя, “как увековечивает себя всякий индивидуум, т. е. путем размножения”. Рабочие силы, исчезающие с рынка вследствие изнашивания и смерти, должны постоянно замещаться по меньшей мере таким же количеством новых рабочих сил. Сумма жизненных средств, необходимых для производства рабочей силы, включает в себя поэтому жизненные средства таких заместителей, т. е. детей рабочих» (Маркс и Энгельс 1954-1981, т. 23, с. 182).
Простое потребление для большинства членов традиционной общины сводилось к удовлетворению минимальных потребностей, необходимых для выживания, и эти минимальные потребности оставались по существу неизменными из поколения в поколение. В условиях традиционного хозяйства принцип наименьшего действия принимал форму минимизации труда. Высокий уровень рождаемости и большая семья были одним из компонентов простого самовоспроизводства:
«Энергозатраты на беременность и выращивание еще одного ребенка пренебрежимо малы по сравнению с его трудовым вкладом, а тот можно получать с очень раннего возраста. Как замечает исследователь: “Иметь много детей и передавать им трудовые обязанности как можно раньше является высокорациональным поведением в крестьянских обществах, где хорошая жизнь равняется минимальным трудовым затратам, а вовсе не обладанию большим количеством имущества”» (Смил 2020, с. 126).
Необходимо повторить, что экономия физических усилий не была связана с леностью крестьян, а вытекала из стратегии сохранения достигнутого: «…Упорное подчеркивание того факта, что крестьяне всегда и всюду рассматривали праздность как первичную социальную ценность, неприемлемо» (Смил 2020, с. 126).
Большая семья, характерная для крестьянской общины, продолжала существовать и даже укрепляться в городах XVIII – XX веков, в том числе благодаря эксплуатации детского труда. Для раннего промышленного рабочего дети имеют даже большую ценность, чем для крестьянина. Затраты деятельности на обучение рабочего в середине XIX века едва ли превосходили, а на самом деле, видимо, отставали, от таких же затрат на обучение ремесленника в середине XVII века. Ремесленный труд требовал нескольких лет ученичества, а дети, занятые на европейских фабриках в XIX веке, не получали почти никакого обучения. Иными словами, минимальное действие на производство рабочего для фабрики было, возможно, даже меньше, чем минимальное действие, необходимое для производства ремесленника парой столетий раньше. Однако в течение XIX века ситуация стала меняться по мере перехода к расширенному потреблению.
Расширенное потребление состоит в постоянном и все более быстром развертывании потребностей. В коммерческом обществе потребности возрастают не только от поколения к поколению, но и для одного поколения на протяжении его жизни. При этом на каждом этапе потребности рабочих и их семей остаются необходимыми потребностями, то есть в общем случае не превышают тех требований, которые выдвигаются по отношению к рабочей силе со стороны общества-системы:
«Размер так называемых необходимых потребностей, равно как и способы их удовлетворения, сами представляют собой продукт истории и зависят в большой мере от культурного уровня страны, между прочим в значительной степени и от того, при каких условиях, а следовательно, с какими привычками и жизненными притязаниями сформировался класс свободных рабочих. Итак, в противоположность другим товарам определение стоимости рабочей силы включает в себя исторический и моральный элемент. Однако для определенной страны и для определенного периода объем и состав необходимых для рабочего жизненных средств в среднем есть величина данная» (Маркс и Энгельс 1954-1981, т. 23, с. 182).
По мере коммерциализации деятельной силы необходимая деятельность постепенно и во все большей степени превращается в стоимость рабочей силы, то есть необходимую стоимость, равную стоимости потребительных ценностей, необходимых для удовлетворения потребностей рабочих и их семей. Энтропия рабочей силы не тождественна ее стоимости, в отличие от Маркса мы не сводим стоимость рабочей силы к количеству труда, необходимого на ее воспроизводство, но необходимая стоимость является показателем требований, предъявляемых обществом к энтропии рабочей силы и сложности труда.
Исторический процесс коммерциализации деятельной силы, превращения необходимой деятельности в необходимую стоимость, имеет свои пределы. В коммерческом обществе место и время работы обособляются от места и времени потребления, а товары и услуги поступают в потребление из производства посредством обращения. Однако и в коммерческом обществе деятельная сила воспроизводится не только за счет деятельности, которая осуществляется на предприятиях, превращаясь в стоимость, но и за счет самообеспечения, то есть внутри домашнего хозяйства. Семья, домашнее хозяйство ставят пределы расширению коммерческого общества, и на протяжении всей своей истории капиталистическое общество-система стремится преодолеть эти пределы.
Люди воспроизводят себя не только в рабочее, но и во внерабочее время, не только в рамках предприятий, но и в рамках домохозяйств. Потребности рабочего и его семьи удовлетворяются как путем потребления товаров и услуг, приобретенных за заработную плату, так и путем удовлетворения потребностей за пределами коммерческого общества: человек спит, питается и выполняет множество других действий, не уплачивая за это деньги. Необходимая деятельность включает в себя не только необходимый труд – производство на предприятиях потребительных ценностей, которые затем поступают в домохозяйства через обращение, но и необходимое потребление – домашние дела и их результаты: приготовление блюд, поход в магазин, уборка квартиры и т. д. и т. п. Если необходимый труд превращается в деньги, в необходимую стоимость, то необходимое потребление превращается непосредственно в продукты и услуги самого домохозяйства. Равным образом прибавочная деятельность включает в себя не только прибавочный труд – то есть производство присваиваемой капиталистами прибавочной стоимости, но и прибавочное потребление – то есть досуг или свободное время.
Выше мы видели, что в традиционном обществе подход работников к распределению времени состоял в том, чтобы между доходом и досугом выбирать досуг, и весь напор расширенного потребления с его потребительством и накопительством был направлен на то, чтобы побудить работников больше работать, а не заниматься собой. Этому напору противостояли природные ограничители. Смыслы эволюционируют, меняя границы между производством и потреблением, между необходимой и прибавочной деятельностью, но общий бюджет времени остается ограничен не только 24 часами, составляющими сутки, но и психофизиологическими особенностями человека – например, продолжительностью сна, необходимой для восстановления сил. Хотя необходимая продолжительность сна различна для разных людей, для большинства она колеблется вокруг 7 – 8 часов в сутки.
Иллюстрация 5. Добавленная деятельность, или распределение времени
На иллюстрации 5 мы делим рабочую деятельность на необходимый и прибавочный труд. Для Маркса это деление означало также деление всего рабочего времени на необходимое и прибавочное рабочее время. В действительности было бы правильнее говорить, что каждая минута рабочего времени содержит и необходимые, и прибавочные элементы. Таким образом, в целом добавленная деятельность делится на четыре части. Из этих четырех частей потребление работника включает в себя три части – быт h, необходимый труд v и досуг f. Прибавочный труд m и его продукты отчуждаются от рабочих и образуют источник для доходов капиталистов:
«Производство прибавочной стоимости или нажива – таков абсолютный закон этого способа производства. Рабочая сила может быть предметом продажи лишь постольку, поскольку она сохраняет средства производства как капитал, воспроизводит свою собственную стоимость как капитал и в неоплаченном труде доставляет источник добавочного капитала» (Маркс и Энгельс 1954-1981, т. 23, с. 632).
В главе 2 мы показали, что сложность смысла, измеренная в культурных битах, в среднем сходится к энтропии человека как источника (контр)фактов. Это означает, что сложность деятельности рабочего в среднем сходится к энтропии рабочей силы, рабочая деятельность сходится к необходимому труду. Откуда же тогда берутся прибавочный труд и прибавочная стоимость? Они вытекают не из личных потребностей и способностей рабочего, а из социально-культурного порядка, из разницы между личной сложностью и сложностью общества-системы в целом. Эта разница проявляет себя двумя способами. Первый способ Маркс называл абсолютной, а второй способ – относительной прибавочной стоимостью. Первый способ состоит в том, что капиталистический порядок принуждает рабочего работать больше, чем это необходимо для воспроизводства его самого и его семьи. Второй способ состоит в том, что общество-система вырабатывает такие методы производства, которые повышают производительность и позволяют уменьшить количество труда и рабочего времени, необходимых для воспроизводства рабочего и его детей:
«Прибавочную стоимость, производимую путем удлинения рабочего дня, я называю абсолютной прибавочной стоимостью. Напротив, ту прибавочную стоимость, которая возникает вследствие сокращения необходимого рабочего времени и соответствующего изменения соотношения величин обеих составных частей рабочего дня, я называю относительной прибавочной стоимостью» (Маркс и Энгельс 1954-1981, т. 23, с. 325).
В традиционном обществе важнейшим отношением было отношение между прибавочной и необходимой деятельностью, между источником досуга и источником выживания. В обществе, основанном на купле-продаже труда, важнейшим отношением становится отношение между прибавочной и необходимой стоимостью, между источником прибыли и источником заработной платы. В коммерческом обществе норма прибавочной деятельности превращается в норму прибавочной стоимости. Вся история капитала есть история увеличения прибавочного труда за счет сокращения трех других частей добавленной деятельности:
«“Что такое рабочий день?” Как велико то время, в продолжение которого капитал может потреблять рабочую силу, дневную стоимость которой он оплачивает? Насколько может быть удлинен рабочий день сверх рабочего времени, необходимого для воспроизводства самой рабочей силы? На эти вопросы, как мы видели, капитал отвечает: рабочий день насчитывает полных 24 часа в сутки, за вычетом тех немногих часов отдыха, без которых рабочая сила делается абсолютно негодной к возобновлению своей службы. При этом само собой разумеется, что рабочий на протяжении всей своей жизни есть не что иное, как рабочая сила, что поэтому все время, которым он располагает, естественно и по праву есть рабочее время и, следовательно, целиком принадлежит процессу самовозрастания стоимости капитала. Что касается времени, необходимого человеку для образования, для интеллектуального развития, для выполнения социальных функций, для товарищеского общения, для свободной игры физических и интеллектуальных сил, даже для празднования воскресенья – будь то хотя бы в стране, в которой так свято чтут воскресенье, – то все это чистый вздор!» (Маркс и Энгельс 1954-1981, т. 23, с. 274).
Глядя на современную ему хозяйственную практику раннего промышленного общества, Маркс отмечал, что потребление рабочих оказывается сведено к необходимому труду (стоимости рабочей силы) v и к «немногим часам» необходимого потребления h, что прибавочное потребление по существу исчезло, и все время жизни рабочего оказывается подчинено извлечению прибавочного труда m, присваиваемого капиталистами. Таким образом, потребление сводилось к простому воспроизводству рабочей силы, к повторению одного и того же минимального субъекта из поколения в поколение. Во времена, когда Маркс писал «Капитал», сколько-нибудь серьезное образование для представителей рабочего класса было практически исключено:
«Для того чтобы преобразовать общечеловеческую природу так, чтобы она получила подготовку и навыки в определенной отрасли труда, стала развитой и специфической рабочей силой, требуется определенное образование или воспитание, которое, в свою очередь, стоит большей или меньшей суммы товарных эквивалентов. Эти издержки на образование различны в зависимости от квалификации рабочей силы. Следовательно, эти издержки обучения – совершенно ничтожные для обычной рабочей силы – входят в круг стоимостей, затрачиваемых на ее производство» (Маркс и Энгельс 1954-1981, т. 23, с. 182-183).
В этом состояло принципиальное отличие рабочего от капиталистического предпринимателя. Как и рабочий, предприниматель получает свои доходы от работы, от участия в процессе производства, тот и другой являются работниками. Однако рабочий и предприниматель выполняют в производстве две принципиально разные функции. Предприниматели занимаются созданием и организацией рабочих мест, а рабочие – трудом, то есть приведением рабочих мест в движение. Соответственно этому деятельную силу можно разделить на предпринимательскую и рабочую силу. На ранних этапах расширенного самовоспроизводства предпринимательская деятельность была значительно сложнее, чем труд рабочего, и опыт предпринимателя был гораздо богаче, чем опыт рабочего. Однако по мере развития производства необходимый опыт рабочего постепенно приближался к опыту предпринимателя. Возрастание смыслов, происходившее по мере развития капиталистического общества-системы, вело к возрастанию сложности рабочей силы. К концу XIX века и в особенности в XX веке учеба и игра уже были деятельностью, необходимой для воспроизводства работника, будь то предприниматель или рабочий.
Эволюция общества-системы показала, что возрастание сложности средств деятельности требует возрастания сложности деятельной силы, накопление капитала на одной стороне требует накопления культурного и индивидуального опыта на другой стороне. Расширенное самовоспроизводство общества-системы требует расширенного потребления. А такое расширенное потребление, то есть накопление деятельной силы, может осуществляться только за счет прибавочной деятельности. Образование и воспитание требуют не только большей или меньшей суммы товарных эквивалентов сверх необходимого труда, то есть участия в прибавочной стоимости, но и того или иного свободного времени. Начальное, среднее и высшее образование представляют собой не что иное, как прибавочную стоимость и досуг, расходуемые на накопление культурного и индивидуального опыта, то есть накопление деятельной силы – как в ее форме предпринимательской силы, так и в ее форме рабочей силы.
В XX веке деятельную силу стали называть «человеческим капиталом». Маркс в свое время подвергал критике это понятие, когда указывал, что продавая рабочую силу, рабочий получает лишь необходимую стоимость, но не участвует в присвоении прибавочной стоимости, и что поэтому рабочую силу называть капиталом неправильно:
«Эти экономисты говорят: одни и те же деньги реализуют здесь два капитала; покупатель – капиталист – превращает свой денежный капитал в живую рабочую силу, которую он присоединяет к своему производительному капиталу; с другой стороны, продавец – рабочий – превращает свой товар – рабочую силу – в деньги, которые он расходует как доход, благодаря чему он как раз и оказывается в состоянии снова и снова продавать свою рабочую силу и таким образом сохранять ее; следовательно, сама его рабочая сила и есть его капитал в товарной форме, являющийся постоянным источником его дохода. В действительности же рабочая сила есть его достояние (постоянно возобновляющееся, воспроизводящееся), а не капитал» (Маркс и Энгельс 1954-1981, т. 24, с. 499).
Однако развитие начального, а затем среднего и высшего образования по сути означали, что рабочий класс стал принимать участие в присвоении прибавочной деятельности – как в форме прибавочной стоимости, так и в форме досуга. Участие в прибавочной стоимости принимало самые разные виды: рост заработной платы, государственное финансирование образования, пособия на детей, пособия на период безработицы, на повышение квалификации или смену профессии и т. д. При этом с возрастанием деятельной силы росла величина необходимой деятельности. То количество деятельности, которое считалось достаточным для формирования работника в XIX веке, стало совершенно недостаточным столетие спустя. Если в середине XIX века нормой был детский труд на промышленных предприятиях, то есть человек мог вступать в процесс производства, не имея по сути дела никакого образования и опыта, то в середине XX века нормой уже было обучение до наступления совершеннолетия.
Процессы перераспределения прибавочной стоимости носили и субъективный, и объективный характер: они были вызваны и борьбой со стороны рабочего класса за повышение заработной платы, социальные гарантии и сокращение рабочего дня, и потребностями в более квалифицированной рабочей силе со стороны капиталистических предприятий. Чем шире участвовал рабочий класс в присвоении прибавочной деятельности и ее результатов, тем меньше поводов у него было к борьбе с капиталистическим порядком:
«Каким же образом большинству обществ удалось избежать “неизбежной классовой борьбы” и коммунистической революции, предсказанной в “Манифесте”? Согласно одной из теорий прогнозы не оправдались, поскольку угроза революции подтолкнула промышленно развитые страны внедрить меры, направленные на смягчение межклассовой напряженности и неравенства, например за счет расширения избирательных прав и возможности перераспределять богатство, а также роста государства всеобщего благосостояния. Однако есть и альтернативная теория, которая ссылается на критическую роль, которую человеческий капитал начал играть в процессе производства в эпоху индустриализации. Согласно этой точке зрения инвестиции в образование и обучение рабочей силы профессиональным навыкам обретали все большую важность для капиталистов, которые пришли к пониманию, что из всего капитала, находящегося в их распоряжении, именно человеческий является ключевым фактором, способным предотвратить снижение их прибыли» (Галор 2022, с. 89-90).
Потребление, сводящееся к быту h и необходимому труду v, позволяет воспроизводить рабочую силу лишь в постоянном масштабе, обеспечивает лишь простое ее воспроизводство. Для того, чтобы рабочая сила воспроизводилась в расширенном масштабе, чтобы она превратилась в человеческий капитал, необходимо, чтобы потребление включало в себя также некоторую величину досуга f и некоторую долю прибавочной стоимости m. Как расширение производства на предприятии требует инвестицийI, так и расширение деятельной силы, повышение ее квалификации и сложности выполняемого ею труда требует вложений в личные опыт и образование, то есть энвестиций E. Если инвестиции производятся за счет части прибавочной стоимости – прибыли или средств, привлекаемых в счет будущей прибыли, – то энвестиции производятся за счет прибавочной деятельности – досуга и части прибавочной стоимости, которую мы называем надбавкой.
Реальный и номинальный капитал
Коммерческая революция привела к становлению капиталистического предприятия, на котором рабочее место отделяется от места потребления, рабочее время отделяется от времени потребления. Производительный капитал, необходимый для такого предприятия, делится на две части, постоянную и переменную:
«…Та часть капитала, которая превращается в средства производства, т. е. в сырой материал, вспомогательные материалы и средства труда, в процессе производства не изменяет величины своей стоимости. Поэтому я называю ее постоянной частью капитала, или, короче, постоянным капиталом. Напротив, та часть капитала, которая превращена в рабочую силу, в процессе производства изменяет свою стоимость. Она воспроизводит свой собственный эквивалент и сверх того избыток, прибавочную стоимость, которая, в свою очередь, может изменяться, быть больше или меньше. Из постоянной величины эта часть капитала непрерывно превращается в переменную. Поэтому я называю ее переменной частью капитала, или, короче, переменным капиталом» (Маркс и Энгельс 1954-1981, т. 23, с. 220).
В отличие от Маркса, мы не сводим источник прибавочной стоимости к одной только рабочей силе, к труду рабочего. Как уже было показано, источником прибавочной деятельности, а следовательно и источником прибавочной стоимости, является разница между энтропией деятельной силы и сходящейся к ней сложности труда рабочих и предпринимателей с одной стороны – и энтропией общества-системы в целом и сходящейся к ней сложности совокупной деятельности с другой стороны. Это означает, что источником прибавочной стоимости является не голая сила рабочего, лишенного каких-либо средств, а деятельная сила работника, вооруженного средствами производства. В условиях капиталистического производства работник или трудовой коллектив, находящиеся за пределами предприятия, то есть лишенные средств производства, не в состоянии произвести ни необходимую, ни прибавочную стоимость. И необходимая, и прибавочная стоимость являются продуктами рабочей деятельности, осуществляемой на капиталистическом предприятии. Такую деятельность могут вести лишь рабочие и предприниматели, соединенные со средствами производства. Сложность средств производства является неотъемлемой частью сложности труда. Не только переменный, но и постоянный капитал является источником добавленной стоимости – и ее необходимой, и ее прибавочной частей.
При этом капиталистический, или расширенный, порядок служит средством для извлечения прибавочной стоимости, понуждая рабочего производить больше труда, работать дольше и более интенсивно, чем это было бы необходимо для простого воспроизводства его самого и его семьи. Маркс сводил это понуждение к эксплуатации: «В процессе производства капитал развился в командование над трудом, т. е. над действующей рабочей силой, или самим рабочим. Персонифицированный капитал, капиталист, наблюдает за тем, чтобы рабочий выполнял свое дело как следует и с надлежащей степенью интенсивности» (Маркс и Энгельс 1954-1981, т. 23, с. 319). Однако на деле порядок действует и через самоэксплуатацию, которая вызывается возможностью получить надбавку и культурой* потребительства.
Эксплуатация рабочих со стороны капиталистов проявляла себя наиболее ярко на ранних этапах промышленной революции в форме удлинения рабочего дня, то есть при производстве абсолютной прибавочной стоимости: «… Чрезмерное удлинение рабочего дня предстало перед нами как характернейший продукт крупной промышленности» (Маркс и Энгельс 1954-1981, т. 23, с. 519). Однако, если величина рабочего дня ограничивается, как это происходило и законодательно, и на практике, то уменьшение необходимой части рабочего дня за счет повышения производительности, то есть производство относительной прибавочной стоимости, нельзя свести к одной лишь эксплуатации. В этом случае становится очевидно, что рабочие производят больше, чем потребляют, потому что они участвуют в социально-культурном процессе разделения, сложения и умножения смыслов.
Капитал, задействованный на капиталистическом предприятии, мы называем реальным капиталом. По существу, реальный капитал – это и есть действующее капиталистическое предприятие. Иными словами, реальный капитал – это капиталистическое производственное действие и его результат. Процесс кругооборота реального капитала проходит через три стадии, включающие в себя денежный капитал Д, товарный капитал Т и производительный капитал П. Как и Маркс, мы разделяем производительный капитал на постоянный и переменный – постольку, поскольку постоянный капитал c превращается в средства производства Сп, а переменный капитал v – в живую деятельную силу Р.
«Первая стадия: Капиталист появляется на товарном рынке и на рынке труда как покупатель; его деньги превращаются в товар, или проделывают акт обращения Д – Т.
Вторая стадия: Производительное потребление купленных товаров капиталистом. Он действует как капиталистический товаропроизводитель; его капитал совершает процесс производства. Результатом является товар большей стоимости, чем стоимость элементов его производства.
Третья стадия: Капиталист возвращается на рынок как продавец; его товар превращается в деньги, или проделывает акт обращения Т – Д.
Следовательно, формула для кругооборота денежного капитала такова: Д – Т … П … Т' – Д', где точки обозначают, что процесс обращения прерван, а Т', равно как и Д', означает Т и Д, увеличенные на прибавочную стоимость» (Маркс и Энгельс 1954-1981, т. 24, с. 31).
Эта схема применима не только к промышленному, но и к торговому, финансовому и любому иному капиталистическому предприятию, целью которого является получение и накопление прибавочной стоимости или прибыли. При этом меняется только характер необходимых товаров, рабочей силы и средств производства: например, для торгового предприятия средства производства сводятся к торговому оборудованию и товарам для перепродажи, для финансового предприятия – к биржевым терминалам и ценным бумагам и т. д. Во всех этих случаях ведение предприятия предполагает наем рабочей силы и покупку средств производства, необходимых для осуществления производственного процесса – будь то в сфере промышленности, торговли, услуг или финансов. Во всех этих случаях результатом производственного процесса является продукт, который в своей товарной форме Т' должен быть продан на рынке, превращен в Д', и дело не меняется от того, является ли этим продуктом промышленное изделие, товар в розничной или оптовой сети, услуга или финансовый продукт.
Принципиально иной характер имеет кругооборот второго вида капитала, который Маркс называл фиктивным, а мы называем номинальным. Это – капитал, обращение которого не предполагает организации какого-либо предприятия. Обращение номинального капитала основано на участии капиталиста в прибылях капиталистических предприятий посредством инвестирования в ценные бумаги и иные активы, то есть в права собственности:
Иллюстрация 6. Обращение реального капитала Д
– Д
' и обращение номинального капитала Д
– Д
'.
Таким образом, денежный капитал Д играет двоякую роль. Как элемент в обращении реального капитала Д
он служит созданию прибавочной стоимости в процессе производства, возрастая до Д
'. Как элемент в обращении номинального капитала Д
он служит извлечению дохода от инвестиций в ценные бумаги и другие права, возрастая при этом до Д
'. Исторически денежный капитал Д
начинается с отдельных актов кредитования предприятий и с формирования сравнительно небольших кредитных и банковских капиталов, но становление капиталистического общества-системы захватывает и сферу кредита, разделяя, складывая и умножая кредитные действия, превращая кредитные операции в систему номинального капитала, вплоть до огромных акционерных обществ. «Кредит создает акционерный капитал» (Маркс и Энгельс 1954-1981, т. 25, ч. II, с. 9). Необходимо подчеркнуть, что процент не является продуктом финансового предприятия, которое выполняет функции посредника при осуществлении инвестиций. Процент извлекается из кредитуемого предприятия. Брокер не производит доходы держателей ценных бумаг, он производит лишь услугу, за которую получает свою комиссию.
Реальный капитал, или предприятие, приносит прибыль. Номинальный капитал, или собственность, приносит процент. Доходы на номинальный капитал мы называем процентом на капитал или просто процентом, хотя в хозяйственном обиходе они имеют самое разное наименование в зависимости от вида актива, в который осуществляется инвестирование. Это касается, например, дивидендов, и в целом доходов от вложений в акции. Как выразился Маркс, «прибыль принимает здесь чистую форму процента» (Маркс и Энгельс 1954-1981, т. 25, ч. I, с. 480). Если реальный капитал служит процессупроизводства капитала – извлечению прибавочной стоимости из процесса производства, то номинальный капитал служит процессу обращения капитала – извлечению процента из действующих предприятий, перетоку стоимости между странами, отраслями и предприятиями, направлению капитала в те предприятия, от которых инвесторы ожидают наибольшей доходности. Реальный и номинальный капиталы есть лишь две формы капитала как самовозрастающей стоимости. Маркс называл эту самовозрастающую стоимость, пронизывающую все условия деятельности в коммерческом обществе, капиталом или капитальной стоимостью: «Средства производства, с одной стороны, рабочая сила – с другой, представляют собой лишь различные формы существования, которые приняла первоначальная капитальная стоимость в результате совлечения с себя денежной формы и своего превращения в факторы процесса труда» (Маркс и Энгельс 1954-1981, т. 23, с. 220).
В условиях капиталистического производства средства деятельности «оживают» и предстают перед нами в лице собственников номинального капитала – собственного и заемного. Связь между стоимостью средств деятельности и номинальным капиталом можно наглядно увидеть в балансе капиталистического предприятия. Если отвлечься от дебиторской и кредиторской задолженностей, связанных с состоянием текущих расчетов, то пассивы предприятия сводятся к номинальному капиталу, равному сумме собственного капитала, заемного капитала и нераспределенной прибыли, а активы – к реальному капиталу, воплощенному в товарах, деньгах и средствах производства.
Иллюстрация 7. Баланс капиталистического предприятия
Капиталист, учредивший предприятие за счет собственного денежного капитала, выполняет обе функции – функцию активного организатора реального производства, или предпринимателя, и функцию пассивного собственника номинального капитала, или инвестора. Такой капиталист получает всю прибыль, которую приносит предприятие. Если же предприятие учреждается за счет привлечения стороннего денежного капитала – как, например, в случае учреждения корпорации – то акционеры, пассивные капиталисты, получают процент, а руководители предприятия, которые выполняют функцию активного капиталиста, получают разницу между валовой прибылью и процентом – чистую прибыль или предпринимательский доход. В этом предельном случае доход активного капиталиста сводится к доходу от предпринимательской деятельности, то есть представляет собой некоторую разновидность доходов от деятельности.
В этом разделении обнаруживается принципиальная разница между природой неопределенности и природой риска. Если прибыль предприятия выступает как интегральный показатель неопределенности, связанной с его функционированием, то отделение процента от прибыли указывает на ту часть неопределенности, которую можно превратить в риск. Процент – это показатель риска. При этом предпринимательский доход оказывается той частью неопределенности, которая принципиально не поддается превращению в риск, то есть той частью дохода, для которой в принципе нельзя рассчитать вероятность ее получения или не получения. Фрэнк Найт, который первым провел различие между неопределенностью и риском, писал в своей работе «Риск, неопределенность и прибыль» (1921):
«Следует сделать еще несколько замечаний по поводу связи между прибылью и обусловленными контрактами долями дохода. Мы уже говорили в историческом введении, что старые английские экономисты употребляли термин “прибыль” в смысле дохода собственника делового предприятия, причем последний, по сути, трактовался как инвестор. Следовательно, поскольку классическая экономическая теория занималась в основном проблемами долгосрочного периода, в ее рамках почти не проводилось различия между прибылью и процентным доходом. Признавалось, что одним из элементов дохода является заработная плата; кроме того, учитывался фактор риска. Но очень мало говорилось о том, что именно этот фактор лежит в основе различия между прибылью и процентным доходом: ведь обычный процентный доход по контракту очевидным образом содержит элемент платы за риск» (Найт 2003, с. 287).
Номинальный капитал служит решению задачи по отделению риска от неопределенности, но он не дает окончательного решения. Помимо риска, процент может включать в себя ту или иную долю неопределенности, что проявляется, например, в различной доходности по разным финансовым инструментам: в отличие от фиксированной доходности по облигациям, переменная доходность на акции включает в себя ту или иную часть предпринимательского дохода. И наоборот, предпринимательский доход включает в себя ту или иную долю процентных доходов, если его получатель является также собственником доли в капитале предприятия:
«В большинстве случаев попытки провести четкую грань между прибылью и процентом неплодотворны, поскольку чистый процент – почти столь же редкое явление и расплывчатое понятие, как и чистая прибыль. Главным фактом организации бизнеса является специализация предпринимательской функции, но по причинам, которые теперь должны быть понятны, она не может быть теоретически полной. Предприниматель почти всегда должен обладать какой-то собственностью, а владелец собственности, используемой в бизнесе, вряд ли будет свободен от всякого риска и ответственности» (Найт 2003, с. 288-289).
Несмотря на то, что между прибылью, предпринимательским доходом и процентом исторически отсутствует четкая грань, постепенно углубляющееся различие между ними является, как мы увидим, одним из тех важнейших факторов, которые определяют динамику капиталистического общества-системы.
Капитал и собственность
В традиционном обществе государь совмещал в своих руках и функции государственного управления, и право собственности на землю, то есть был политическим собственником. Политическая собственность означает, что общественные функции – например, исполнительная и судебная власть – осуществляются ради получения экономических выгод:
«В феодальном обществе многое из того, что сейчас мы, в том числе и самые рьяные приверженцы частной собственности, считаем исключительной прерогативой государственного управления, управлялось с помощью специфического механизма: на наш взгляд, дело обстояло так, как будто эти общественные функции были превращены в объект частной собственности и стали источником частного дохода. … Люди, лишенные чувства историзма, могут воспринять такую систему как сплошные “злоупотребления”. Но это совершенно нелепый взгляд. В тех исторических условиях – а, как и любая институциональная система, феодализм полностью не исчез с окончанием “собственно феодальной” эпохи – подобный механизм был единственно возможным способом осуществления функций общественного управления» (Шумпетер 2008, с. 590).
Период феодализма показал, что политическая собственность, изначально собранная в руках государя, подвержена дроблению между владельцами поместий. Коммерческая революция, которая началась в период феодальной раздробленности, в свою очередь продемонстрировала, что по мере своего дробления и в условиях конкуренции с коммерческой категорией политическая собственность лишается общественных функций и превращается в частную собственность.
В условиях средневековой политической собственности землевладелец изымает в форме ренты практически весь прибавочный продукт, поскольку присвоение прибавочного продукта основывается на внеэкономическом принуждении лично зависимого крестьянства, крестьяне получают лишь необходимый продукт и не получают надбавки, предпринимательство и предпринимательский доход практически отсутствуют. Трансформация политической земельной собственности в частную приводит к разделению земельной ренты на две части, из которых одна часть представляет собой процент на капитал, взятый в специфической форме земельного участка, а вторая часть – предпринимательский доход от деятельности, эксплуатирующей плодородие участка или выгоды его местоположения. В коммерческом обществе земля имеет стоимость постольку, поскольку она имеет смысл, и она является капиталом постольку, поскольку ее стоимость самовозрастает. В этом плане земельная собственность и ее титулы ничем не отличаются от любого другого вида активов.
Отрываясь от земли, лично зависимые работники превращаются в наемных рабочих, а наемный труд становится предпосылкой для роста масштабов производства, концентрации рабочей силы и средств производства на капиталистических фермах и фабриках, для возрастания специализации и кооперации, роста совокупной социально-культурной сложности. По мере того, как сложность общества-системы возрастала относительно сложности индивидов, возрастала и величина прибавочной стоимости, а следовательно и возможности ее накопления. Накопление прибавочной стоимости является необходимым условием для перехода от простого к расширенному самовоспроизводству. «Если оставить в стороне те помехи, которые затрудняют воспроизводство даже в прежнем масштабе, то возможны только два нормальных случая воспроизводства: Или имеет место простое воспроизводство. Или имеет место капитализация прибавочной стоимости, т. е . накопление» (Маркс и Энгельс 1954-1981, т. 24, с. 364).
Расширенное самовоспроизводство неразрывно связано с развитием промышленности. Но промышленность не могла возникнуть одномоментно, ей предшествовал длительный процесс коммерческой революции, процесс превращения традиционного аграрного общества, основанного на культуре самообеспечения, в коммерческое общество, основанное на системе капитала. Индустриализации предшествовала коммерциализация:
«Поскольку наша цивилизация – индустриальная, современные экономисты склонны рассматривать индустриализацию как краеугольный камень экономического роста. Поскольку кредит играет первостепенную роль в финансировании новых отраслей, они часто смотрят на него как на волшебную палочку, чтобы разбудить спящий потенциал роста. История, однако, как бы предупреждает нас, что в слаборазвитой стране кредит нелегко достается тем, у кого нет капитала, что индустриализации должна предшествовать коммерциализация» (Lopez 1976, p. 6-7).
В традиционном обществе условия производства предстают в их натуральной форме, количество смыслов здесь выражается в технических единицах: пудах хлеба, му земли, ярдах ткани. По мере перехода к развитому товарному производству добавленная деятельность превращается в добавленную стоимость и условия производства предстают в виде не только технических, но и стоимостных единиц. Это превращение не сводится к появлению новых единиц измерения, оно отражает интеграцию разрозненных общин в единое общество-систему и становление стоимости как общественно необходимой массы культурных битов.
Концентрация рабочей силы и средств производства на капиталистических предприятиях подчиняется законам строения смыслов, превращающимся в законы строения капитала. Как было показано в главе 3, строение смысла – это отношение между той массой смыслов, которая заключена в средствах деятельности, и той массой смыслов, которая заключена в субъекте. Применительно к капиталистическому производству Маркс называл это отношение техническим строением капитала:
«Рассматриваемый со стороны материала, функционирующего в процессе производства, всякий капитал делится на средства производства и живую рабочую силу; в этом смысле строение капитала определяется отношением между массой применяемых средств производства, с одной стороны, и количеством труда, необходимым для их применения, – с другой» (Маркс и Энгельс 1954-1981, т. 23, с. 626).
Поскольку в капиталистическом обществе-системе субъект превращается в рабочую и предпринимательскую силу, а средства производства – в капитал, постольку техническое строение капитала с необходимостью дополняется его стоимостнымстроением: «Рассматриваемое со стороны стоимости, строение определяется тем отношением, в котором капитал делится на постоянный капитал, или стоимость средств производства, и переменный капитал, или стоимость рабочей силы, т. е. общую сумму заработной платы». Стоимостное строение капитала, «поскольку оно определяется техническим строением и отражает в себе изменения технического строения», Маркс называет органическим строением капитала (см. Маркс и Энгельс 1954-1981, т. 23, с. 626).
Чем выше необходимая стоимость (то есть стоимость рабочей и предпринимательской силы) относительно стоимости средств производства, тем ниже стоимостное строение капитала; и напротив, чем больше величина постоянного капитала относительно величины переменного капитала, тем выше строение капитала. Еще раз оговоримся, что в отличие от Маркса мы включаем в необходимую стоимость и, следовательно, переменный капитал также ту часть предпринимательских доходов, которая необходима для простого воспроизводства деятельной силы предпринимателей. В неоклассической экономической теории существует понятие, аналогичное строению капитала – глубина капитала. Чем больше стоимость средств производства относительно числа работников или стоимости их труда, тем глубже капитал.
Хотя капиталистические предприятия были результатом безличного процесса коммерческой революции, соединившего людей в новых, не виданных прежде общностях, они были основаны также на новом типе личности, ставящей успех на коммерческом поприще превыше церковной или военной карьеры, и посвящающей коммерции всю свою жизнь:
«… Лишь тогда, когда капиталистическое предпринимательство – сперва в области торговли и финансов, затем в области горнодобычи и, наконец, в промышленности – показало, какие оно сулит перспективы, особо одаренные и дерзновенные личности стали наконец обращаться к бизнесу» (Шумпетер 2008, с. 504). «… Имеется различие между тем, когда человек делает то, что он считает основным делом своей жизни, к которому он готовит себя постоянно, которое является для него мерилом личного успеха или неудачи, и тем, когда человек занимается несвойственным ему делом, к которому не располагает ни его обычная работа, ни его менталитет» (Шумпетер 2008, с. 509).
Лишь то предприятие имеет успех, за которым стоит личный интерес и сила воли предпринимателя. Именно личность предпринимателя является ключевой для создания капиталистического предприятия. «Его роль, хотя она и не может сравниться славой с ролью больших и малых средневековых военачальников, также есть и была одной из форм индивидуального лидерства, основанной на авторитете личности и личной ответственности за успех» (Шумпетер 2008, с. 514).
Возрастание смыслов приводит не только к переходу от традиционного общества к коммерческому, не только к переходу от самообеспечения к капиталу, но и к переходу от частного владения к частной собственности. Общая теория капитала, думается, со временем сможет дать ответ на вопрос, поставленный Виктором Новожиловым в его последней работе «Рост и развитие» (около 1970 года):
«Как математически отобразить степень соответствия той или иной формы собственности состоянию (уровню развития) производительных сил? Формулировки этого закона, которые даны основоположниками марксизма-ленинизма, не представляют такой возможности. Для математической интерпретации марксистской теории развития экономики нужны указания на те количественные изменения в состоянии производительных сил, от которых зависят количественные характеристики соответствия каких-то показателей производственных отношений, приводящих к качественным изменениям формы собственности на средства производства. Концепция Маркса содержит огромный материал, но не в подготовленном для формализации виде. В нем нужно еще отыскать количественные законы развития» (Новожилов 1995, с. 61).
Предварительные соображения могли бы состоять в том, что смена форм собственности определяется численностью людей и сложностью смыслов, которые организуются в рамках этих форм, а также соотношением между культурным отбором и выбором. «…Нужно определить пределы информационной мощности для систем, возможные при различных формах собственности … Информационная мощность управляющей системы – это функция от числа возможных состояний управляемой системы» (Новожилов 1995, с. 66, 70). Для сколько-нибудь полного ответа на этот вопрос, конечно, необходимы дальнейшие исследования.
В главе 3 мы показали, что в процессе возрастания социально-культурного порядка частное владение как право пользователя, основанное на его личном труде, в традиционном обществе постепенно дополнялось, а иногда и замещалось политической собственностью как правом непользователя, основанным на политических, экономических и культурных* нормах. В коммерческом обществе частное владение почти полностью вытесняется частной собственностью, непосредственные производители утрачивают право распоряжаться необходимыми им средствами производства и вынуждены продавать не продукты своего труда, а свою рабочую силу. «Частная собственность, основанная на личном труде, вытесняется капиталистической частной собственностью, основанной на эксплуатации чужого труда, на труде наемном» (Маркс и Энгельс 1954-1981, т. 19, с. 250).
Частная собственность возникает в интересном промежутке между частным владением и политической собственностью. Частное владение соответствует низкому техническому строению капитала: деревянная соха или прялка имеют относительно небольшую сложность по сравнению со сложностью рабочей силы. Политическая собственность соответствует высокому строению капитала – например, крупные ирригационные системы гораздо сложнее, чем те рабочие, которые используют их в качестве средств производства. По мере накопления прибавочной стоимости и возрастания смыслов деятельность уже не может быть организована на основе частного владения: крестьянин может в одиночку изготовить для себя деревянную соху, но не стальной плуг или тем более трактор. Но деятельность не может быть организована и на основе одной только политической собственности: государство не может эффективно вести большое количество разнообразных предприятий, если для каждого из этих предприятий нет лично заинтересованного владельца.
Хотя частная собственность развивалась благодаря накоплению прибыли и возрастанию реальных капиталов, именно номинальный капитал стал воплощением капиталистической частной собственности. При этом частная собственность возрастала как за счет разорения и захвата частных владений, так и за счет дележа политической собственности и владений общин:
«Общепринятая модель предполагает, что прежде возникает эффективное частное обладание, а затем уже создается государство, чтобы его легитимировать. В определенной степени именно это и происходило начиная с XII века в рамках движения огораживания как части перехода к капитализму. Но, как мы видели в первых главах, эффективное частное обладание вплоть до настоящего момента обычно создавалось с помощью государства. Обычно дезинтеграция обширного государства давала провинциальным агентам и союзникам возможность захватывать и удерживать публичные общественные ресурсы в собственных интересах. Сущностно необходимой предпосылкой этого была возможность спрятать ресурсы из публичного владения» (Манн 2018-2019, т. 1, с. 566-567).
Развитие частной собственности не сводилось к присвоению ресурсов государств и частных владельцев, в ходе этого развития подрывались и основы общинного владения. Наряду с частными благами, которые можно разделить между индивидами, существуют также общественные блага, которые невозможно разделить, которые могут находиться лишь во владении общины в целом. Трагедия общины состояла в том, что в условиях, когда частное владение превращается в частную собственность, община оказывается не способна выступать как единое целое, как субъект коллективного действия и субъект общественного выбора. Выгоды от общих ресурсов разделяются между частными лицами, но частные лица не могут договориться между собой, как воспроизводить эти ресурсы. Трагедия общины являлась следствием разделения социально-культурного порядка, разложения традиционных социальных связей, утраты доверия между членами общины.
Прирост социально-культурной сложности, то есть сложности совокупной деятельности, основанной на специализации и кооперации, невозможен без разделения социально-культурного порядка. Разделение порядка направлено на преодоление неопределенности, и как таковое оно ведет к отделению рисков от неопределенности и к разделению рисков. Важнейшими чертами в возрастании капиталистического порядка стали отделение собственности от владения, отделение номинального капитала от реального капитала, отделение процента от прибыли. Впрочем, номинальный капитал вовсе не является первым или последним из известных людям способов разделять риски. Исторически разделение рисков было построено на технологических, организационных и психологических механизмах: накопление и распределение урожая, комменда и акционерные общества, страхование и перестрахование, налоговый и корпоративный контроль и т. д. и т. д.:
«… Комменда была ближайшим средневековым предшественником наших акционерных обществ, которые привлекают инвестиции любого размера от самых разных людей, несут ограниченную ответственность и не чувствуют себя обязанными давать подробные отчеты акционерам. Без сомнения, комменда заключалась только на одно плавание, но ничто не мешало удовлетворенному кредитору снова и снова доверять свой капитал одному и тому же управляющему» (Lopez 1976, p. 77).