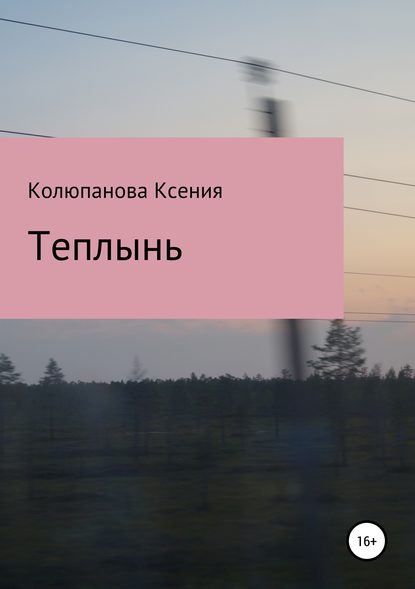 Полная версия
Полная версияТеплынь

Теплынь
По морде Ваньке съездили любовно и как-то по-отцовски нежно.
Нежность Ванька не оценил и получил по морде второй раз. Молодое, пьяное тело припало ко влажной земле.
Пока Ванька летел, на груди тонко звякнула связка колокольчиков – как пригоршня серебряной чешуи осыпалась на землю вместе с Ванькой. Осыпалась, разлетелась со звоном, – и пошла, хрусткая, по-над землей, обрастая по дороге то ли набатными колоколами, то ли басовитыми церковными. Языки лупили по железу отовсюду – сверху, слева, снизу, даже откуда-то из-за Левки лупили, сливаясь в один дрожащий гул.
Так казалось Ваньке.
Молодое и пьяное сидело, ошалевшее, и одной рукой прочесывало влажную от росы траву, а второй аккуратно ощупывало лицо.
– Пошумел и хорош, – спокойно сказал Левка, протягивая руку.
Левка – тихий, пока не спросишь – не заговорит, умел быть убийственно спокойным. И всем своим упертым видом вызывал непререкаемое уважение. Я хотела бы так же, как он – врезать кому-нибудь, а потом подавать руку, и чтоб все вокруг кожей чувствовали мое самообладание. Внутри, может, Левку и колотило, но – не выдавал.
Ванька поглядел ладонь, только что чуть не снесшую ему скулу. Подумал немного. Разумно решил пойти на мировую. Он рывком подтянулся на Левкиной руке – Левка покачал головой:
– Ну и язык у тебя. Как у колокола.
Ванька отряхнул руки от прилипшей травы, снова осторожно потрогал лицо, покосился на Левку и ничего не ответил.
***
Когда я смотрю на Ваньку – сразу вижу себя в детстве. Вот мне двенадцать лет. Бабушка с вечера попросила собрать яблоки – хотела отдать их кому-то с утра.
Забылось.
Тишина в саду густая, атласная, хоть ножом режь. Все в ней тонет – я тоже нырнула и стала неслышной. Не лают собаки, не шелестит трава. Только спиной чувствуется, как беспокойно ходит волнами картофельное поле.
Сначала поднимаю шершавый камень. Двумя пальцами поднимаю – двумя пальцами швыряю, стараясь сбить с ветки круглое, здоровое яблоко, но – мимо. Тогда я пытаюсь раскачать яблоню, но ствол большой и тяжёлый. Да и темень – на слух что ли искать?
Я паникую. Хожу вокруг яблоньки – и никак.
Дура. Дура. Дура-то какая, господи.
В деревнях почему-то всегда яблони зовут яблоньками. А груши – грушеньками. Такое неудобное слово: путается во рту, нелепо бьётся о зубы, мягкий знак теряется, и выходит чёрт-те что. “Грушенка”. А все равно. Такую честь – больше никому. Яб. Лонь. Ка. Гру. Ше…
Ну же, милая. Пожалуйста.
Я нелепо прыгаю к ветвям – и пытаюсь ухватиться. Пригибаю их ниже, осторожно, чтоб не обломить, и, не глядя, рву – одной рукой обрываю: удержать бы, удержать, удержать!
Иногда откусываю. И снова рву.
Справа от меня кто-то шмыгает в смородине – шевелится куст. Мне становится страшно. Я отпускаю ветку – прижимаю к себе собранное, и утихаю совсем. Не двигаюсь. Страх горлом идет – попробуй, пискни.
Я храбрая, но не сейчас.
Внутри неприятно холодит. Исчезнуть хочу, раствориться. Растворяюсь совсем: я там, я здесь, я взгляд, я слух – я слышу, как в конце деревни звенит ложка в чашке чая и гремит собачья цепь за километр отсюда.
Вот дура. Два часа ночи, какой чай.
Может бабушка заметила, что меня нет дома? Может, она меня ищет? Куст снова оживает – я, не думая, хватаю самое тяжелое яблоко и
швыряю в него. Остальные – падают из рук, грузно рассыпаются, а ноги несут меня обратно. Я боюсь, мне страшно, я хочу домой.
Добегаю до калитки. И вспоминаю. Обещала.
Делаю все быстро и шумно, не чуя ни ног, ни рук, ни о чем, кроме страха не размышляя. Схватил меня изнутри, выворачивает, в горле стоит – горлом идет, и подгоняет. Рву яблоки, гну ветки, уже не волнуясь за их сохранность.
По спине бегут мурашки.
Задираю подол футболки и заворачиваю собранное. Подол становится мокрым. Бегу. Залезаю на подоконник, спрыгиваю в дом, и, тая в шагах остатки садовой тишины, высыпаю тяжелые яблоки на стол. Голова у меня такая же тяжелая. И сердце бьется часто.
Последнее, что вижу перед сном – яркие слезящиеся звезды.
Утром стол оказался пуст.
Яблонька за окном кудрявилась, шелестела, по-доброму меня поддразнивая. Я не гордилась вчерашним – наоборот, все показалось таким глупым и надуманным, что стало стыдно. Особенно за то, что швырнула яблоком в куст.
Подумала – испугалась бы, снова попадя туда?
Испугалась бы.
Гордо мне все равно не стало. Только легче.
Я лежала в кровати, теплая со сна, и у меня жутко чесались лопатки. Сводила их и чувствовала, как из спины у меня от радости пробиваются маленькие крылья, крылья, крылышки.
И вот, когда я смотрела на Ваньку – то мне казалось, что у него под футболкой пробиваются такие же крылья. Или уже пробились. Или ему достались мои. Если бы Ванька на них взлетел красивой гибкой птицей, по небу рассыпался б светлый хрустальный звон.
На кой черт Ваня носил на груди связку колокольчиков – никто не знал. Мне все время было интересно – моется он тоже с ними, или снимает? У бечевки узел – только топором рубить.
Левка говорит, что с ними он похож на отбившуюся от стада корову, и в чем-то прав. Ванька и без колокольчиков на нее похож. Все, за чтобы он ни принялся, делалось с такой умилительной нелепостью, что хотелось прижать его к груди со словами: «Горе ты моё, горюшко».
Горе скалилось, огрызалось, но колокольчики не снимало.
– Ванька, – спросила я как-то. – Тебе чем нравится заниматься?
– Стрельбой, – затянулся он, докуривая последнюю сигарету.
Мы шли тогда за новой пачкой. Завтра утром я уезжала в Москву, а сегодня день был ласков и пушист – хотелось потрепать его за ухом. Оставалось немного, уже почти дошли – идти было километров семь, может чуть больше. Тогда мы срезали дорогу полями, но проходили, наверное, все одиннадцать.
– Ты стреляешь? – я даже остановилась.
– Стреляет, – ответил за него Левка. – Сначала сигареты у прохожих, потом бычками – по мусоркам. Хоть бы раз попал, косой.
Левка произносил “о”, как “а” и змеей шипел на “с”, поэтому получалось что-то вроде “касссой”.
– Сам касссой, – обиделся Ванька, последний раз затянулся, прицелился и с первого раза попал в мусорку.
Замолчали. Молчали по-разному, все равно что говорили. Ванька – победоносно, я – ни о чем. Левка молчал сначала угрюмо, а затем о чем-то своём: далёком, как тушенка или Остров Святой Елены.
Из магазина Ванька вылетел счастливый и улыбающийся. Если бы у него был хвост – то широко размахивал бы им, подметая пыльные ступени сельмага.
– Ну чё? – поинтересовался Левка, оглядывая его пустые руки и гладкие карманы.
– Нет сигарет! – радостно возвестил Ванька. – Закончились!
– Ну, постреляй, стрелец. Ты чё такой счастливый?
– Не знаю, – очень честно сказал Ванька. – Я не знаю. Мне радостно, и все.
И все.
Я всегда боялась этого чувства – этого совершенно беспричинного счастья. В груди тесно-тесно, что-то щекочет, что-то рвет, и я не иду – бегу почти, да что там, лечу. Думаю, господи, какая ж счастливая – дура-дурой. И постоянно кажется, что за это невыстраданное счастье буду что-то должна. Не знаю, кому – но должна, и виновата, и вообще. Судьба потом, или кто там, скажет: «Вот помнишь, такого-то числа во столько-то часов ходила и лыбилась без повода? Ну, милая, получай несгораемым по голове».
И когда я оплачу его, беспричинное, то буду лежать, приложив ладони к голове (несгораемым-то, а, больно поди). И легко-легко мне будет. Я взяла – я отдала.
Счастье должно быть выстраданным – так мне казалось.
А счастье никому и ничего не должно.
Первый раз Ваньку послали. Второй раз – «Извините, не курю» – тоже послали. Третьей была какая-то девчонка. Девчонка захлопала своими глазищами, что-то промычала и отшатнулась от Ваньки, как от бешеного пса.
Я на всякий случай проверила – точно у него хвост не вырос, пока он околачивался в сельмаге? Бесхвостый. Подумалось, что будь у Ваньки хвост – это был бы коричневый хвостяра, лохматой метелкой и в репьях. Мой хвост был бы меньше, чище и пушистее. Левкин…
Я посмотрела на Левку. Левка щурился и глядел на закат.
Есть люди, рожденные танцевать. Есть люди, рожденные создавать прекрасные полотна. Возводить тяжелые, мрачные, колючие здания, от которых забываешь дышать.
Левка был рожден для того, чтобы стоять и любоваться закатным солнцем.
А я любовалась его красивым и тонким лицом. Тем, что раскосые левкины глаза цвета крепкого чая, и что солнце золотится на волосах, на скулах, и золото это кажется ордынским. Закат вообще, похоже, любил этого потомка Великой Орды. Воздух становился пряным, тени узорчатыми, будто на ковре, и слышалось, как за Левкиной спиной, и поселком, и полями горячо, пряно дышит степное разнотравье.
Мы с Ванькой никак не вписывались в эту восточную палитру. А Левка знал, что он вписывается. И, поймав мой взгляд, благосклонно и спокойно улыбался – разрешал любоваться.
Ванька тем временем шел к нам. Без сигарет, без претензий, без своего кратковременного счастья. Концентрацией презрения во взгляде можно было убивать.
– Через двадцать лет – слышишь, Ксюха? – через двадцать лет мы пересечемся с этой псиной здесь, у сельмага, и псина, не узная меня, тявкнет: прикурить есть? Знаешь, что я скажу этой суке? Знаешь?
– Мяукнешь? – ответил за меня Лева. Незлобно, ласково, будто сам мяукнул.
Ванька зло плюнул.
Что-то зацепило меня в его фразе. Маленьким таким коготочком. Я могла безболезненно выдрать коготок прямо сейчас, не дожидаясь момента, когда нехорошее предчувствие застынет в твердую мысль.
Но не сумела.
И дело было не в куреве – за ванькино здоровье, конечно, переживала, но бог с ним, с куревом – причины навредить своему здоровью этот человек находил на раз-два. Вспомнить хоть ту драку с Левкой – незлобным, спокойным Левкой. Никакой Минздрав уже не спасет.
И даже не в собачьем параллелизме наших с Ванькой метафор.
Я просто представила Ваньку с Левкой через двадцать лет.
Взрослыми, говорю, представила. Коготок заскрёб.
– Погнали к хате, чё, – сказал вдруг Лёвка.
И мы погнали.
***
– Знаешь, когда человек перестает быть ребенком?
– Когда у самого рождаются дети?
– Когда умирают его родители, – Лёва говорит тихо, будто пробуя гортань. Пробуя голос. Меня пробуя, прощупывая. Он нехорошо скалится, запрокидывает зачем-то голову, открывая смуглую шею – беззащитную смуглую шею.
– А ты откуда знаешь?
– Догадался.
Дует сырой ветер, будто холодной воды плеснули за рукав. Лёва щелкает зажигалкой, прикрывая сигарету ладонью. Закуривает.
– А когда он становится взрослым?
Сигарета застывает в пальцах. Он поворачивается ко мне удивленно:
– А?
Тлеет.
Взрослым, говорю, когда становится?
Собственно, этот период между детством и взрослостью – он где?
Расскажите мне, я обведу его красным и буду упиваться до тех пор, пока Ваня с Лёвой не перестанут стрелять сигареты, драться, и гоготать, гоготать без повода. Пока не посерьезнеют вконец – без права и желания сбросить с себя всю ответственность, которую собирали всю жизнь по крупинке, и вышел целый груз.
Пока впервые не подумают: « У меня уже всё есть, всё мне отдали, я пережил все что мог – чего еще хочу я от этой жизни?»
Сигарета ало вспыхивала, будто в чернильном воздухе стучало маленькое горячее сердце.
Конечно же, я ничего из этого не сказала. Промолчала.
Юность смеется над детством, а взрослость забывает юность ¬– ну что ей, думать больше не о чем?
Тут сердце вспыхнуло последний раз. И окурок полетел в траву, рыже дрогнув.
Мне подумалось, что Лёвка раньше никогда не курил.
***
Я их выцепила из толпы деревенской выгоревшей, липко матерящейся пацанвы давно-давно.
Пацанва обычно собиралась у старого сельского клуба. Он теперь и пригоден-то был только для того, чтобы собираться не в нем, а около. От заметной и равноудаленной от домов точки пацанва неровным гогочущим строем шагала к реке – нырять с моста щучкой. Или шла к старой толстой иве – прыгать на ветви и качаться на них, как обезьянье стадо на лианах. Или никуда не шла. Сидела на серых пористых ступенях и резалась в карты, некрасиво матерясь.
Пацанва тогда только открыла для себя матерную лексику и теперь очень нелепо и неумело распоряжалась ей, вставляя через каждое слово.
Я была юркая и умела играть в футбол. Этого хватало, чтобы быть своей.
В тот день белобрысый Лёха обыграл в карты всех. Он сидел с довольным лицом и как бы спрашивал взглядом: кто следующий? Ты? А может ты?
Я сидела под ступенями и прочесывала пальцами клевер, пытаясь найти четырехлистник. Листья были холодные, сочные и тонкие – я сжимала их в ладонях и тут же разжимала.
Сверху послышалась какая-то возня.
– Чё, зассал? – спрашивал кого-то Лёха уже не взглядом, а своим скрипучим голосом.
– Попутал, пёс? – в тон ответили ему.
– Ссыкло, – сделал вывод Лёха.
Второй голос неразборчиво и торопливо запротестовал.
– И на крышу залезешь? – он улыбался, показывая свои замечательные, крепкие белые зубы, вполне пригодные для того, чтобы перегрызть какую-нибудь кость.
– Залезу.
–Докажи.
Через пять минут на крыше уже сидела сухощавая маленькая фигура в синей футболке, жмурилась на солнце и изо всех сил била ногами по скату железной кровли. Крыша была такой высокой, а скат – крутым, что мне стало страшно. Зато фигуре было храбро. Она прекратила бить ногами и завопила:
– Лёха, слабо ко мне?
– Легче легкого, придурь! Это любой сможет, даже, вон, Ксюха! – Он повернулся ко мне, улыбаясь. – Сможешь же, Ксюх?
Я ответила как можно равнодушнее:
– Смогу.
– Ну так айда. Чё ты там ищешь?
Я раздраженно сгребла клевер в горсть и выдрала клок. Встала. Разжала ладонь – клевер мягко посыпался в траву, некрасиво лохматясь стеблями в воздухе.
– Нашла уже всё. Откуда залезать?
Каждый лез по-разному. Пацанва прыгала на крышу трехметровой пристройки, висла на ней, подтягивалась, аккуратно шла по ветхому шиферу к крыше клуба и забиралась еще выше – у кого на какую высоту хватало смелости. Выше всех пока сидел только тот парень в синей футболке. Лёха подбирался к нему. Остальных – человек восемь – разбросало по периметру, и все они выглядели, как беспорядочные воробьи с блестящими глазами.
Я не умела подтягиваться. На деревянную пристройку забиралась, ставя ноги в щели между сырыми трухлявыми досками. Зато по шиферу скакала легко, как горная коза.
Потрогала кровлю ладонью. Она была красная и тёплая от солнца, почти горячая. Мне подумалось, что оттого она и красная – потому что нагрелась, и что Маяковский писал именно о таких крышах, а если не писал, то должен был. По таким крышам должна была шагать октябрьская революция. И еще мне захотелось прижаться к нагретому железу, лечь, распахнув руки, и чтобы сверху светило солнце, а снизу грелась крыша, и я бы прогрелась до жил, до мяса, до костей – пропиталась бы теплом до самого сердца и никогда-никогда бы не остывала и не мёрзла, особенно зимой. Я закрыла глаза.
– Э, черти! Совсем одурели? Вы что там делаете? – Прогремело снизу.
Пацаны настороженно вытянули шеи, а я вжалась в крышу.
Внизу стоял Эпидемия, я узнала по голосу. Он знал всех нас и наших родителей. Это же деревня – здесь все друг друга…
– Ну, падлы!..
Эпидемия кричал очень громко, шел очень быстро, матерился, и, видимо, направлялся прямо к пристройке. Ему было больше пятидесяти, но материться он так и не научился.
Пацаны поняли, что пора валить.
Как будто картошку вытряхнули из ведра – вот такой был звук. Все мигом ссыпались с клуба, не боясь переломать шеи или ноги.
А мой страх стал горлом и не давал мне прыгнуть. Пристройка не казалась, она была высокой. Я с ужасом чувствовала каждую протекающую секунду, я понимала, что не прыгну, и все мои внутренности сейчас как будто промывали холодной водой, и совсем некстати вспомнила, как бабушка полощет в такой белье после стирки, вспомнила бабушку и очень явно почувствовала унижение, которое переживу через несколько секунд. Мне захотелось исчезнуть, раствориться, спрятаться.
Сзади что-то звякнуло. Я вздрогнула и обернулась.
Пацан в синей футболке ласково смотрел на меня. За лаской был страх – он очень остро чувствовался, колючий. Отрывистое:
– Не бойся. Давай. Я за тобой. Это не больно.
Если и этому пацану из-за меня влетит, будет совсем плохо.
И я прыгнула.
Я прыгнула, неожиданно мягко приземлилась и тут же шмыгнула в бурьян, услышав за спиной чей-то топот. Пацан бежал за мной, размахивая одной рукой. Во второй он сжимал что-то, висящее на груди.
Потерять, что ли, боится?
Мы нырнули в посадку. Пахнуло лесной холодной сырью – как с берега в воду бултыхнулись. Посадка была зеленой холодной рекой, которую мы переходили вброд. На дне хрустели сухие сучья и листья; пацан оттягивал ветви, чтобы мне было легче идти. Заросла река, заилела. Я шла, вжавши голову в плечи, и держала ладони прямо перед глазами – ловила густые, шумные ветви. Это была игра. Пацан подавал, я принимала.
По-другому выплыть не получалось.
На другом берегу стоял Лёвка. Спокойно, будто всегда тут был и ждал нас. Я знала только то, что его зовут Лёвка, что пацаны его уважают и никогда не привязываются с тупыми спорами и просьбами. Иногда мы перекидывались с Лёвкой шутками, которые пролетали как бы над головами пацанвы, и это тоже было игрой. Он подавал – я принимала.
Или наоборот.
Тут пацан разжал кулак – оттуда выпала гроздь колокольчиков. Она мелко звякнула и повисла на шее, подвязанная толстой бечевкой.
Я не знала этого пацана. Даже не уверена была, виделись ли мы с ним раньше. А с Лёвкой они, видимо, были знакомы.
– Ну чё, Ванюха? Не спалились?
– Да кому я нужен? – махнул рукой Ванюха. – Эпидемия шуганул да дальше пошёл, делать ему нечего.
Помолчали.
Лёвка сказал жалостливо:
– Ну чё ему, жалко что ли было? Я только на середину залезть успел. Будто он сам раньше по крышам не скакал.
– Правильно шуганул. Переломали бы все, что можно… – Ванька, видимо, представил и сжурился.
– … а скатываться с крыши, будто клуб горит – это, да, залог безопасности. И так орать, будто мы же его подпалили. Все целы?
– А я следил? – голос стал недовольным. Широкие, выцветшие брови нахмурились. – Наверное. Что им будет?
Я слушала их, таких серьезных, таких взрослых, таких смелых – как мне казалось – и не знала, куда себя деть. Тут Лёвка заметил меня. Или как будто заметил. Но посмотрел с новым интересом:
– Ну как, Ксюх? Не струсила?
Пацан ответил за меня:
– Ксюха храбрая.
Мне стало то ли жарко, то ли холодно, то ли сразу жарко и холодно. Внутри хлынуло столько горячей нежности и благодарности, что я чуть ими не захлебнулась.
Лёвка улыбнулся.
***
Ваня ласково смотрит куда-то далеко-далеко, в сизую сырь.
– Ты когда-нибудь думала о том, чтобы делала за день до смерти?
– Думала. И даже писала список три года назад.
Говорит он тоже туда – в прохладное небесное нутро.
– И как?
– За три года успела из этого списка сделать все, кроме одного пункта.
Тут Ваня оборачивается и смотрит на меня. Я впервые замечаю, какое у него поэтичное красивое лицо. Глаза – цвет в цвет сумеречной сыри.
Взгляд мягок и тёпел.
– Какого?
– Умереть.
Он улыбается. Улыбается Ваня тоже ласково, тепло.
– Не спеши. Успеешь еще.
Я боюсь задавать ему такой же вопрос. Поэтому улыбаюсь в ответ, пытаясь перенять улыбку – изгиб в изгиб.
Холодная. И губы мои – холодные и сухие.
Эх, Ваня. Ванечка. Ванюша.
Вот бы нам никогда не успеть.
***
Огороды бурлили под землей живым соком, обрастали толстой ботвой и казались сверху большими ворсистыми коврами.
Сверху – это с крыши.
Мы пошли не к домам, а к клубу и проторчали там до вечера. Поговорили, поразмышляли, горячо поспорили ни о чем с философской серьезностью, пацанячьей горячностью и громкими аргументами; поорали песен и проделали еще тысячу пустячных вещей, прежде чем оказаться на крыше клуба.
Идея появлялась неравномерно и пятнисто. Сначала я вспомнила, как шуганул нас Эпидемия, через десять минут Лёвка швырнул на крышу какой-то камень, а еще через час Ванька с ужасом в глазах вспоминал историю, как он сиганул с крыши какого-то сарая, наступив на осиное гнездо под шифером.
Лёвка спросил, неужели не было лестницы. Ванька сказал, что была и что забирался он по ней, но сбегать от жгучих осиных укусов было быстрее без нее. Я опять вспомнила случай с Эпидемией и клубом. Здесь все сошлось.
В этот раз я забралась на самый верх. Теплый сладкий ветер трепал меня, как кошку, а я боялась, что смахнет на землю. Пальцы вцепились в крышу и побелели. Пацаны сидели рядом.
– Следующим летом приедешь? – спросил кто-то из них так тихо, что я не различила голоса.
– Приеду, куда я денусь, – сказала почему-то так, будто непременно денусь.
Лёвке не понравилась интонация. Он вообще в этом плане музыкант: легко улавливает голосовые полутона и как по нотам читает, что творится у человека в голове и на сердце.
– Ты только попробуй не приехать, – пригрозил.
За нашими спинами шумели деревья посадки, а спереди расстилались поля, дворы, огороды – большими и ровными лоскутами. Если не падать с крыши, можно пялиться хоть вечность. Стояла тишина, замешанная на моем скором уходе.
И я поняла, что сейчас нужно спросить что-то непременно важное, потому что если не спрошу сейчас, то мало ли что – пожар, буря, утону, попаду под машину, под расстрел, под бабушкин нагоняй – и никогда этого важного не узнаю.
Спросить надо было непременно.
И я спросила.
– Вань, – говорю. – Ты моешься вместе с колокольчиками или снимаешь?
Лева заржал. Ванька поднял брови.
– Снимаю, конечно, они ж заржавеют.
– Как ты узел развязываешь? – Я упорно игнорировала лёвкино ржание.
Ванька тоже игнорировал и отвечал спокойно:
– Это калмыцкий.
Он легко дернул за край, колокольчики звякнули, веревка развязалась и спала с шеи. Посмотрел на меня чужо. Потом протянул ее и сказал:
– На. Это тебе.
Даже Лёвка угомонился.
– Не надо может? – Я съежилась под оскорбленным взглядом, который не терпел возражений, а вскоре перестал бы терпеть и меня.
Повязала колокольчики на шее. Своим узлом, обычным.
Жизнь сейчас была острая и ненадежная, как сгиб крыши. Зато парила над детством, юностью, взрослостью – над существованием вообще, в целом. Юность заканчивалась, а все что за ней – еще не началось.
Пацаны сидели рядом и молчали. Родные, хорошие, совершенно безвозрастные, оттого – вечные.
Забродивший к вечеру воздух пах костром и яблоками. Кто-то жег сухую траву.
Ванька смотрел вниз – прикидывал, сколько метров лететь, если, конечно, лететь.
Лёвка барабанил пальцами по крыше.
Я смотрела в размазанное, тихое небо на горизонте и улыбалась неизвестно чему.
… неизвестно, неизвестно, неизвестно чему.

